
Полная версия:
Битвы за правду. Исторические миниатюры

Битвы за правду
Исторические миниатюры
Михаил Андреев-Амурский
© Михаил Андреев-Амурский, 2025
ISBN 978-5-0050-0003-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Гуманист в эпоху крови
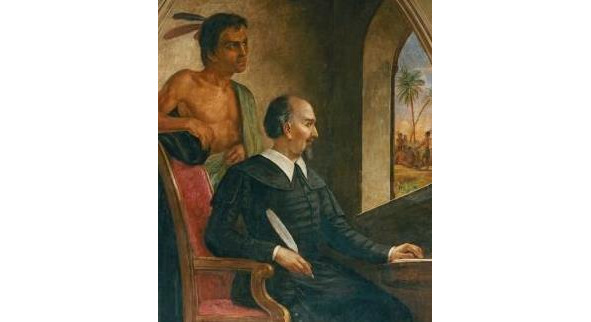
Бартоломео де Лас Касас, писатель-гуманист эпохи Возрождения
…Ранним августовским утром 1502 года, когда над волнами Атлантики блеснули первые лучи солнца, от пирса, заставленного ящиками с рыбой в гавани Палое, недалеко от Севильи, отплыла флотилия из трех каравелл, взяв привычный курс на юго-запад. Пассажиром одной из них был неприметный юноша, по виду студент, с интересом оглядывавший всё происходящее живыми карими глазами. Так начался путь в истории выдающегося гуманиста, обличавшего зверства конкистадоров, епископа Бартоломео де Лас Касаса.
Будущий защитник индейцев покорённой Америки родился 11 ноября 1474 года в семье известного севильского судьи Педро де Лас Касаса. Семья Бартоломео не отличалась знатностью, а злые языки даже поговаривали, что дон Педро происходит из новообращённых в христианство евреев. Всё же его отца можно было назвать богатым – участвуя во втором плавании Колумба, он привёз из Нового Света немало золота.
Кроме денег, он привез с собой нескольких индейцев араваков, сделав их слугами, а одного, самого смышлёного, дон Педро даже приставил воспитателем к Бартоломео, давая своему сыну первые уроки рабовладения.
Бартоломео было восемнадцать лет, когда Колумб в 1492 году открыл Новый свет, впоследствии названный Америкой. Пылкий студент университета в Саламанке, влюбленный в городскую красавицу Беатриче, не мог тогда и подумать, что ему предстояла жизнь, полная опасностей, угроз врагов и инквизиции, неукротимой борьбы за интересы и права индейцев.
Общение с индейцами, их рассказы заронили в душу Бартоломео идею стать миссионером в Новом свете, привести туземцев к христианству. Его первая экспедиция в Америку состоялась под началом известного в то время коррехидора Николаса де Овандо, королевского представителя на завоёванных землях, который, не стесняясь, насаждал с помощью обмана, огня и меча испанское правление на Карибах. Бартоломео, как миссионеру, поручили посадку на корабли и отправку индейцев в качестве рабов в Европу, тем более что на Гаити он унаследовал от отца земельные владения и рабов. Вчерашний студент-богослов, постигший культуру индейцев еще в Испании, став невольным свидетелем самых разных зверств, возмутился до глубины души и проникся идеей остановить эти ужасные злодеяния.
В отличие от Колумба, твердившего, что индейцы – низшие существа, Святой Престол убеждал, что они – потомки общечеловеческих прародителей и им следует возвещать веру Христову точно так же, как это делалось в других языческих странах. Но в реальности Конкиста быстро превратила коренных жителей Нового Света в рабочий скот. Захватчики, устремившиеся на запад, чаще были военными, отвыкшими за годы борьбы с маврами от мирного труда. Грубые, жестокие и циничные, очерствевшие в ходе войн Средневековья, они пришли в Америку, по выражению Лас Касаса, «с крестом в руке и ненасытной жаждой золота в сердце».
Поэтому миссионер Бартоломео понял, что остановить потоки индейской крови ему одному будет просто невозможно. После восьми лет скитаний по островам и крепостям Нового Света в 1506 году он вернулся в Испанию для получения сана священника, наивно полагая, что это позволит ему лучше защитить несчастных индейцев.
Вернувшись на Гаити, Лас Касас нашёл здесь сторонников своих идей по защите индейцев. Это он понял, оказавшись 30 ноября 1511 года на воскресной службе в местном храме Санто-Доминго. Богослужение совершали приехавшие из Саламанки монахи доминиканцы, на нём присутствовали сын Колумба адмирал Диего, местная испанская знать. Взошедший на кафедру монах в поношенной черно-белой рясе – отец Антонио де Монтесинос – обратился с проповедью к молящимся, взяв в качестве темы слова наставника покаяния – Иоанна Крестителя: «Я – глас вопиющего в пустыне». Незаметно проповедь превратилась в гневное обвинение.
Когда проповедник умолк, в храме повисла гнетущая тишина. Звучавший голос священника показался многим гласом Страшного суда. Теперь возмущению прихожан не было предела: задеты их кровные интересы! А монах и его спутники тихо удалились. Жестокости была объявлена война. Сцену эту детально и живо описал сам Лас Касас, бывший ее свидетелем. Скорее всего, именно тогда в его сознании вспыхнул вопрос: «А законна ли сама Конкиста и дела её участников?» Но через три года, во время сопровождения карательного отряда на Кубе, он убедился: Конкиста —неправое дело, испанцы своими действиями унижают христианскую веру, а индейцы – несчастные жертвы произвола и жестокости.
Открыто выступать против короны и конкистадоров священник-вольнодумец не смог. Он стал бороться проповедями. В них он все чаще говорил, что колонизаторы должны относиться к индейцам, как к братьям и отказаться от рабства. Эти речи падре вызвали негодование конкистадоров. В папскую курию на него посыпались жалобы и доносы…
Лас Касас решил наступать – он отказался от своих земельных владений. А прибыв в Испанию в сентябре 1515 г., осмелился доказывать королю свою правоту в защите индейцев от истребления. Часть придворных – архиепископ Севильский Диего, регент Адриан и кардинал Испании Хименес – поддержала отца Бартоломео, одобрив его заступничество за индейцев. Кардинал даже назначил Лас Касаса экспертом по делам коренных жителей Вест-Индии с официальным званием «покровителя индейцев».
Наследник престола дон Карлос после беседы со священником посчитал бесчинства колонистов угрозой интересам метрополии. Так королевская политика и цели Лас Касаса случайно на время совпали: монархия не нуждалась в мёртвых индейцах, ей были нужны налогоплательщики. Но строптивого священника и это не устроило, взгляды отца Бартоломео стали более радикальными. От идеи облегчения участи индейцев он пришёл к мысли о законности военного сопротивления Конкисте, объявив его справедливым делом, так как индейские земли были захвачены силой. «Уроженцы земель в Индиях, – напишет он, – куда мы вступили, имеют право вести против нас самую справедливую войну и смести нас с лица земли. Это право они будут иметь до Судного дня».
Настойчивость Лас Касаса победила – в Америку прибыла комиссия для подтверждения террора против индейцев. Но колонистам тайными упорными интригами удалось её привлечь на свою сторону, и в 1517 году раздосадованный Бартоломео вернулся в Испанию. Убедив короля в верности своих идей, он вместе с другими монахами основал в 1520 году свободное поселение в Вера-Пас, где индейцы трудились на равных правах с испанцами. Потом создал такое же поселение в малодоступной Кумане на берегу Венесуэлы. Но местные испанцы не подчинялись королю, и отряды конкистадоров Гонсалеса де Окампо и Кастельяно жестоко истребили индейское поселение в Кумане и Вера-Пасе. Губернатор отказался мешать им.
Разочарованный в политике, Бартоломео нашёл убежище в монастыре Санто-Доминго, где и написал самые главные трактаты, обличавшие террор конкистадоров. В них он порицал рабство и убеждал монарха начать мирные переговоры с туземцами Вест-Индии. В 1537 году Папа Римский также поддержал идеи Лас Касаса. Авторитет защитника индейцев был так велик, что король Карл V после беседы с ним издал указ об отмене рабства в Перу, а позже подписал закон о реформе крепостного права в Вест-Индии, доставленный Бартоломео в Новый Свет.
Но эти перемены так и не осуществились: служа епископом Чьапаса в Мексике, Лас Касас пригрозил отказом в отпущении грехов испанцам-рабовладельцам, и вскоре от епископа отвернулись и колонизаторы, и духовенство, а через год и сам король забыл «апостола индейцев». Несмотря на угрозы инквизиции и крупной испанской знати, отец Бартоломео открыто и дерзко выступил в 1550 году, победив в диспуте при дворе короля сторонника колонизаторов Хуана де Сепульведу. Благодаря поддержке Лас Касаса законы против крепостного права в Новом Свете были приняты вновь. И до своей смерти в 1566 году Бартоломео де Лас Касас активно защищал права индейцев, всеми способами пытался повлиять в лучшую сторону на судьбу коренных народов Америки.
Султан-звездочёт
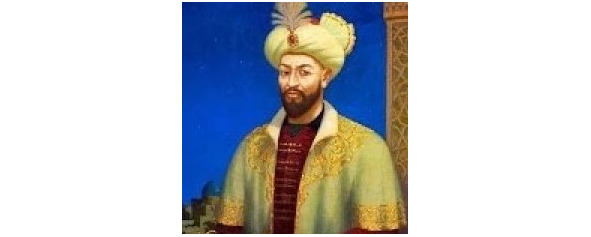
Султан Улугбек, внук Тимура, выдающийся астроном Возрождения
Октябрь 1449 года в Самарканде выдался ветреным. Рваные тёмные облака закрывали яркие звёзды в бездонном небе. Ветер судорожно трепал голые ветви деревьев, вихрился мелкой пылью на дорогах. Несколько вооружённых всадников остановились возле крайнего дома в кишлаке недалеко от города и крадучись пробрались в жилище. Вскоре двое воинов вывели из дома старика со скрученными за спиной руками и потащили его к ближайшему арыку. Он бормотал молитву, но не смог сосредоточиться. Упав на колени возле потока воды, несчастный приоткрыл глаза, и последнее, что он увидел в своей жизни, были блеснувшие в водных струях яркие звёзды, погасшие под ударом сабли.
Так от рук наёмных убийц погиб султан Маравеннагра Улугбек, астроном, математик, энциклопедист, известный далеко за пределами своей области…
Любимый внук Тамерлана, он всегда находился с ним в боевых походах, радовал своего знаменитого деда талантами и способностями. Улугбек рано научился читать и коротал время за книгами, множество которых везли в обозе, общался с незаурядными личностями: мастерами, поэтами, учеными, следовавшими за войском.
Вечерами, лежа на кошме у костра, он глядел в черное небо с мерцающими звездами, пытаясь понять, как устроен мир. Кто знает, может, именно тогда у него зародилась страсть к астрономии?
В 1409 году 15-летний Мухаммед-Тарагай Улугбек волей отца Шахруха стал править целой страной – Маравеннагром со столицей в Самарканде. Придворные льстецы твердили: он должен возродить империю, созданную его великим дедом. Однако, провалив поход на север против узбекских племен, молодой правитель охладел к военному делу и занялся научными занятиями. Это оттолкнуло от него улемов – религиозных деятелей, ожидавших, что новый султан станет больше заботиться о мечетях и богословии, а не науке.
Внук Тимура, как и дед, продолжал строить гостиницы, бани, разбивать сады и виноградники. Но самым главным делом Улугбек считал создание вблизи столицы на холме Кухак астрономической обсерватории, равной которой тогда в мире не было. Ее центральное круглое трехэтажное здание уже тогда поражало своими размерами: высотой с 10-этажный дом (30м) и диаметром в 46 м. Горизонтальный круг для определения азимута светил имел диаметр 10 м, радиус окружности вертикального квадранта, наполовину заглубленного в землю, достигал 40 м, длина дуги – 63 м. Сориентированный с юга на север точно по меридиану, прибор, вырубленный из камня в скале на глубине 11 м, представлял собой вертикально установленную четвертую часть круга с двумя мраморными разделенными на градусы дугами. По обе стороны от квадранта имелись помещения для наблюдения за небесными телами, положение которых на небосводе учёные фиксировали с большой точностью.
Астрономические наблюдения стали настоящей научной страстью Улугбека, и он принимал самое активное участие в них, так как все любил делать сам. Например, помогал строить медресе, участвовал в военных походах (как правило, неудачных), обожал охоту, обильное застолье, хорошее вино, красивых женщин (у него было пять жен и шесть наложниц) … Сотканный из противоречий, султан Маравеннагра был человеком своего жестокого времени. Он не был тираном, но нужды народа его не волновали. И у своих подданных Улугбек не пользовался большой любовью. Далеко не все деяния учёного султана были оправданны. Разве не его именем брошенные на усмирение бунта воины грабили кишлаки вокруг Герата? Разве не по его указам облагались непомерными поборами дехкане? Это ему потом было стыдно за то, что на глазах у почтенного астронома Кази-заде Руми при строительстве обсерватории он избил плетью каменщика, возроптавшего на тяжкий труд и скверную пищу.
Занятый наукой, султан не смог воспитать своего старшего сына Абдал-Латифа, ставшего под влиянием придворных мулл его основным врагом, готовым поднять меч на отца в борьбе за власть.
Улугбек наблюдал за жизнью звёзд в обсерватории, делая настоящие открытия, равных которым мир тогда, да и сейчас, не знал. Он измерил положение более тысячи небесных светил. Эти данные составили основу научного труда огромной важности – «Новых астрономических таблиц» («Зидж-и джедид-и Гурагони») – каталога 1018 звезд, не только содержащего данные по светилам, но и рассматривающего различные летосчисления, методику астрономических наблюдений и вычислений. Учёный изложил теорию движения Солнца и планет (по Птолемею), показал, как вычислять моменты затмений Солнца и Луны. Есть и раздел, посвященный астрологии. В трактате Улугбека впервые очень точно указаны астрономические данные Земли – лучшие для всего периода дотелескопической астрономии.
Тем временем число врагов росло. Улемы султанского двора во главе с популярным в народе шейхом ходжой Ахраром – главой дервишского ордена накшбендиев – настраивали горожан против султана. Не было ни одного дня, чтобы на базарной площади, вертясь в бешеной пляске среди жаркой пыли, дервиши не призывали кары Аллаха на голову нечестивого книжника, посягнувшего на святая святых – небо. А в мечетях уже не было пятничного намаза, когда бы имамы не обращались к правоверным с призывом: «Султан – тень Аллаха на земле, но Мирза Улугбек изменил заветам деда своего, Тимура. Тамерлан ценил служителей веры истинной, а его внук нас унизил! Он выбрал путь еретиков». С нескрываемой злобой ему припоминали всё, что нарушало основы ислама, даже еретическую, по мнению учёных имамов, надпись на дверях бухарского медресе: «Стремление к знанию является обязанностью каждого мусульманина и мусульманки».
Занимаясь наукой, Улугбек не обращал внимания на подозрительную возню придворных. Его больше заботили отношения со старшим сыном Абдал-Латифом, который всё больше проявлял ненависти к нему, подозревая большую привязанность отца к младшему сыну Абдул-Азизу.
После смерти отца Шахруха в 1447 году Улугбек стал главой династии Тимуридов, и отношения между сыном и отцом обострились до предела. Мгновенно вспыхнула испепеляющая обоих вражда, быстро перешедшая в войну. Осенью 1449 г. армия Улугбека была разбита, и он бежал с поля боя вместе с младшим сыном Абдал-Азизом. А когда султан появился под стенами Самарканда, жители города, находясь под сильным влиянием имамов и дервишей, отказались открыть ворота своему повелителю, выдав тем его самым сыну-врагу.
Четыре десятилетия трудился султан Улугбек для блага Мавераннахра, но под давлением невежественных мулл был вынужден отречься от престола. Он просил сохранить ему жизнь, обещая в дальнейшем заниматься только наукой. Условия были приняты, но всё же для видимости бывшему монарху цинично предложили совершить хадж в Мекку для очищения от грехов. Улугбек не знал, что накануне на тайном совете мулл в присутствии старшего сына было решено его убить. Вечером 27 октября 1449 года Улугбек выехал из Самарканда и заночевал в ближайшем кишлаке, где был схвачен и убит.
Спустя три дня отцеубийца Абдал-Латиф без суда и следствия умертвил своего младшего брата Абдал-Азиза. Злодей не прожил и полугода – через пять месяцев был убит стрелой из засады воинами Улугбека. Голову убийцы выставили на шесте возле медресе, построенном султаном. Тело султана было с почестями похоронено в Самарканде рядом с Тамерланом в мавзолее Гур-Эмир.
Обсерватория существовала, но учёные Улугбека, опасаясь преследований, выехали из страны. Лучший ученик астронома, Али Кашчи, под видом паломника в Мекку покинул Самарканд, захватив с собой главный труд султана-ученого «Новые астрономические таблицы» («Зидж-и джедид-и Гурагони»). В Стамбуле Али перевёл рукопись на арабский язык и подарил Мехмеду II. «Таблицы» Улугбека, весьма точные для своего времени, быстро разошлись на Востоке и в Европе, где были напечатаны три раза. К сожалению, от всего научного наследия Улугбека-энциклопедиста сохранился только его звёздный каталог да развалины его обсерватории, ставшие памятником его смелой мысли.
Врач, опередивший время

Андрей Везалий, выдающийся врач эпохи Возрождения
…Глухой осенней ночью, когда на узких улицах Лувена, маленького городка в средневековой Фландрии, затихли шаги патрульных солдат, к рыночной площади тихо скользнула худощавая фигура. Подобравшись к виселице с повешенным, человек выждал момент и незаметно для караульного снял тело казнённого. С жуткой ношей на плечах похититель удалился на окраину города, где в небольшом домике при тусклом свете свечи принялся препарировать труп, тщательно зарисовывая результаты своего труда. Этим человеком был средневековый хирург Андрей Везалий.
Семья Андрея Везалия, родившегося в 1514 году в Брюсселе, была тесно связана с медициной – отец был придворным аптекарем, а дед – врачом. Поэтому Везалий с юных лет наблюдал многие проблемы медицинской науки Средневековья и дал обет их решить. Обучаясь врачебному делу в Лувенском и Парижском университетах, он понял, что устаревшими методами Галена болезни человеческого тела не излечить. Запрет церкви на вскрытие человеческого тела заставил Везалия практиковать исследования на похищенных телах казнённых.
Он был глубоко верующим человеком и, по свидетельству друзей, принимавших участие в таких делах, перед каждым вскрытием горячо молился, обращаясь к Богу. Этим он просил прощения за то, что в интересах науки искал в смерти людей тайну жизни.
Так, украдкой практикуясь на трупах, Везалий создал первый в Европе анатомический препарат полного скелета человека, что явилось настоящим потрясением для множества возненавидевших его врачей и, главное, для церковной инквизиции. Святой престол стал получать всё больше доносов на строптивого медика, который совершенно не боялся религиозных запретов, вскрывал человеческое тело, нарушая главные Божьи заповеди.
И всё же большие знания и опыт, обретённые таким путём, позволили ему получить в 1537 году докторскую степень. Однако открытые подозрения папской инквизиции в ереси заставили Андрея Везалия уехать в Венецию, правительство которой, поощряя развитие наук о природе, привлекало молодых ученых для работы в Падуанском университете. Блестящий врачебный талант Везалия привлек внимание венецианского Сената, и двадцатидвухлетнего учёного приняли на кафедру хирургии с обязанностью преподавать анатомию.
Во время чтения лекций, на которые, к неудовольствию профессоров, толпами сбегались студенты с других факультетов, он демонстрировал потрясённым зрителям анатомические таблицы, срисованные с препаратов мёртвого тела, объясняя, правда, их происхождение Божьим провидением.
Эти рисунки уже в следующем, 1538 году он и решил напечатать, несмотря на предостережения друзей о пристальном внимании к нему суда инквизиции. В своих лекциях Везалий старался по возможности следовать учению Галена, но на основании собственных наблюдений, полученных при вскрытии трупов, все чаще делал вывод, что многие сведения древнеримского хирурга, не имевшего доказательств в виде препаратов человеческого тела, ошибочны.
Везалий понял значение анатомического рисунка и приступил к созданию оригинального иллюстрированного руководства. Он считал, что включенные в книги рисунки «способствуют пониманию вскрытий и представляют взору яснее самого понятного изложения».
Середина XVI века стала для Европы не только временем жестоких войн, эпидемий, но и эпохой Возрождения, в которой яркой звездой блеснул этот неизвестный до того времени врач. Не успела зарасти травой могила Парацельса, знаменитого швейцарского алхимика, как в 1543 году типография Иоганна Опоринуса в Базеле осмелилась выпустить в свет семитомный анатомический атлас «О строении человеческого тела». Автор книги бросил вызов самому Клавдию Галену, великому древнеримскому врачу, утверждая, что методы его анатомических исследований полны грубых ошибок и написаны скорее на основании наблюдений животных, чем человека. Это сочинение не на шутку рассердило инквизицию и Святой Престол, так как церковь препятствовала развитию естественных наук и запрещала вскрытие тела человека, считая это небывалым кощунством.
Создателем объёмного и дерзкого по смыслу труда, с точными рисунками органов тела и их объяснениями, полного критики утверждений древних ученых, был, конечно, Андреас Везалий. Сочинение, в котором вместо отживших догм излагались новые научные взгляды, отразило культурный подъем человечества в эпоху Возрождения. Его книгу украшают прекрасные рисунки художника Стефана Калькара, ученика Тициана.
Характерно, что изображенные на рисунках скелеты стоят в позах, свойственных живым людям, а пейзажи, окружающие некоторые костяки, говорят более о жизни, чем о смерти. Труд Везалия предназначался для пользы живого человека, изучения его организма, чтобы сохранить его здоровье и жизнь. Каждая заглавная буква в трактате украшена рисунком, изображающим детей, изучающих анатомию. Так было в древности, когда искусство изображения тела, анатомирования преподавалось с детства, знания передавались от отца к сыну. Великолепная художественная композиция фронтисписа книги изображает Андреаса Везалия во время публичной лекции и вскрытия трупа человека.
Пять лет упорного труда понадобилось учёному, чтобы создать большое сочинение по анатомии. Доходчивость книги, ее убедительность определялись в значительной мере качеством рисунков, которые были составным элементом книги. Везалий сам работал над рисунками, а также готовил для зарисовки большое число анатомических препаратов. Многие рисунки в книге символизируют живой дух эпохи Возрождения. Мышцы человеческого тела изображены в динамике. Позы тела заставляют думать о мудрости жизни и драматизме смерти. Везалий исправил свыше двухсот ошибок Галена, в особенности картины строения внутренних органов.
Анатомические труды предшественников Везалия почти не содержали рисунков. Низкий уровень изобразительного искусства Средневековья, трудности воспроизведения рисунков в рукописных книгах и пренебрежение действительными анатомическими знаниями, почерпнутыми при изучении трупа, – вот причины, сделавшие анатомические рисунки скорее курьезной, чем удивительной редкостью. Исключение составляли зарисовки скелета в трудах Леонардо да Винчи.
Проявив великолепную проницательность ума, Везалий предложил метод графического воплощения натуры. Случайные анатомические зарисовки анатомов XIII—XVI веков и достижения изобразительного искусства Возрождения помогли понять познавательную ценность анатомического рисунка.
Везалий не просто подключил рисунок к тексту. Иллюстрации превратились в часть его анатомического труда, стали его основным методом обучения. В книге Везалия впервые преодолевались технические трудности сочетания текста и рисунков.
На почве анатомии Везалий хотел объединить все отрасли медицины. Это было совершенно необходимо, так как многие передовые врачи того времени были слабыми теоретиками. Знаменитый хирург и алхимик Парацельс, новатор в практической медицине, революционно настроенный по отношению к современной ему схоластике, был непоследователен в построении теории медицины. Анатомия вызывала у него величайшее презрение. Он начисто отвергал изучение строения тела, само вскрытие трупов и создавал свою «анатомию сущности человека», которая доказывала, что в «теле человека соединились мистическим образом 3 вездесущих ингредиента: соль, сера и ртуть». Сторонники Парацельса также пытались раскрыть строение тела с помощью алхимии. Упражнения на трупах они воспринимали как «мужицкий метод», как нарушение Божьих заповедей, называя их «недостойными упражнениями итальянских фокусников».
Везалий больше всего внимания посвятил работе над сердцем и мозгом, а также критике ложных идей. И это было неслучайно. Везалия приводило в негодование лечение, пришедшее в упадок: клиническое исследование больных приобрело уродливые формы, логический диагноз у постели больного подменялся предвзятым, бездоказательным выводом, наподобие тому, как определяли воспаление лёгких: «жилы, коими душа соединяется с телом, наполнены мокротами». Современные ему врачи не знали и анатомии костной системы, мышц, нервов, артерий и вен и не хотели их изучать. «Даже наиболее одаренные из медиков, – писал Везалий, – начали поручать слугам то, что им полагалось делать для больных собственноручно… оставили за собой только назначение лекарств и диеты при недугах особого порядка».



