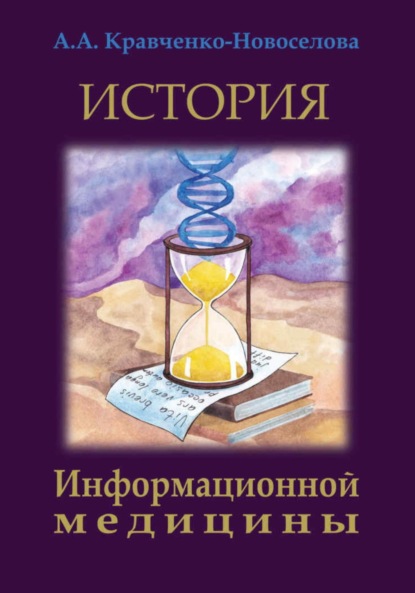
Полная версия:
История Информационной медицины
Следует отметить, что в Информационной медицине доктор С.С. Коновалов придает такому методу большое значение, видя в нем более глубокий смысл, чем принято считать: «…уже тогда люди … чувствовали, что их спасение в обращении к неизвестной Живой Силе, которая идет от Бога, но которую нужно научиться вызывать и привлекать к себе»35. Аналогичный древним храмам принцип лежит в основе помещения в книгах Информационно-Энергетического Учения писем-исповедей пациентов с их рассказами о выздоровлении36.
До настоящего времени не решен окончательно вопрос о соотношении функций жрецов и врачей в указанных храмах. Вероятно, оно было неодинаковым в разных регионах страны. Так, если в асклепейонах материковой Греции (Афинах, Эпидавре) врачи практически отождествлялись со священнослужителями, совершая храмовые обряды, то на Косе, по-видимому, преобладало рациональное направление, и врачи-асклепиады выступали в роли консультантов при храме.
Эпохой подлинного расцвета древнегреческой культуры стал так называемый классический период (V в. до н.э.). Победа в греко-персидских войнах, правление Перикла в Афинах способствовали росту гражданского самосознания, утверждению идеи ценности человека. Именно в этот период явно оформился антропоцентризм эллинского мировоззрения, ярко проявившийся в мифологии, философии, науке, искусстве. Интерес к человеку обусловил дальнейшее развитие медицины. Характерная для философских школ того времени тенденция к систематизации знаний привела к созданию теорий здоровья и болезни, а впоследствии и зарождению самостоятельных медицинских направлений.
К V в. до н.э. в Греции уже существовали врачи различных категорий (войсковые, придворные, общественные и др.). Сложились передовые врачебные школы, из которых самыми крупными и влиятельными были две: книдская (г. Книд на западном побережье Малой Азии) и косская (о. Кос в восточной части Эгейского моря). Первая, по-видимому, была одной из старейших, и в дальнейшем легла в основу других школ (кротонской, киренской, родосской). Ее представители продолжали традиции вавилонских и египетских врачей, выделяя комплексы болезненных симптомов и описывая их как отдельные болезни. В этом смысле, говоря современным языком, книдская школа может быть охарактеризована как школа частной патологии, улавливающая местные болезненные процессы.
В противоположность ей косская школа отказывалась от систематизации болезней и, фактически, от постановки диагноза. Значение придавалось не названию болезни, а общему состоянию больного, которое подвергалось детальному обследованию. После этого ставился прогноз и устанавливалось лечение, носившее строго индивидуализирующий характер (диета, терапия, режим и т.д.). Следуя натурфилософским воззрениям, врачи косской школы рассматривали человека, его здоровье и болезни в тесной связи с окружающим миром, стремились поддерживать имеющиеся в организме природные целительные силы (physis). Первые сведения о косской школе относятся к 584 г. до н.э.37, однако ее подлинный расцвет связан с именем самого выдающегося представителя – Гиппократа.
Достоверные сведения о жизни Гиппократа весьма ограничены, так как его первые биографии стали составляться лишь спустя несколько веков после его смерти. Указываются различные даты его жизни (460 – 377 гг. до н.э.38; ок. 460 – ок. 356 гг. до н.э.39; 458 – 349 гг. до н.э.40). Он происходил из старинного косского рода асклепиадов, выводящих свои родословную от самого Асклепия. Считается, что медицинскую деятельность Гиппократ начал еще в совсем юные годы, и наставником его был отец – косский врач Гераклид. Впоследствии, покинув родной остров Кос, Гиппократ объездил всю Грецию и побывал далеко за ее пределами, будучи врачом-периодевтом (то есть не связанным службой с определенным местом, переезжающим из города в город, иногда останавливаясь где-то на продолжительное время). Таким образом, Гиппократ был знаком с различными медицинскими школами Греции, а также с неэллинскими традициями врачевания. После многих десятков лет своей практической деятельности он изложил свои взгляды, принципы, наблюдения в ряде трактатов. Следует отметить, однако, что вопрос, какие именно труды оставил после себя Гиппократ, окончательно не решен. По традиции того времени врачи не подписывали свои сочинения, и со временем все они оказались анонимными. Около 300 г. до н.э. медицинские рукописи периода классической Греции были объединены в так называемый «Гиппократов сборник». В него вошли произведения как самого Гиппократа, так и его учеников (прежде всего сыновей – Фессала и Дракона и зятя – Полибия); также сюда входит широкий круг сочинений авторов косской школы, как предшествующих Гиппократу, так и его современников и последователей. Несомненно, сборник является выдающимся памятником медицинской литературы, отразившим весь спектр врачебных знаний Древней Греции в период ее наивысшего подъема. Гиппократ, таким образом, не является, как долгое время считалось, «отцом медицины»: он вступил на врачебное поприще, когда греческая медицинская наука уже достигла значительного развития. Однако он, обобщив все имевшиеся к тому времени медицинские знания и будучи ярчайшим представителем самой передовой на тот момент врачебной школы, произвел решающий переворот в медицине. Рассмотрим суть его научных достижений.
Источником по изучению взглядов и принципов Гиппократа являются его подлинные произведения из «Гиппократова сборника». Большинство исследователей признают таковыми труды «О древней медицине», «О воздухах, водах и местностях», «О переломах», «О ранах головы», «О диете при острых болезнях», «Афоризмы», «Прогностика», «Эпидемии»41. Кроме того, представления о взглядах Гиппократа дают и вошедшие в сборник произведения его ближайших учеников.
Во всех сочинениях Гиппократа последовательно прослеживается принцип косской школы: целостное рассмотрение человека. Следует лечить не болезнь, а больного. Врач должен наблюдать и принимать во внимание все то, что можно подметить у пациента, а также всю совокупность внешних факторов, влияющих на него. В отдельных местах идет явная полемика с представителями книдской школы: «…некоторые их них знали разнообразные формы отдельных болезней и многочисленное разделение их, но, стараясь точно указать числа отдельных болезней, они неправильно описали их. И в самом деле, никто легко не исчислит их, если будет на том основании обозначать болезнь у болеющих, что она отличается от другой каким-нибудь признаком, и не будет считать ее одною и тою же болезнью, если она не будет названа одним и тем же именем»42. Несомненно, что, исходя из этого, Гиппократ придерживался концепции здоровья, сформулированной в «Наставлениях» – трактате, составленном авторами косской школы и вошедшем в «Гиппократов сборник»: «Ведь хорошее состояние человека есть некоторая природа его, вызывающая естественным путем движение не чуждое, но приводящее в гармонию при посредстве дыхания, теплоты и сварения соков, всякой вообще диеты и прочих всех условий, если только не будет какого-либо недостатка от рождения или от самого начала. Если же этот последний будет и будет невелик, то все-таки должно попытаться возвратить его к первоначальной природе, даже если оно существует продолжительное время»43.
Сам Гиппократ в деле сохранения и восстановления здоровья важную роль отводил не только деятельности врача, но и активности самого пациента: «…не только сам врач должен употреблять в дело все, что необходимо, но и больной, и окружающие, и все внешние обстоятельства должны способствовать врачу в его деятельности»44.
Еще до Гиппократа в греческой медицине (преимущественно в косской школе) обращал на себя внимание широкий гуманистический подход, использование методов философии в распознавании болезни и терапии. В трактате «О благоприличном поведении», вошедшем в «Гиппократов сборник» и написанном, по всей видимости, последователями Гиппократа, говорится: «…должно … перенести мудрость в медицину, медицину в мудрость. Ведь врач-философ равен богу. Да и немного в самом деле различия между мудростью и медициной, и все, что ищется для мудрости, все это есть и в медицине <…> У врачей самих есть путь в мудрости; и об этом они не думают, что это истинно; но с этим согласуются все явления, происходящие в телах, в их преобразованиях и переменах, которые проходят через всю медицину, все то, что излечивается хирургией, что достигается уходом, лечением, диетой. Но самым главным делом должно быть знание всего этого»45. Уже из этого отрывка видно, что под философией здесь понимаются не отвлеченные рассуждения и софизмы, а наслоение наблюдений, эмпирии и построение на их основе выводов о здоровье и болезни человека, о его месте в этом мире. Эта мысль особенно ярко акцентируется в уже упоминавшемся трактате «Наставления»: «Из того, что выводится только путем рассуждения, нельзя почерпнуть ничего; это возможно только из показаний дела, ибо обманчивым и непрочным бывает утверждение, основанное на болтовне»46. Гиппократ, будучи представителем косской школы, не только усвоил эти распространенные в его время взгляды, но и, основываясь на богатейшем опыте собственной врачебной практики, фактически создал свою стройную научно-философскую систему (сюда же относится и известное учение о четырех соках, которое надолго определило развитие физиологии и патологии). Эта система была не только пангуманистической, охватывающей всего человека, весь его организм, но и панкосмической, вовлекающей в распознавание и лечение весь мир, со всеми явлениями природы и событиями в ней. По мнению Г. Глязера, «историю мышления в медицине следует по справедливости начинать с момента, когда можно было говорить о медицине как о науке; это произошло с началом деятельности Гиппократа, в V в. до н.э.»47. Уже Платон – младший современник Гиппократа – в своем диалоге «Федр» упоминает о нем как о враче с широким философским уклоном:
«С о к р а т. Пожалуй, в искусстве врачевания те же самые приемы, что и в искусстве красноречия.
Ф е д р. Как так?
С о к р а т. И тут и там нужно разбираться в природе, в одном случае – тела, в другом – души, если ты намерен пользоваться не навыком и опытом, а искусством, применяя в первом случае лекарства и питание для восстановления здоровья и сил, а во втором – беседы и надлежащие занятия, чтобы привить уменье убеждать или другое какое-то прекрасное качество.
Ф е д р. Наверно, это так, Сократ.
С о к р а т. Думаешь ли ты, что можно достойным образом постичь природу души, не постигнув природы целого?
Ф е д р. Если должно в чем-то верить Асклепиаду Гиппократу, то даже природу тела нельзя постигнуть иным путем.
Со к р а т. Это он прекрасно говорит, друг мой. Однако, кроме Гиппократа, надо еще обратиться к разуму и посмотреть, согласен ли он с Гиппократом.
Ф е д р. Я полагаю.
Со к р а т. Итак, посмотри, что говорит о природе Гиппократ, а что – истинный разум. Разве не так следует мыслить о природе любой вещи: прежде всего, простая ли это вещь – то, в чем мы и сами хотели бы стать искусными и других умели бы делать такими, или она многовидна; затем, если это простая вещь, надо рассмотреть ее способности: на что и как она по своей природе может воздействовать или, наоборот, что и как может воздействовать на нее? Если же есть много ее видов, то надо их сосчитать и посмотреть свойства каждого (так же как в том случае, когда она едина): на что и как каждый вид может по своей природе воздействовать и что и как может воздействовать на него.
Ф е д р. Пожалуй, это так, Сократ.
С о к р а т. Иначе рассмотрение походило бы на блуждание слепого»48.
Таким образом, уже при жизни Гиппократа его учение обращало на себя внимание не только медиков, но и самых широких кругов своим философским диалектическим подходом.
Именно этот диалектический подход и широта приложения взглядов, основанная на многолетнем практическом опыте, сохранили актуальность учения Гиппократа вплоть до наших дней. На протяжении истории всякий раз, после вторжения в медицину новых смелых и часто опасных для больных теорий и средств, медицина должна была возвращаться к Гиппократу и к его основному завету: «Прежде всего – не навредить». По оценке В.П. Карпова, «медицина кроет в себе внутренние противоречия, к которым она периодически возвращается в своем диалектическом развитии, каждый раз обогащаясь новым содержанием. Это, с одной стороны, стремление создать рациональные основы врачевания, основанные на определенных теоретических предпосылках и неизбежно связанные с экспериментированием над больными объектами; с другой – практическая медицина с детальным клиническим изучением больного и осторожным применением испытанных – иногда веками – врачебных средств и врачебного режима. Это – борьба теории и эмпирии, медицины как науки и медицины как искусства. И каждый раз, как научное теоретизирование брало верх и больные испытывали после преувеличенных надежд соответственные разочарования, медицинская мысль возвращалась к более спокойному и верному пути, указанному издавна Гиппократом»49. По словам М. Нейбургера, сущность гиппократизма лежит «в его понимании врачебного призвания, в остающемся вечно истинным методе врачебного мышления и действия»50.
В этой связи тем более уместно соотнести с учением Гиппократа, проверенным временем, положения Информационной медицины. Как видим, здесь наблюдается принципиальное сходство в понимании природы здоровья и болезни, роли врача и больного в восстановлении и поддержании здоровья. И в том, и в другом случае краеугольным камнем является целостное ви́дение человека; восприятие человеческого организма как сложной системы, в которой не только все между собой взаимосвязано, но которая находится во взаимозависимости со всем комплексом внешних факторов – от социальных до космических. Соответственно, лечение отдельно взятых диагнозов не может быть эффективным. Терапия характеризуется системным и комплексным подходом.
Кроме того, учение доктора Коновалова так же представляет интерес не только для медицинской науки. Его положения потенциально являются богатой базой для развития сфер философии, физики, математики, биологии, генетики, педагогики, информационных систем и т.д. По определению самого С.С. Коновалова, «главная цель Учения состоит не только в том, чтобы просто помочь человеку избавиться от болезни. Главная цель Учения заключается еще и в том, чтобы доказать человеку и человечеству, что да, его жизнь сама по себе есть цель Творения, но что ее не надо понимать как подобие “животной” жизни, ограничиваясь исключительно представлениями биологии и других близких ей наук. Расширение Вселенной не есть ее заполнение органическим “веществом”. Речь идет о расширении одухотворенности жизни, о восстановлении “эволюционной справедливости”»51. Как отмечает В.В. Безуглов, «Учение С.С. Коновалова – это не частное знание о том, как справиться с болезнями человека, а новая мировоззренческая концепция, призванная создать единый базис для всех как естественных, так и гуманитарных наук. Необходимость такого объединения осознавали великие философы прошлых веков … и в меру своих сил пытались создать цельные системы мироустройства. Но стремительное развитие науки и бурный технический прогресс требуют более универсального базиса для интеграции накопленных знаний в единую систему. Таким базисом на современном этапе выступает Информационно-энергетическое Учение»52. «Несомненно, Информационно-энергетическое Учение С.С. Коновалова имеет и гуманистическую направленность. Оно ставит человека в центр Мира, как ответственного за продолжение эволюции Физической Вселенной»53.
Интересно и то, что указанные концепции доктора Коновалова развились из эмпирии: наблюдений, экспериментов, практики взаимодействия с Информационными полями, сотен тысяч примеров реального выздоровления людей54. Лишь после многолетней практики выводы доктора оформились в единую мировоззренческую систему – Информационно-Энергетическое Учение, – а позднее и в более обобщающую научно-философскую парадигму – Информационную медицину. То, что базой для такой парадигмы является именно медицинская наука, не представляется удивительным в свете учения Гиппократа.
***
Принципы мышления, характерные для Гиппократа, мы находим также у его младших современников, великих философов того времени: Платона (427 – 347 гг. до н.э.) и Аристотеля (384 – 322 гг. до н.э.). У Аристотеля это вполне понятно: он был естествоиспытателем и потому быстро воспринял учение великого врача. Однако его влияние на медицину двойственно: с одной стороны, он был блестящим наблюдателем, систематически мыслившим исследователем одушевленного мира. С другой стороны, он перенес на человека все то, что нашел при анатомических исследованиях животных, а позднейшие естествоиспытатели и врачи сохраняли эти представления.
Что же касается Платона, он был мыслителем, любившим знание само по себе, и в учении Гиппократа его привлекла в первую очередь именно его философско-диалектическая составляющая (указание на это мы видели выше в цитируемом диалоге). В то же время Платон был сведущ также в области природоведения, в то время включавшего в себя и медицину. Он следовал тому положению Гиппократа, согласно которому врач (а шире – любой мыслитель), если он хочет понять природу человека, его тело и душу, должен исходить из понимания природы как целого, макрокосмоса (то есть неба и звезд) и микрокосмоса (человека). Развитие этих идей мы находим в одном из самых зрелых и глубоких произведений Платона, дающем наиболее полное представление о его философской системе, – диалоге «Тимей», излагающем концепцию устройства мира. Остановимся на этом сочинении подробнее: представляется важным рассмотреть философскую теорию, основанную на указанных выше медицинских представлениях о человеке. Кроме того, сопоставление с этим произведением соответствующих книг Информационной медицины – «Медицина, которую мы не знаем: Введение в информационную медицину» и «Творение Мира»55 – представляет явный интерес.
Для Платона, как и для всей античной философии, единственно конкретным и абсолютным бытием был космос – видимый, слышимый и вообще чувственно ощущаемый. «Тимей» впервые диалектически конструирует весь материальный космос в его соотношении с умом, то есть со всеми теми идеями, которые лежат в глубине космоса и впервые рассматриваются как принципы мирообразования в целом. Таким образом, «Тимей» является систематическим очерком платоновского объективного идеализма, причем принципы материи и телесного бытия здесь признаны в качестве таких же мирообразующих принципов, какими всегда являлись для Платона его идеи. Следует отметить, что не только у Платона, но и во многих философских системах античности идея, как бы она идеалистически ни представлялась, в конечном счете оказывалась данной чувственно и материально56. Как мы увидим в дальнейшем, именно такой подход оказался наиболее близок Информационной медицине.
Изначально Платон разграничивает категории вечно тождественного бытия и пространственно-временнóго существования: «То, что постигается с помощью размышления и объяснения, очевидно, и есть вечно тождественное бытие; а то, что подвластно мнению и неразумному ощущению, возникает и гибнет, но никогда не существует на самом деле. Однако все возникающее должно иметь какую-то причину для своего возникновения, ибо возникнуть без причины совершенно невозможно». «Конечно, творца и родителя этой Вселенной нелегко отыскать, а если мы его и найдем, о нем нельзя будет всем рассказывать»57.
Ср. у С.С. Коновалова: «То есть до появления Пустоты Физического Мира как некоего объема пространства (даже бесконечного объема) было еще Абсолютное НИЧТО. И не просто было, а оно – ОН – есть и будет ВСЕГДА. И вот ЭТО – то, о чем мы даже не можем догадаться и чего не можем вообразить, потому что оно находится вне нашей логики, вне нашего понимания и представления, – АБСОЛЮТНО НЕПОНЯТНОЕ породило ПРОСТРАНСТВО – “пустое”, по нашим обычным земным представлениям»58.
В «Тимее» представлена концепция космоса как живого разумного существа, созданного благим демиургом59 в подражание вечному умопостигаемому образцу: «…следует признать, что наш космос есть живое существо, наделенное душой и умом, и родился он поистине с помощью божественного провидения»60.
Ср. в Информационной медицине: «Вселенная (Божественная и Физическая) живет и развивается по единым законам, выходящим из Мира Бога-Абсолюта, направляемым Миром Девственного Духа, наполняемым Миром Мысли и Миром Желаний Божественной Вселенной и постоянно контролируемым Мирами Стабильности Божественной Вселенной»61.
Космос, созданный божеством, сам, по Платону, приобретает свойства бога: «Весь этот замысел вечносущего бога, которому только предстояло быть…» «Предоставив космосу все эти преимущества, [демиург] дал ему жизнь блаженного бога»62.
В Информационной медицине эти понятия соотносятся как Абсолют и Божественная (Информационная) Вселенная: «Информационная Вселенная! Мы понимаем, что ОНА есть “продукт” Абсолюта. Можно даже сказать, что это Мысль Абсолюта, не имеющая физических параметров. Ее информационные поля – вне материи. Она – вне физики. Но она – Информационная Вселенная – создает и поддерживает все элементы материи, то есть Физическую Вселенную»63.
В диалоге Платон систематически трактует три основных (по его мнению) области бытия: ум, материю и соединение того и другого в одно целое. Вполне определенная философская система заключается здесь в том, что вещи не рассматриваются в изолированном эмпирическом существовании, но для каждой вещи фиксируется ее смысл, ее специфическая идея, а потом все эти идеи объединяются в одно целое, трактуются как общая идеальная действительность и объявляются порождающими моделями для всего вещественного мира. Это и есть то, что обычно называется платонизмом: «…бог сотворил душу … и вот каким образом: из той сущности, которая неделима и вечно тождественна, и той, которая претерпевает разделение в телах, он создал путем смешения третий, средний вид сущности, причастный природе тождественного и природе иного, и подобным же образом поставил его между тем, что неделимо, и тем, что претерпевает разделение в телах. Затем, взяв эти три [начала], он слил их все в единую идею…»64 Итак, бытие, которое рассматривает Платон, не является ни исключительно идеальным, ни чистой материей. Идеальное нужно для того, чтобы конструировать все материальное, и прежде всего материальный космос, а материальное необходимо, чтобы мыслить идеи в их полном осуществлении, в их материализации. Таким образом, идеальное и материальное трактуются в «Тимее» как чисто абстрактные моменты в той целостности, которой является космос.
Думается, здесь можно провести параллель между понятием «идея» у Платона и понятием «информация» в Информационной медицине. По мнению ряда современных ученых, «в Учении С.С. Коновалова окончательно решен больной вопрос философии о первичности идеального или материального. Первична информация, в которой изначально соединены идеальное и материальное начала. Наивысшую стадию развития они проходят в человеке. Только в единстве духовного и материального может гармонично развиваться человек и только в таком единстве будет гармоничным общество. Тогда цивилизация свободных, гармонично развитых людей сможет способствовать распространению одухотворенного Разума на Земле и во Вселенной»65. См. у С.С. Коновалова: «Главной движущей силой, приведшей к рождению и жизни Вселенной, является информация, зарождающаяся в Мире Абсолюта и формирующаяся в ту или иную программу из великого множества созидающих программ…»66
У Платона космос насквозь пронизан вечными идеями («эйдосами»), рожденными в боге и служащими ему же образцом для творения мира: демиург «пожелал, чтобы все вещи стали как можно более подобны ему самому»67. «…взирая на какой первообраз работал тот, кто его [космос] устроял…? …для всякого очевидно, что первообраз был вечным: ведь космос – прекраснейшая из возникших вещей, а его демиург – наилучшая из причин. Возникши таким, космос был создан по тождественному и неизменному [образцу]…»68 И «уже до возникновения времени [космос] являл сходство с тем, что отображал…»69
В Информационной медицине такой «образец» может быть отождествлен с «информационной матрицей» Вселенной: «Мир АБСОЛЮТА, то есть БОГА, должен был создать в себе и выделить из себя Божественную Вселенную. Именно Она со своими многочисленными Мирами должна была сформировать в себе весь информационный каркас, строму будущей проявленной – Физической – Вселенной и в последующем стать Ее информационной-контролирующей составляющей»70. «Непрерывная эволюция стала возможна с того мгновения, когда все Миры Божественной Вселенной были сформированы, когда Мир Жизненного Духа Божественной Вселенной стал информационной матрицей Физического Мира»71.
У Платона формулируется своего рода диалектическая триада: идея (эйдос); бесформенная, незримая иррациональная материя, или чистое становление; и, наконец, возникающая из соединения этих двух принципов материальная вещь со всеми ее чувственными качествами. Таким образом, Платон учит о двух материях – первичной, бесформенной и иррациональной, и вторичной, чувственно оформленной, подвижной и текучей. Первичная материя характеризуется как «восприемница и как бы кормилица всякого рождения»72, имеющая «незримый, бесформенный и всевосприемлющий вид, чрезвычайно странным путем участвующий в мыслимом и до крайности неуловимый»73.



