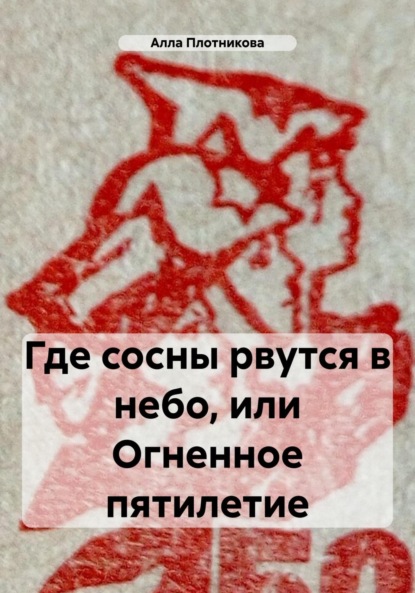
Полная версия:
Где сосны рвутся в небо, или Огненное пятилетие
Своим зорким глазом, видел бы и больше, глядел дальше, но Песковку окружает хвойный лес со всех сторон, с юга, с севера, с запада и востока. Это так называемый край, где сосны рвутся в небо…
Здесь, в верховьях Вятки, берега четко очерчены. Справа и слева к самой воде подступает тайга – ели, березы, сосны и много рябины. Поскольку речка здесь на северо-востоке, у истоков узенькая, берега кажутся высокими и крутыми. Дальше, принимая небольшие притоки, такие как Песковка, Ждановка, Холуная, Таволжанка, Чёрная, Лекма и Ленёвка, на юге Кировской области Вятка значительно расширяется и становится полноводной.
Но и без того хватает забот. Едва только почувствовав запах весны, Мурлок уже устремляется на улицу, не обращая внимания на лай сторожевых собак, осматривать свои владения. Он не знает ни страха, ни покоя, ни усталости. Кажется, будто он перенял часть души от своих хозяев или, может быть, по капле от всех песковчан, которые когда-то яростно сопротивлялись давлению власти.
И несмотря на то, что между подушечками его, по-рысьему, крупных лап, движущихся очень мягко, уже начинают сверкать серебристые ворсинки, он продолжает, держа местных котов в страхе, со двора на двор бегать в поисках встреч с кошечками.
Кот помурлыкал у ног девочки, а потом выгнул спину, зашипел и убежал. А Маринка раскрыла страницу и углубилась в чтение:
«Залазнинский чугуноплавильный и железоделательный завод основан (пущен в 1771) тульским купцом А. М. Мосоловым. Рабочие – выходцы из подмосковных мест, по фамилии хозяина получили прозвище «мосоловцы». Известно, что до 1917 года они не вступали в брак с крестьянами соседних селений. Залазнинцев всегда отличали высокая культура, чувство достоинства. Село расположено по склонам двух противоположных холмов около пруда и речки Залазна. Местность холмистая, изрезанная множеством небольших речек. Почва глинистая, а местами песчаная и известковая. Около завода три пруда, озёра, много родников, ключей, болот и трясин.
Залазнинский пруд – искусственный водоём, созданный на реке при строительстве плотины.
Пруд расположен на высоте ста девяносто одного метра над уровнем моря. Длина пруда два с половиной километра. Ширина один километр. Площадь водной поверхности пруда 4,3 кв. км. Протяженность береговой линии семь километров. Глубина – семь метров. Через пруд транзитом проходит река Залазна, а река Малая Залазна является притоком пруда».
Глава 7
***
Маринка читала и про себя вспоминала разговор за столом родственников: «Это дед упоминал. Какая память хорошая».
Дальше в тетради были выписки из книги: «Книга «Вятская епархия. Историко-географическое и статистическое описание», издана в 1912 году: «В 63-х верстах к северо-западу от Глазова находятся, относящиеся к Холуницкому округу, чугуноплавильные заводы. При заводах состоит 35991 десятина земли, из них 29662 десятины леса. Движущую силу заводов составляют 4 вододействующих колеса в 35 сил. Жителей в Верхне-Залазнинском заводе 3576, на Нижне-Залазнинском 318, на Белорецком 67, церковь во имя Спаса Нерукотворного, Волостное правление, школа, приёмный покой, 10 торговых предприятий (в т.ч. общество потребителей с оборотом 43 тыс. рублей). Есть ярмарка и еженедельные базары. 1889 год». (Семёнов-Тянь-Шаньский «Описание заводов, сделанные экспедицией»).
Она заострила внимание на том, о чём упоминали дед с дядей: «Есть ярмарка и еженедельные базары, церковь во имя Спаса Нерукотворного, Волостное правление…»
Маринка сменила позу, подвигала ногами и продолжила чтение: «Первый каменный храм в районе – Спасская церковь, построена в 1785 году, школа – в 1839 году, библиотека – в 1897 году. Заводские жители преимущественно рудокопы, которые зимой работали в шахтах, а весной отправлялись в Пермь на заработки. Крестьяне тоже занимались добычей руды на своих забойках».
– О рудокопах дед рассказывал, он про своего деда или отца говорил? А, неважно, дальше о чём написано? И кто всё-таки автор тетради?
А дальше в тетради упоминалось то о расцвете завода, то о банкротстве: «В середине XIX века, когда в дополнение к основному выстроили Нижне-Залазнинский молотовой (1842) и Белорецкий чугуноплавильный (1856) заводы, а село находилось на подъеме, Судьба неожиданно отвернулась от Залазны. После отмены крепостного права, государство, всегда опекавшее Уральские заводы, предоставило их самим себе. В 1862 году наделавший долгов Н.И. Мосолов вынужден был передать Залазнинские заводы в казенное управление. Заводы оказались обреченными на застойное существование, а в 1877-87 годах – вообще бездействовали. И тогда началось отходничество…
Только немногие семьи навсегда покинули родное село. Большинство же, оставив домовничать женщин и малолетних детей, отправились на заработки в Чусовую и Лысьву, многие копали руду и рубили дрова для Омутнинского завода. Равных в этом залазнинцам не было…
Надежда на возрождение стала реализовываться, когда Залазнинские заводы вместе с Холуницкими приобрел «винный король» России Альфонс Фомич Поклевский-Козелл.
Чугун из Залазны пошел в Белую Холуницу. Инженеры-поляки и духовенство способствовали превращению села в местный культурный центр. Более четырех тысяч человек проживало тогда в Залазне…
– Как хорошо, что нашёлся человек, который возродил заводы, пусть и фамилия у него странная!
Перелистнула страницу и дочитала: «Банкротство в начале XX века Холуницких заводов напрямую ударило и по Залазнинским. В конце 1904 года хозяин И.А. Поклевский-Козелл был объявлен несостоятельным должником, и Залазна оказалась вновь отданной на произвол судьбы.
Началось обивание порогов у министров, обращались к заводовладельцам Пастуховым.
Ходоков принимали депутаты Государственной думы. Всё было напрасно. Никто не хотел вкладывать деньги в заводы с демидовской технологией, да к тому же оторванные от железной дороги. Спасти заводы не удалось…»
От этих строчек, написанных ровным чернильным почерком, Маринке стало грустно, и она повторила: «Спасти заводы не удалось».
9. Влюбчивость Маринки
Как мышка по осени незаметно прокрадывается в дом, так же и Алёша Михайлов невесомой поступью прокрался в Маринкино сердечко. Но если грызунья, рискуя быть съеденной котом, селится поближе к человеку, спасаясь от холодов, то Алёша и самом деле серенький и маленький, точно мышонок и сам не подозревал о том, куда нелёгкая занесла его, спасаться ему было не от чего. Он так никогда и не узнал, что пришёлся по сердцу застенчивой однокласснице в синем платьишке. И Марина никак не проявляла своих детских чувств.
Ей просто нравилось наблюдать за ним, когда он шёл по улице мимо её дома – она спрятавшись за шторкой, любовалась. Его миниатюрная фигурка и ручки, как у куколки, радовали глаз. Затаив дыхание, она смотрела из-за шторы, когда он проходил мимо её дома, это случалось часто. Пришедший в их класс в середине учебного года, уже в конце зимы, Алёша вместе с родителями, покинул посёлок. И впрямь как мышка переждавшая холода.
Но не долго Маринка горевала, читая с мамой дневник лётчика, совершившего аварийную посадку в Сахаре, Марина вновь очаровывалась. Оказалось не обязательно наблюдать за возлюбленным, спрятавшись за шторкой, можно подглядывать и в щёлочки между букв.
Мама, читая вслух, то и дело прерывала повествование смехом, а Марине было совсем не весело, до слёз грустно.
Потерпевшему крушение пилоту, пришлось, ради сохранения жизни, съесть собственное сердце, выпить душу.
И если до Алёши, тайком, но могла она, под предлогом, что нужно что-то посмотреть в учебнике, коснуться, дотронуться до плеча или волос, то путешественника, пытающегося посреди пустыни починить самолёт, оставалось только жалеть.
Удивительно, но от этого он становился только аппетитнее. Его можно было лелеять, ничего не опасаясь и ничего не ожидая. Однако едва лётчик починил самолёт, как только взлетел в воздух, покинул безлюдную пустыню, так сразу перестал таить в себе притягательное сияние.
Оказалось, вся его прелесть жила в песках Сахары, в яростном солнце, в борьбе с жаждой, в стоящей за плечом смерти, в страданиях. Сам по себе лётчик был не интересен. Обычный, не уверенный в себе человек, без конца ищущий оправдания, нуждающийся в одобрении. Потому и о нём долго горевать Марина не стала.
Бравого лётчика в комбинезоне сменил перепачканный в глине шахтер, который как ни старался, отыскать серебра не мог. Оттого бросив кирку, отправился гулять по свету, оплачивая кров исполнением юмористических куплетов. Наверное, непобедимые оптимизм и жизнерадостность и привлекли Марину. В отличие от непобедимо серьёзного лётчика, старатель без конца шутил, пел, рассказывал дерзкие анекдоты, устраивал розыгрыши.
Был настолько непосредственным и весёлым, что можно было подумать: это ребёнок, но усы, как у шнауцера и всегда дымящаяся трубка, выдавали в нём мужчину. Возможно, Марина долго бы ещё хихикала под щекочущими прикосновениями этих усов.
Но советской школьнице угнаться за бросившим где-то в Неваде кирку шахтером, оказалось не по силам. К тому же в отличие от предыдущего рыцаря, ему не нужен был биплан. Для путешествий он использовал звёздную тягу Кометы Галлея.
Не просто было вновь открыть сердце и душу очередному кабальеро. Листала страницы: одни герои сменяли других, имена их звучали совсем тихо и повторять их раз за разом, не то что восклицать, не хотелось. Все они были недостаточно весёлыми и смелыми, не умели управлять самолётами, не дёргали, как кучер вожжи, кометы за шлейф. И даже те, у кого имелись усы, носили их, как украшение, а не щётку для щекотки советских школьниц.
Почти год странствовала Марина по разным странам и мирам, ни к кому не привязываясь. Как какая-нибудь аристократка середины восемнадцатого века, на заигрывания кавалеров отвечала, скорее из вежливости, а сами балы посещала по привычке.
Пока, как чаще всего и бывает, нежданно не пришёл, такой же маленький и серенький, как первый возлюбленный Марины, рыцарь, напоминающий скорее мышонка, чем воина в доспехах.
Внук турчанки, от роду русский, сын казака, появившийся на свет в Гранатном переулке, москвич по рождению и киевлянин по душе, он не бросал вызовов Сахаре, не высмеивал весь мир, не имел самолёта и даже усов. Но обладал удивительной силой: о чём бы ни рассказывал, его хотелось слушать не перебивая. Речь его напоминала древнюю песнь или заговор, она, точно ручеёк, ласкала слух журчанием, затем пугала диким рокотом горной реки, убаюкивала шуршанием первой позёмки и вновь пугала, только затем, чтобы вновь успокоить. О чём бы ни пела, использовала не просто слова, а понятное любому человеку, колдовское наречие.
Почти каждый вечер он рассказывал Марине историю про дочь лесника, которой знаменитый композитор подарил симфонию. И она слушала и мечтала, что и ей однажды седовласый музыкант, восхищённый красотой, посвятит если не симфонию, то точно песню, и засыпала нежным сном.
Этот человек с по-кукольному миниатюрными ручками знал столько сказок, так интересно рассказывал о своём детстве и юности, об ужасах войн, о волшебной силе музыки, что Марина слушала бы вечно и никогда бы не отпустила. Но как и положено, с рыцарями без лишних церемоний и строгих ритуалов, разобрался хулиган.
Он не жил по записанным кодексам, да и не знал их, и не хотел знать. И состоял не из дымчатых слов, долгих речей, трудной философии, а из выцветших на солнце волов, сбитых коленок, заусенцев на пальцах.
Распихав всех героев, протиснулся к однокласснице Женя Шефер, рослый и злой мальчишка. Но Марине он казался смелым и сильным, таким, который одинаково легко и тигра за усы оттаскает и камнем окно выбьет в спортзале.
Но несмотря на всю простоту и понятность, к нему тоже она боялась даже прикоснуться и наблюдала, как и за предыдущими рыцарями, со стороны.
Окончательно, сам того и не желая и не зная, влюбил Женя в себя одноклассницу, когда обливаясь за спортзалом слезами, заикаясь, повторял «Мама, мама, мамочка». Оказалось, хулиган способен не только с тиграми разбойничать и бить окна, но и испытывать душевные муки. Уже сильно позже Марина узнала, что Шефер плакал не из-за боязни огорчить маму, а потому, что его жестоко наказывали даже за самые незначительные провинности.
Но тогда его хотелось прижать к груди крепко-крепко. Впервые она испытала это жгучее чувство. Сильно жалела Марина, что подарила это переживание Жене, когда вскрылось, что он пустил слух о Люде Пахомовой, которая отказалась с ним гулять. Оказалось, рыцари способны не только завоёвывать сердца, но и подло мстить, если этого не удалось.
Возможно, если бы не Шефер, Марина не так старательно избегала бы неуклюжих заигрываний Миши Сычёва, длинного, как рыбацкий шест, мальчишки, выше Марины на две головы.
Он буквально не давал проходу: дёргал Марину за косички, за форменную юбку, стукал по плечу, по портфелю. И на экскурсии по местам боевых действий в Гражданскую войну все пятки отдавил. Возможно, настойчивость всё-таки пересилила бы посеянное Шефером разочарование в рыцарях, ну, или Марина, таки дотянувшись, расцарапала бы лицо грубияну. Но и этому не суждено было случиться.
Только начала привыкать она к Мишиным проявлениям нежности, он – фьюить – и ускакал вместе с родителями из посёлка.
Скорее всего Марина вернулась бы к героям из книг, которые никуда сбежать от неё не могли. Не распускали слухов и всегда являлись по первому же требованию, стоило только руку протянуть.
Но выйдя из страшного, обглоданного стужами-метелями весеннего леса, к ней подошёл главарь бандитов. Он ничего не говорил, тем более не дёргал за косички, усами не щекотал, не плакал и не смеялся. Просто взял за руку и повёл, неизвестно куда, за собой. Но в отличие от всех предыдущих рыцарей, на которых она, неважно, состояли они из дымчатых слов или из заусенцев на пальцах, – никак не могла повлиять, а если и коснуться, то только тайком.
Родиону Порубову Марина могла придать любые, какие пожелает очертания, сделать его великаном или карликом, превратить в бандита или героя. А значит он был из всех – самым прекрасным. Но в промежутках были ещё два мальчика. В пятом классе вежливый отличник Володя, Вовка Жгулёв. Маринка была счастлива тем, что сидит за этим мальчиком и постоянно, на каждом уроке, видит его спину. Часто совсем не слушая объяснения учителя, мечтала о том, как бы подружиться с этим Володей-Вовкой. Мечты не сбылись. Володя тоже сбежал из Песковки, в Сыктывкар, конечно, не один, а с родителями и младшим братом.
В шестом классе – Саша, Саша Гремячих, которого по странной случайности классный руководитель подсадила к Маринке. Но тайком касаться его плеч и волос неопределенного цвета, не хотелось. Зато он сам, коснувшись Марины, променял возможность гладить её покрытые крупными мурашками и мелкими ссадинами, колени на возможность списывать. На том окончательно и померк в глазах пионерки.
После чего её уже ничего не отвлекало от этой странной привязанности к Родиону Порубову, хотелось узнать его тайну, понять, почему он не хотел спокойно жить, а предпочитал сражаться, в течение пяти лет держа в страхе округу из нескольких районов.
Глава 8. Подражательницы
Катя с Маринкой посмотрели фильм «Неуловимые мстители». О приключениях четырёх подростков в годы Гражданской войны. Данька, Ксанка, Валерка, Яшка Цыган покорили девочек своей смелостью. Поэтому находясь под сильным впечатлением, подружки загорелись желанием написать книгу про приключения Родиона Порубова. Девочки представляли Родиона Порубова таким же ловким, смелым, как и эта неуловимая четвёрка, развязавшая партизанскую войну.
Купили толстую тетрадь в крупную клетку, набор автоматических ручек и бутылочки с разноцветными чернилами. Для черновиков принесли вырванные листки из школьных тетрадей. Решили обе сочинять. А потом из двух отрывков выбирать самое-самое. У Кати почерк был лучше, и она старательно красивым почерком вывела название «Неуловимый». Ниже написала «Глава 1».
– Катя, смотри, что я нашла про Родиона Порубова: «На территории Северо-Вятского горного округа в пределах Глазовского и Слободского уездов оперировала крупная банда, так называемого Родьки. Много активистов пострадало от руки этой банды, совершавшей налёты на комбеды и сельсоветы.
Бандит скрывался в хуторских населённых пунктах, расположенных среди дремучих лесов в непроходимых болотах. Много времени было потрачено на ликвидацию этой банды. Кроме того, задействовано много сил и средств, чтобы ликвидировать банду. Но хитёр был кулак-торговец Родион Порубов. Однажды, по указанию одного комсомольца, схватили и привезли в Омутнинск. Но он ушёл из-под стражи и долго ещё гулял по деревням и хуторам. Наконец был накрыт в доме кулака-хуторянина. Родька пытался бежать, но попал под меткие выстрелы милиционера-комсомольца и был убит».
Катя слушала и представляла тропы лесные, переплетённые корнями деревьев, в мрачном еловом лесу, по ним пробираются верхом на конях лихие всадники. Вслух произнесла: «Комсомольцам лет от шестнадцати до двадцати, а Родиону Порубову сколько лет? Наверно, за сорок. Что мы отсюда узнали? Торговец, значит, свой магазин есть. По-другому, лабаз называется. Как одет?
– Это мы из книги «С пакетом из 28-ой» посмотрим…
– А внешность?
– Маринка отмахнулась: «Придумаем что-нибудь. Напишем «ловкий, смелый, храбрый…»
– Тут же написано «бандит»…
– А моя бабушка считает, что он не бандит.
Сходили в библиотеку и взяли две книги о событиях, связанных с Гражданской войной: «Вятские парни» А. Мильчакова и «С пакетом из 28-ой» В. Кулябина. На странице 45 Маринка обнаружила такое описание: «Один из бородачей, широкоплечий мужик в суконном пиджаке и картузе с лакированным козырьком. Многие мужики сняли картузы и шапки. Впереди вышагивал офицер в английском френче и широченных галифе. За ним следовали бородачи в справной одежде».
В другой книге на с. 217 «Вятские парни» А. Мильчакова Катя увидела описание одежды и выписала: «Он был в шинели, явно не по его могучей фигуре, затянутый ремнями, с маузером на боку, в жёлтых ботинках на толстой подошве и в грязно-серых, похожих на онучи обмотках. Будёновка кривовато сидела на макушке».
Разложили перед собой выписки внешности и одежды из книг и пытались приспособить к Родиону Порубову:
с. 205 К вечеру появился полковой комиссар, загорелый, ясноглазый, кожанка нараспашку…
с. 208 Гонористый офицер с белым черепом на рукаве френча построил шеренгу конвоя…
с. 204 В лыковых лаптях, с порыжелым картузом на голове…
с. 190 С винтовками, вещевыми мешками за спиной, выходили и строились красноармейцы. Щеголевато одетый командир батальона с парабеллумом на бедре, затянутый бурым ремнём, крикнул…
с.182 Весь в чёрной лоснящейся коже, с пистолетом в деревянной кобуре на бедре, ещё моложавый, он встретил…
с. 180 Народ пожилой, усатый, есть и бородачи. Почти у всех своя одежда – ватные пиджаки из грубого сукна или крестьянские армяки. Но красные звёзды на шапках да патронные подсумки на ремнях свидетельствуют, что это – солдаты Советской республики.
– Какие- то описания неподходящие к нашему неуловимому герою или неуловимому бандиту, – вымолвила Катя.
– Итак, – Маринка, прочитав ещё раз все выписки, составила такое описание внешности главаря: «ещё моложавый, загорелый, ясноглазый, с пистолетом в кобуре, к тому же широкоплечий в суконном пиджаке и картузе с лакированным козырьком». Хорошо получилось?
Катя усомнилась, но вслух говорить не стала, чтобы не рассердить Марину, а то из-за ссоры книга не появится.
***
Маринка с мамой уехала в Ленинград. Обещала из города отправить Катьке письмо и обязательно привезти сувениры. Но Неву, видимо, способны преодолеть только послания, сложенные треугольником. Письма всё не было, а грусть с каждым днём накапливалась. Они и в Песковке, конечно же, виделись далеко не каждый день. Но казалось: были настолько близко, что всего-то нужно руку протянуть. Случись что, Катя мигом могла домчаться до улицы Катаева, поделиться с подругой переживаниями, разделить и счастье и грусть-тоску. В отсутствие же подруги было как никогда одиноко. Утопающие в зелени улицы, раньше казавшиеся по-летнему праздничными, стали видеться запустелыми, брошенными на съедение дикой природе.
Посетители почты, где на каникулах Катя подрабатывала сортировщиком подписных изданий, раньше весёлые и доброжелательные, стали докучливыми, притворно-счастливыми. Даже утренние птицы, щебеча, не озаряли радостью, а нагоняли ещё большую смурь. И брела Катя на почту, сбивая с травы прозрачную росу, грустная-грустная.
Она могла поговорить и с мамой, с сёстрами, но самыми искренними мечтами с ними почему-то было стыдно делиться.
А Маринка, даже если и смеялась над некоторыми откровениями подруги, то этим никогда их не омрачала. Наоборот от её смеха становилось светлее. Посмеявшись, они вдвоём могли всё, верила Катя. Вот только Марина, оставив подругу, уехала в Ленинград. Всего на семь дней, но бросила. А если бросила, то какая разница: на неделю или на века, пришлёт письмо или привезёт сувениры.
Скорее, чтобы отделаться от этих липких мыслей, чем на самом деле желая помочь, Катя решила выяснить, кем же был это загадочный возлюбленный подруги: героем или бандитом?
Поначалу она, следуя намеченному плану, упрямо вчитывалась в разнообразные публикации на тему Гражданской войны, не удивительно, что скоро даты сражений и фамилии командиров слиплись в один вязкий комок неопределенного цвета. Который от страницы к странице, с каждого предположения, наматывая на себя всё больше пустых слов, разрастался е единственной целью: утянуть за собой в топь, где всё мёртвое, каждого, кто коснётся его клейкого тела. Вероятно, и Катя, увязнув в трясине ничего не значащих дат, фамилий, топонимов, утонула бы в этом болоте минувших дней, где целые поколения, не зная где гать, зазря сгинули.
Но в одной из книг, случайно зацепившись за спасительную кочку, она, сама того не заметив, стала в свою тетрадку записывать не жизнеописание Родьки Порубова, а сказочные красоты родного края. Выстраивать над зыбкой падью летучую переправу. То там, то тут выдёргивая по пёстрому пёрышку. Больше всего пощипала сказку «Гай и Буртик» Сахарнова. Ритм текста позаимствовала оттуда же.
«Далеко на востоке, на северо-востоке Вятского края, лежала местность под названием Бисерово. Она, сонной принцессой, прилегла там, где матушка-Кама красавице, бабушке-Волге, заплетая косы, напевает древние заговоры. Прилегла, никого не стесняясь и не боясь, зная, что в этой колдовской местности не нашлось и участка для обиталища вороватых душ-крупных городов. На живой земле, отражаясь в чистом небе, стояли так, как удобно им – посёлки, починки, деревни, сёла, хутора, заимки – драгоценным бисером рассыпались среди дремучих лесов по берегам речушек, речек, рек, озёр.
В свою очередь и бескрайняя синь неба отразилась не только в посёлках, но и в поселянах. Оставляя следы своих прикосновений и в характере людей, и в облике домов. Во всём откликались бескрайняя синь свободы, кружевной переплёт древних заговоров.
В крашеных избах с нарядными наличниками, в воротах с прорезным орнаментом, в амбарах, никогда не видевших, но как родные братья, напоминающих пирамиды, в сеновалах размером с Колизей, в колодцах, где не отражаются, живут звёзды, в украшенных тончайшим кружевом часовнях и церковках, которые обязательно стояли в каждой деревеньке.
Улицы, улочки, переулочки, проулочки, закоулочки, пахнущие свежим деревом и пряным сеном, точно не нашим, а другим, более древнем миром».
Катя оторвалась от переписывания, вложила карандаш в тетрадь, закрыла её. На почте, кроме заведующей и самой Кати, не было никого. Девочка вышла на крыльцо, стараясь понять, пахнет ли их улица более древним миром, сделала несколько глубоких вдохов. Ароматов пряного сена и свежего дерева не ощущалось. Зато, чтобы почувствовать запах солярки, оставшийся в воздухе от проехавшего полчаса назад трактора, не нужно было делать глубоких вдохов. Катя едва вновь не впала в уныние, но оставленная на столе книга звала её: «И люди, хранящие в себе небо, несмотря на суровый климат, про который в песне поётся так: «Десять месяцев зима, остальное – лето!» В основном занимались не хандельством или фарисейством, а не меняя мир на быструю монету, оставались землепашцами, поливали родную землю собственным потом, порой и слезами, но всегда был у них свой хлеб: и себе, и на продажу, и про запас».
Глава 8
Катя вздохнула, подумала: «Мои папа и мама не землепашцы. Неужели едят не свой хлеб?»,– но не перестала переписывать: «Ведь годы не всегда урожайные. Бывает и так, что сколько не кручинься, а толку нет. Засуха или затяжные дожди губят самый тяжкий труд. Но люди и тогда не унывали. Тем, кто побратался с небом, игры природы, – девичьи забавы, не более. Всего-то нужно переждать, усиленно огородничеством заняться, бортничеством тоже, ягоды, грибы запасти. И охота с рыбалкой помогали пересилить длинную снежную зиму. Скот держали, благо пастбищ было много, держи – не хочу».

