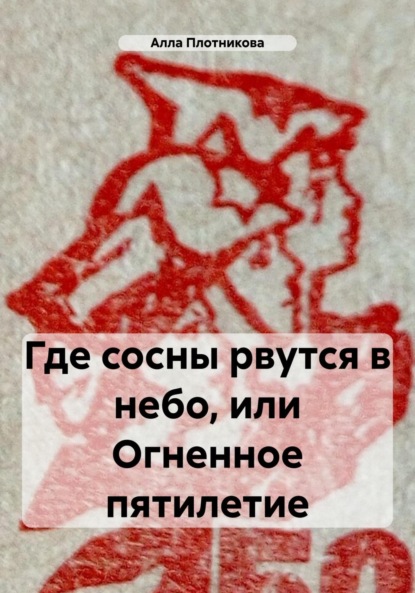
Полная версия:
Где сосны рвутся в небо, или Огненное пятилетие
Их поселение получило название Залазна: то ли по названию реки, на которой находилось, то ли само поселение дало имя реке.
«Интересно, кто это всё писал? Может быть дедушка?» – сама у себя спросила Марина и себе же ответила. Вспомнила про оставленный на столе бидончик с квасом. Уже собралась тут же отнести его дедушке, но решила дочитать страничку: «В конце 1760-х годов Антип Максимович Масалов начал строительство домны и кричной фабрики «о трех молотах». Антип с сыном Иваном «вспомнили» про некогда разведанные рудники Красноглинской волости, наметив постройку завода на реке Залазна.
Датой пуска завода считается 1772 год. Выгодное расположение завода (на кайско-глазовском тракте) приводило в Залазну купцов. Залазнинская пристань на реке Белой была средоточием товаров.
Залазнинцев всегда отличала смекалистость, расчетливость и деловитость. При постройке домов стремились к их внешней красоте и ухоженности.
Ажурные шторки (вышивка «ришелье») полноправно сочетаются с резными деревянными ставнями. Вышивка украшала многие избы.
Вышитые полотенца («рукотерники» по-вятски) вешали на образа, на зеркала и на рамки с фотографиями. Стены украшали вышитыми салфетками.
Особой «невестой» выглядела в избе кровать. Долгими вечерами женщины плели кружева, делали ажурную прорезную вышивку для спинок кровати, для подзоров (нижняя часть кровати), для покрывал, наволочек и накидок на наволочки. Подобного рода «одежда» жилища вызывает ощущение восторга от возможностей человека.
Мастер оставлял душу в каждом предмете обихода: в прялке, веретене, полках для посуды. Чисто выбеленная печь, начищенный стол, вымытый пол покрыт домоткаными половиками. Дерево дышит в каждом углу дома теплотой и светом. Деревянные стены обычно не заклеивали, как сейчас обоями, а оставляли дышать».
– Внуучеенька! – в дверях стояла бабушка. Марина подскочила со стула и побежала относить дедушке квас к соседям через дорогу: дед помогал скошенную траву сметать в стог.
Глава 3
4. Сбор в Пионерской комнате
Заводской посёлок тогда, в сентябре, выглядел так. Усадьбы с деревянными домами, в палисадниках которых кусты черёмухи, рябины или сирени, живописно располагались по берегу реки Вятки; в середине посёлка – пруд с плотиной для бесперебойной работы завода. Чугунолитейный завод, на котором что-то скрежетало, грохотало, пыхтело, ухало, звенело… Если от Маринкиного дома бежать вниз по главной улице Ленина к проходной завода, то справа увидишь новое двухэтажное здание клуба – ДКМ, или Дом культуры металлургов. Здесь же на первом этаже приютилась детская библиотека.
На Угоре возвышалась двухэтажная деревянная школа, невдалеке – памятник с пятиконечной звездой в деревянной оградке – братская могила героям, погибшим в Гражданскую войну. Перед школой рощица из тополей, посаженных старшеклассниками-выпускниками. За пределами школьного двора – школьная библиотека и школьный краеведческий музей.
К концу последнего урока – а это была литература – подошла вожатая Галина Михайловна и объявила, что члены совета дружины должны явиться в Пионерскую комнату.
Маринка вздохнула, так как уже успела представить себя размахивающей портфелем, радостно, вприпрыжку бегущей домой. Но что поделать: членство в пионерском совете налагает свои обязательства.
Вместе с Мариной из её шестого класса ещё три девочки пошли на собрание. В Пионерской комнате все уселись за длинным столом, покрытым красной плюшевой скатертью. Было их около тридцати человек.
Маринке всегда казалось, что эта комната выглядит празднично: из-за горнов, барабана, кумачового знамени с жёлтыми кистями. На шкафу, обозначая, что взгляды пионерского совета распространяются далеко за пределы школьных стен, расположился глобус, а стоящий в центре комнаты бюст В.И. Ленина, казалось, с хитрецой поглядывая на школьников, одобрительно улыбался уголками губ, на стене за вождём висела карта Союза Советских Социалистических Республик, по контуру карты имелись сноски с коротеньким описанием успехов каждой из республик, венчала карту надпись: «ВЕЛИКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ!»
– Внимание! Члены совета дружины! Повторяю: активные члены совета дружины, посмотрите все на меня! Мне поручено сообщить вам, что местному краеведческому музею требуется помощь. Необходимо собрать сведения о местных героях Гражданской войны. И не только собрать, а красиво оформить. Сейчас мы этим и займёмся, то есть распределим, кто о каком герое будет собирать сведения.
Вожатая показала образец оформленной страницы альбома с крупным заголовком: «Герои Гражданской войны посёлка Песковки».
И Галина Михайловна начала распределять участников Гражданской войны каждому члену совета дружины. Маринке достался Катаев:
– Я живу на улице Катаева, и надо знать, кто это такой.
Рядом с вожатой сидел юноша постарше Маринки и что-то увлечённо оформлял с помощью красок. Это оказался десятиклассник, художник- оформитель школьных стенгазет, Алексей Решетников. Галина Михайловна представила его всем присутствующим для того, чтобы обращались к нему по оформлению альбома для краеведческого музея.
***
В учебнике «Родной край» В.М. Максурова и А.И. Лахмана Марина прочитала о том, что Песковка находилась во власти Колчака 35 дней. Глава так и называлась «В боях против Колчака». Подробно описана здесь гибель Прокофьева. А про Катаева – ни слова. Маринка упрямо водила пальчиком по строчкам учебника, но упоминания о Катаеве так и не нашла.
На следующий день девочка отправилась в библиотеку, библиотекарь посоветовала взять сборник «Выросли мы в пламени, в пороховом дыму».
Пролистав весь сборник и не встретив фамилии Катаева, Маринка горестно вздыхала: нет ничего и как оформить страницу для музея?
Вот бы кто-нибудь придумал такую чудесную машинку, которой какой вопрос не задай – ответ сразу и получишь. Марина тяжелее обычного вздохнула и тайком между страничек сборника «Выросли мы в пламени, в пороховом дыму», вложила маленький сложенный из фантика конфет «Мишка на Севере», цветочек. «Пусть человеку, который будет читать эту книгу после меня, достанется приятный сюрприз». Захлопнула книгу. Поправила гольфы. Открыла книгу, на случайной странице, простым карандашом написала: «Мой наряд – мои доспехи».
Возвращаясь из библиотеки, Маринка зашла в гости к своей обожаемой подруге Катьке, но обнаружила дом запертым на замок: «Да что за день такой! Не везёт и всё!».
«Ну и где же ты, путешественница?» – сама у себя спросила Марина и, будучи воспитанной пионеркой оставила, записку, в которой сообщила подруге о своём визите и, уже уходя, закрепила у окошка Катькиной спальни такой же нежно голубой цветочек, сложенный из фантика конфет «Мишка на Севере».
В Союзе, едва ли не до самого развала, была распространена выписка журналов и газет. Так к примеру пионеры выписывали газету «Пионерская правда». Ученики постарше – «Комсомольскую правду», на страницах которой публиковались произведения многих молодых писателей, публицистические или научно-популярные статьи. А молодёжь в возрасте около двадцати, газету «Собеседник» или журнал «Ровесник», но самым популярным молодёжным журналом Советского Союза, конечно же был, журнал «Смена». Именно в «Смене» появились первые рассказы Михаила Шолохова и Александра Грина, стихи Владимира Маяковского, опубликовали свои первые произведения Константин Паустовский, Лев Кассиль, Валентин Катаев. Были напечатаны отрывок из нового романа Алексея Толстого «Пётр I» и его сказка «Приключения Буратино».
Для самых маленьких членов семьи родители выписывали цветные журналы «Мурзилка» или «Весёлые картинки», в которые входили сказки, стихи, раскраски, и прочие ориентированные на самых маленьких жителей СССР, материалами.
А для себя родители выписывали газету «Известия», и другое популярное советское издание газету «Труд». Также пользовались популярностью издания «Советский спорт», «Литературная газета», по некоторым данным считающаяся преемницей «Литературной газеты», издаваемой А.С. Пушкиным, «Аргументы и факты»,
Но, естественно, наибольшей популярностью пользовалась газета «Правда», которую в 1912 году основал сам В.И. Ленин.
Помимо того издавались специализированные журналы отвечающие запросам среди определенных группе. К примеру: «Юный техник» – журнал о науке и технике. «Юный натуралист» – журнал для школьников о природе, природоведении, биологии и экологии. «Моделист-конструктор» – популярный научно-технический журнал. «Радио» – массовый научно-технический журнал, посвящённый радиолюбительству, домашней электронике, аудио/видео, компьютерам и телекоммуникациям. «Наука и жизнь» – ежемесячный научно-популярный иллюстрированный журнал широкого профиля. «Вокруг света» – научно-популярный и страноведческий журнал. «Здоровье» – журнал о здоровье человека и способах его сохранения. «Роман-газета» – литературный журнал. «Огонёк» – общественно-политический и литературно-художественный иллюстрированный еженедельный журнал. «За рулём» – популярный журнал об автомобилях и автомобилестроении. «Советский экран» – иллюстрированный журнал о кинематографе и телевидении. «Крокодил» – сатирический журнал. И это только малая часть выписываемых советскими людьми газет и журналов.
Корреспонденцию без особого труда можно было подобрать на любой вкус, будь то увлечение физикой, математикой, механикой или любой другой наукой, будь то интерес к моде или пошиву одежды, будь то литература или музыка (к журналам на музыкальную тематику не редко прилагалась и пластинка), будь то увлечение спортом или медициной, рыбалкой или охотой, кулинарией или огородничеством. Журналы и газеты печатались в колоссальных количествах.
Помимо того, наряду с центральными газетами, в каждой союзной и автономной республике СССР было множество региональных изданий, в которых освещались местные новости, обсуждались локальные проблемы, печатались интервью с партийными руководителями, передовиками производства, республиканскими деятелями науки и культуры.
Так и семья Марины выписывала немало различных газет и журналов.
И вот, даже не имея чудесной машинки, которой какой вопрос ни задай – ответ сразу и получишь, Маринка в огромном информационном потоке советских печатных изданий наткнулась на искомую информацию. А нужно было всего-то протянуть руку к почтовому ящику. В нём оказалась районная газета «Ленинец», где и была напечатана заметка о Катаеве.
«Чудо какое. Точно кто-то наколдовал!» – воскликнула Марина. Не понимая тогда, что все чудеса свелись всего лишь к особенностям восприятия. Наверняка, Марина и ранее не единожды, в разных источниках, встречала упоминание о Катаеве, но не обращала внимания.
Главным читателем газеты был дед. Поэтому радостная от неожиданной находки, (а быть может ожидаемой, ведь она ни до, ни после «Ленинцем», не интересовалась) быстро переписала сведения в свою тетрадку, пока дед не узнал о газете. Он всегда старался первым узнать местные новости.
«Катаев С.Ф. – секретарь парторганизации в отряде»,– вывела Марина на альбомном листе.
Катаев Спиридон Филиппович родился в Пемской губернии. Деревня называлась Катаево. Год рождения 1887. Старший сын в большой семье, крестьянская работа лежала на его плечах, так как отец стал инвалидом. В 1902 году Спиридон ушёл из дома в Пермь, чтобы работать на Мотовилихинском заводе. Сперва присматривался к работе в качестве ученика, а позже самостоятельно выполнял порученное дело. Вовлекся с охотой в революционную работу. Он скучал вдали от дома по своей деревне, семье – а тут смена деятельности. Рабочие уходили в лес, выступали там. Спиридон Филиппович, подражая старшим рабочим, тоже становился оратором. Марина прочитала и о том, что полиция не дремала, а выслеживала митинги рабочих, арестовывала зачинщиков.
Наступил 1918 год, и Катаев распоряжением свыше оказался в Вятском крае. С группой пермских рабочих его направили в город Глазов для защиты посёлков северо-восточной части Вятской губернии от захвата Колчаком.
В марте 1919 года Катаев прибыл в Песковку. Спиридон Филиппович зачислен политруком в роту ВЧК под командованием Байдарова. Ораторствовать Катаев научился, поэтому выполнял разъяснительную работу среди песковской рабочей молодёжи. Благодаря его красноречию около ста песковчан-добровольцев влились в отряд для отпора колчаковцам.
Маринка не всё понимала, но упорно писала: политрук, в аббревиатуре ВЧК сначала буквы переставила местами, случайно написала ЧВК. Крест на крест зачеркнула.
Чтобы отдохнуть от переписывания, Маринка раскрыла папку, в которой хранила репродукцию картины: Сюзанна Валадон «Брошенная кукла». На картине изображена мать, помогающая ещё не до конца очнувшейся от уютного сна дочери одеться в школу. Неуютная поза девочки указывает на то, что ей холодно, в школу идти не хочется, и она упрямясь не смотрит на маму, а упрямо глядится в маленькое зеркальце. Марине понятны переживания девочки, она и сама каждое утро, собираясь в школу, мёрзнет, не потому что в доме холодно, а от того что тело не готово ещё просыпаться, но учёба не ждёт и приходится превозмогая дрожь вновь и вновь, каждый день, выбираться из-под бордового одеяла. Помимо этого, глядя на картину, Марина отмечает, что и прическа, и фигура у неё с этой неизвестной девочкой поразительно похожи. Как будто художник сумел уловить ту, отличительную черту совсем юных девушек, непонятно как сочетающую в себе и робость, и смелость, грацию с угловатостью, любопытство и страх.
Оттого Марина нередко ловит себя на мысли: «Как с меня писали», ещё эта кукла, лежащая на полу. У Марины имеется такая же, ну, или почти такая.
«Но почему она брошенная? Девочка больше не любит её? Или не желая идти в школу, на уговоры матери ответила тем, что бросила любимую куклу на пол и теперь сама жалеет об этом?» – подумав так, Марина пожалела и брошенную куклу с картины и свою, уже не первый день пылящуюся в шкафу. Она даже решила достать любимую куклу и поиграть с ней, но дед уже совсем скоро должен возвратиться с работы, и Марина, вздохнув, взялась за перо.
Глава 4
5. Новенький
В класс пришёл новенький, и классный руководитель зачем-то подсадила его к Маринке. Маринка не стала протестовать, побоялась возразить. Но про себя фыркнула. Не только потому, что ей не понравился новенький, но и оттого, что их с Галей Клюквиной разлучали. За одной партой они сидели с первого класса. И хотя девочки не были подругами, но на своей ученической цветнице прекрасно уживались, несмотря на внешнюю непохожесть.
Галя, девочка-матрёшка, вся такая русская-русская, с голубыми глазами, пухленькая, миловидная настолько, что невозможно как хочется потискать, так ещё и белокурая, с всегда немного растрёпанными косичками, со вздернутым, задиристым носиком, с озорной улыбкой и ямочками на щёчках. Про таких как Галя говорят: «краса-девица». И Марина, тоже пухленькая, но если Галя напоминает матрешку, то Марина кубышку. И глаза, у Гали сравнить можно с лазуритом или июльским небом, а синие Маринины, в лучшем случае, с морской волной. На этом схожесть заканчивается.
Марина более высокая и крепкая, более строгая, не такая яркая. Нестерпимого желания потискать – не возникает. Про таких говорят: обычная девочка. Выделялась она только причёской, но и за стрижку благодарить нужно бабушку. Неизвестно, видела ли она фильм об уснувшей принцессе, но стоило только немного волосам отрасти, как бралась за ножницы и, точно Александр де Пари, начинала ловко орудовать ими. Оттого внучка всегда носила аккуратную стрижку, а-ля Одри Хёпберн периода «Римских каникул».
Видимо, несмотря на то что бабушка являлась домохозяйкой, в душе она всегда была парикмахером или, возможно, мечтала им быть. За неосуществленную мечту бабушки Маринке временами доставалось от педсовета. В семидесятые стрижка «пикси» считалась чем-то непозволительным для школьницы. Как-то Марина хотела сказать бабушке, что будет подстригаться, как и все одноклассницы, в поселковой парикмахерской, но так и не стала протестовать, побоялась обидеть, возможно. Но про себя несколько раз фыркнула.
Новенького звали Саша Гремячих. Низкорослый мальчик с множеством веснушек, никогда не просыхающим носом и волосами неопределенного, какого-то рыже-пепельного цвета, как у пегой коровы.
И хотя Саша и оказался тихим, едва заметным учеником, Марина отчего-то держала с ним ушки на макушке, но как это чаще всего и бывает, чересчур настороженный часовой засыпает первым. Так и Маринка, в один из дней, увлекшись контрольной, потеряла бдительность. К концу близился урок математики. Решали задачу, и клетчатые листочки, понемногу передаваемые через парты, скапливались на учительском столе.
Тогда-то новоиспечённый сосед, шмыгая носом и глядя неопределенного цвета глазами, попросил: «Марин, можно я тебя поглажу по коленке?» Маринка сначала удивилась, а потом испугалась, что он её обзовёт каким-нибудь прилипучим прозвищем или после уроков невзначай стукнет, или, что хуже всего, пустит по школе какой-нибудь слух, как то сделал Женя Шефер, когда Люда Пахомова отказалась с ним гулять. После чего, в следующие несколько недель, пока всё не выяснилось, с ней, Людой, никто из одноклассников не общался.
«Ладно», – прошептала Марина и крепко-крепко зажмурилась. Но вместо ожидаемого онемения все чувства обострились. Ладонь под партой, лёгшая на коленку, была немного влажная, немного липкая, но приятно бархатистая, как у бабушки. Разглядывая расплывающиеся по сторонам темные круги, Марина даже успела вспомнить, как бабушка, когда она обожгла крапивой ноги, лечила её какой-то собственного приготовления мазью и, поглаживая колени, приговаривала: «Батюшка Боже, ты всем Богам Бог, всем ты огням огонь! Как ты жжешь и палишь в поле травы-муравы, чащи и трущобы, у сырого дуба подземельные коренья, семьдесят семь кореньев, семьдесят семь отраслей, так и спали с Маруси скорби и болезни. Ныне и присно и от круга до круга! Тако бысть, тако еси, тако буди!»
От этих слов произнесённых про себя, Марине даже на секунду стало спокойнее, но Саша в отличие от бабушки ничего не говорил, а только шмыгал носом. Марина было решилась убрать руку наглеца и уже потянулась.
«Золотарёва, что ты там делаешь? Кривляешься! Наверное, уже всё решила! Так я могу дать дополнительные задания!» – Марина вздрогнула и, боясь как бы учительница не заметила Сашиной руки, открыла глаза и сделала вид, что решает уже решённую задачу.
«Марин?» – тоже делая вид, что что-то решает, прошептал Саша. Его рука продолжала путешествовать по покрытой крупными мурашками и мелкими ссадинами коленке.
«Чего тебе?» – боясь, как бы Саша не выдумал ещё какую глупость, не сразу отозвалась Марина.
«Марин», – он помедлил. Собрался с духом: «Марин. Это…» В очередной раз шмыгнул носом: «Дай списать».
Марина безропотно, словно робот, подвинула черновик так, чтоб удобнее было списать, а тетрадь подвинуть не осмелилась, так как за списывание и за помощь по списыванию математичка безжалостно ставила в журнал двойку, а это было куда как хуже, чем чья-то влажная ладонь на коленке.
В дальнейшем так они и приспособились. Даже на контрольных работах Маринка успевала решить два варианта, и Саша был доволен, что родители его перестали ругать за двойки по математике. Маринкину коленку он больше не гладил, и она даже пару раз думала: «Вот тебе и жених. Дай ему только списать!»
Раскрылось всё банальным образом: Маринка несколько дней из-за болезни не ходила в школу, и Саша наполучал двоек по алгебре и геометрии. Классный руководитель оставила Маринку после уроков и начала задавать вопросы, как она умудряется помогать Саше.
Маринка похлопала глазами, сделала невинное личико, а потом выдала: у меня хороший почерк, а у него зрение.
– А на контрольной как? – въедливо спрашивала математичка, она же классный руководитель.
– Что-то он умеет решать. В школу же ходит.
Сашу пересадили за другую парту, к Жене Шеферу, рослому, злому мальчишке.
«Ему коленку не погладишь, – идя домой, думала Марина. – И уж точно не посписываешь». Но от этой мысли ей почему-то стало совсем не весело. Она чувствовала себя соучастницей. Виновной в преступлении. Лишь годами позже узнала, что не во всех школах списывать грешно.
В иных одноклассники глядят укоризненно не на тех, кто позволяет списывать, а на тех, кто отказывает в помощи соседу по парте. Россия большая: везде и порядки, и воспитание, и традиции свои. И это совсем не означает, что одни правильнее других. Просто учителя и родители в разных республиках преследуют разные цели. Марина ещё не знала этого, и оставшаяся дорога показалась тягостной.
Но дома бабушка встретила приветливо, накормила внучку, и та повеселела. А чтобы окончательно переключиться от неприятного разговора с классной, Маринка взяла тетрадь с буквами «ЗЩ» и углубилась в чтение.
***
Залазнинский завод
14 апреля 1919 белые заняли Залазну. Село Залазна освобождено 7 мая 1919 года.
«Дедушка жил в Залазне. Интересно, помнит он те годы», – подумала Марина, и глаза скользнули по другой строчке.
Рассанов Степан – председатель Комсомольской ячейки, скрывался, вел подпольную работу.
Слово «подпольная» вызвала в Марине ассоциацию с её коротким романом с Сашей: «Ну вот и ты, Маринка, тоже вела подпольную работу»,– вздохнула она.
Князев Петр Николаевич – комсомолец, казначей ячейки Комсомола – организовал расхищение патронов у белых, захватил у них пулемет, вел агитацию среди белогвардейских солдат.
«Вот он настоящий герой! А этот только списывать и может!» – Марина вновь вздохнула. Перелистнула страничку. Если на предыдущем листе почерк автора был красиво-размашистый, то следующий лист открылся исписанным мелким, стиснутым почерком, человек писавший явно старался уместить на него не умещающееся:
***
История Гражданской войны в Омутнинском районе
23 декабря 1918-го белые, вклинившись в стык между подразделениями красных, ворвались в Пермь. Вел их талантливый 27-летний генерал А.Н. Пепеляев. В результате паники, охватившей ряды красных, белым удалось захватить 21 тысячу пленных, пять тысяч вагонов, шестьдесят орудий, тысячу пулеметов, несколько броневых поездов, в том числе поезд самого Ленина, и замерзшую у пристани Камскую флотилию.
«Ничего себе!» – даже не имея информации для сравнения, удивилась Марина.
В январе-феврале 1919 года бои красных с белыми развернулись на линии Гайны – Юксеево – Кочево – Кудымкар, но уже в начале марта переместились на территорию нынешнего Афанасьевского района.
Названия населённых пунктов, одни были мало знакомы, другие и вовсе не знакомы, но девочка упрямо старалась запомнить, где, когда и кто воевал. Естественно, из этого ничего не выходило. Лишь времени тратилось больше, ведь некоторые строчки она перечитывала по несколько раз.
7 апреля белые взяли Песковский завод. Посланная из-под Глазова кавалерийская бригада под командованием Ф.Е. Акулова безуспешно пыталась преградить белым дорогу в Пермскую волость (Зимино, Красноглинье), но уже к 8 апреля была отброшена к Омутнинскому заводу. Пришедший из Глазова и находившийся в Залазне 10-й Московский полк красных не смог удержать ни Шумайлово, ни Пермятской, а в ночь с 13 на 14 апреля оставил Залазнинский завод. Именно тогда у белых появилась реальная возможность наступать и на Омутнинский завод. Причем, как от Ежово (через Сидорята), так и со стороны верховятских деревень (от Горево и Киршат).
Выполняя распоряжение ЦК РКП (б) от 11 апреля, все силы были брошены на эвакуацию заводского оборудования (фактически – на разукомплектование завода на случай прихода белых) и вывод мужского населения призывного возраста (от 18 до 45 лет). Руководил эвакуацией председатель ВРК Северного горнозаводского округа М.Н. Коковихин при содействии бойцов кавалерийской бригады Ф.Е. Акулова.
Когда с востока надвигалась армия Колчака, в Бисеровской и Афанасьевской волостях вспыхнули кулацкие восстания. Кулаки разогнали местные Советы, уничтожили прибывший из Глазова красный отряд.
Из Песковки, Кирса и других поселков стали съезжаться в Омутную красные добровольцы. В объединенный отряд по ликвидации восстания влились и молодые рабочие Омутнинского завода. Командиром был назначен
И.К. Жижин.
Марина вновь, беззвучно, лишь шевеля губами, проговорила: «Вот он настоящий герой. А этот только списывать может». Несмотря на то что Саша убрал свою влажно-бархатистую ладонь ещё в тот же день, но мысленно продолжал держать Марину за коленку.
Крупные банды восставших кулаков были рассеяны, активные участники их обезврежены. Но в некоторых местах они еще продолжали терроризировать население. Ни одна ночь не проходила без ограбления, поджога, убийства. Бандиты не щадили ни детей, ни женщин.
Маринка захлопнула тетрадь и подумала: «Да уж, успокоительное чтение, ничего не скажешь».

