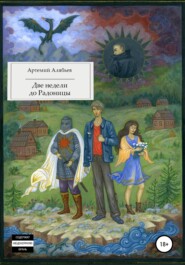 Полная версия
Полная версияДве недели до Радоницы
Мы зашли в харчевню. Ни за что бы не нашел этого заведения, а если бы нашел, то не ступил бы внутрь ногой. Грязное место, а за столами – подозрительные сборища. Спутник мой был при деньгах и заказал для нас позы и то, что он назвал горлодером. Я напомнил, что мы так и не представились и назвался по имени. Он усмехнулся и сказал в ответ: «Очень приятно. Я Муравьев-Амурский». «Я спросил серьезно», – холодно бросил я. Мне не нравилась его игра. «Нессельрод», – последовало. «За кого вы меня принимаете?», – я хотел было подняться и уйти. «Да бросьте вы. Что вам даст мое имя? Вы даже не представляете, в каких разных местах я жил, и в каждом звали по-разному. Почему бы не сойтись на Нессельроде? В конце концов, именно так меня кличет ваш начальник». «Так значит, вы избавляетесь от людей по его наказу? Так, как предложили мне там, на базаре?». Он не ответил. Взглядом показал, что вопрос был лишним. «Вы анархист? – продолжал я, – Поэтому вас сослали? Заметил черный крест на руке». «Этот крест ничего не значит», – отмахнулся он. «О нет, он весьма говорящий. Объясняет ваше пренебрежительное отношение к человеческой жизни». Это его развеселило. «И чем же, по-твоему, занимаются анархисты? Да хоть любые из этих… революционеров». Сказал он это слово, «революционеры», с явно пренебрежительным тоном.
«Я давно был в Петербурге, кажется, уже лет десять минуло, но разве что-то поменялось? – голос его теперь был серьезным, – Дай угадаю. Все так же сидят по кофейным, обсуждают злодейства ancien regime26. Люди, которые ни дня в своей жизни не работали. Знать не знают, что такое честный труд и выдержка, но уже горазды кричать о свободе и революции. Студенты, юристы, артисты – непризнанные, в основном – да просто люди с большим честолюбием и огромными амбициями – они последуют за любым лидером. Просто потому что таков сейчас air du temps27. Это я из опыта говорю: я тоже считал себя революционером, когда позволял возраст. Заговор становится образом жизни, чтобы прятаться от вас, жандармов. Гений Николая, о котором он и не помышлял, состоит в том, что, учредив Третье отделение, он придумал замечательную игру в кошки-мышки. Привнес направленность и смысл в жизни большого количества потерянных молодых людей! «Мы проведем существование в борьбе за лидера, чьих идей даже не понимаем!» так мог бы вскричать любой из нас в то время.
Такой образ жизни соблазняет, без сомнений. Нет ничего более увлекательного, чем скрываться на квартирах, использовать тайный код и встречаться в неудобных местах. Но если убрать элемент игры, что останется? Пустота. Ибо не было никакого центра, никакой программы действий. Не осталось зачинателей: тех, кто прошел в двенадцатом году до Парижа, увидал тамошнюю вольность и поговорил с французскими либералами. Они не хотели больше жить на родине под кнутом, довольствоваться пошлостями полковой жизни и терпеть произвол тех, кто у власти. Как же! Во Франции правил народ, а у нас в провинциях ради забавы ездили друг к другу верхом на евреях. Стыдно-с. А вместе с ними исчез весь пыл – новое поколение понятия не имело о их началах. Я же уставал от пустой болтовни, я человек действия, Александр. Однажды я должен был взять в руки оружие и действовать».
«И поэтому вы здесь», – закончил я. «Именно. Это место прекрасно избавляет от иллюзий. Избавит и тебя тоже». Он показал мне на сомнительные компании, окружавшие нас. «Здесь есть все. Вон польские националисты сидят, участники какого-то там восстания, я уж со счету сбился. В том углу радикалы с социалистами. В самом конце зала либералы… всякие. Анархистов пока не вижу, они приходят ближе к вечеру. Вот и скажи мне, можешь отличить одних от других?». «Конечно, нет. Они все для меня ссыльные». «Правда. Но не только поэтому. Они не ведут более разговоров о государственном устройстве. Это там, на Западе, они могли спорить о высоких идеях. Но здесь болтовня закончилась. Здесь все равны. Теперь обсуждаются вещи куда более приземленные – земля, женщины, дом».
«Убийства тоже?» вставил я. «Не исключено. Понятия о правосудии здесь довольно простые». «Вот как? Но эта земля принадлежит Российской Империи, а значит, на нее распространяется власть царя. А мы здесь, чтобы устанавливать порядок», – твердо сказал я. «Земля царя? Ты хоть сам в это веришь? Думаешь, твои цари долго продержатся?», – усмехнулся Нессельрод. «Я должен рассматривать твои слова как угрозу? Не забывай, что я представляю здесь власть», – осадил его я. «Разве я могу угрожать царю из этой лачужки за тысячи верст от Петербурга? Кроме того, я не Пестель: у меня хватает ума понять, что на место одного самодура придет другой». Тут я не выдержал и предупредил его: «Еще одно слово в таком духе, и я пишу донесение в штаб». Он неприятно заулыбался: «Ну полноте, не хотел я разгневать нового дувингского адъютанта. Бросим о царях. Скоро ты и так все поймешь, коли не слепец. В Сибири никакого управления нет. Ей невозможно править. Губернаторы, вице-губернаторы – обычные приживалы. Побыстрей наворуют, а потом поминай как звали. Здесь нет государства, нет экономики, нет политики – кабинетной тобишь – зато много вольности. Той вольности, за которую с такой готовностью умирают там, на Западе. А тут ее пригоршнями черпай, хоть купайся в ней. Многие обаче в ней и тонут». «А ты?». «А я держусь. Если прискачет гонец с письмом от самого царя, в котором сказано, что мне жалуют богатый особняк в Петербурге с роскошными садами и фонтанами, я откажусь. Даже думать не буду! Эта земля моя, и я отсюда никуда». Он встал из-за стола и расплатился за еду. Напоследок сказал: «Напомни Дувингу, что он должен мне десять рублей».
В отделение я возвращался с пустыми руками и твердым желанием выяснить настоящую личность Нессельрода. Дувинг ничего мне не поведал на его счет. Сделал лишь кислую мину. Показал его досье в картотеке ссыльных. Какого же было мое разочарование, когда я ее просмотрел! Имя и фамилия его были самые обычные, таковые вовсе не остаются в памяти. Биография тоже непримечательная: родился в провинции, в семье статского советника, жил в Петербурге. Служил в армии, но сбежал из нее. Вопреки моему первоначальному впечатлению, у анархистов не состоял. Был он человек более «раннего» времени. Общался с видными вольнодумцами на собраниях у Петрашевского, но на Семеновский плац не попал. Пойман отрядом охраны возле Зимнего дворца за то, что громко прокламировал угрозы в адрес царя. При обыске у него была обнаружена заряженная пистоль. Осужден и сослан на каторгу в составе других заключенных в 1852 году. Получалось, что в Сибири Нессельрод проживал чуть менее десяти лет, однако годы эти в его биографии не были отражены.
Мне показались очень странными обстоятельства, при которых был он схвачен. Сам шел в руки охраны, словно единственной целью его выступления была угроза, словно хотел попасться в их руки. Но оружие! В то время никто еще не брал в руки оружия, чтобы угрожать власти. Революционеры надеялись повлиять на массы лишь через журналы. Они не представляли большой угрозы, как совершенно справедливо отметил в нашем разговоре Нессельрод. Нужно было лишь знать имена видных деятелей, добиться их арестов, и дело сделано. Однако если бы каждый из них взял пистолет… Или хуже того, бомбу! Если бы он настолько не считался с жизнию своей, а ненависть его к царю была так чрезмерной, то при достаточной ловкости… Нет, не хочется и думать об этом! Но в голове у меня все еще отзвук тех слов Нессельрода. Слов, что он сказал перед кончиной на Кругобайкальском тракте.
С момента нашей первой встречи судьба сводила меня с ним несколько раз. Нессельрод участвовал во многих операциях, которые задумывал Дувинг. Со временем я смирился с его теневой ролью в нашем округе. Он всегда выполнял то, о чем просили, и мы никогда не спрашивали о методах. Он был интересным собеседником, этого не отымешь – несмотря на сомнительные моральные качества. Его фигуру можно было емко описать французским словом louche28. Я никогда до конца не понимал, какой же силой он обладал перед Дувингом. Штабс-офицер готов был вытащить его из любых передряг, в которые Нессельрод влипал во множестве. Их связывал долг? Или, возможно, родство? Впрочем, однажды Дувинг все-таки не смог его спасти. Великан убил в пьяной драке казака, молодого парнишку с Тобольского конного полка. Позже оказалось, что тот приходился племянником Генерал-губернатору. Лишь вмешательство Дувинга уберегло Нессельрода от повешения. Его отправили на строительство Кругобайкальского тракта. Летом сего года я посетил это место.
Дувинг послал меня в Култук, маленькое поселение на побережье Байкала, через которое проходил участок дороги. Моим заданием было донести ответ из Петербурга поляку по фамилии Потоцкий. Он был схвачен в Волыни во время восстания в 1863 году и отправлен вместе с остальными в Сибирь. По приезду объявил, что был схвачен по ошибке, «знает людей» и немедленно попросил отправить письмо знакомой особе в Петербург. Дувинг долгое время игнорировал эти просьбы (поляков он сильно не любит), а затем махнул рукой. Через несколько месяцев пришел ответ. Да не от кого-либо, а от самого Долгорукова. Он приказывал как можно скорее снарядить бричку, упрячь в нее лучших лошадей и отправить Потоцкого в Петербург. Причин помилования не называлось. Дувинг с огромным раздражением в голосе наказал мне ехать к поляку с извещением.
Скажу тебе, что к полякам я равнодушен. Той самой «природной ненависти», о которой писал Геденштром, во мне нет. Однако любой жандарм в Третьем отделении сплюнет при упоминании о Царстве Польском и сию же минуту начнет распинаться о неблагодарных провинциях. Я отдаю себе отчет в том, откуда берется такое отношение. Польша не приносит нашей империи ничего, кроме хлопот. Ее нужно снабжать, ее нужно оборонять. Какое бы управление мы им ни дали, они всенепременно восстанут. Но стратегическая роль Польши для империи коллосальна. Она является нашим щитом перед всей Европой. И ради этого щита царь пойдет на любые жертвы, в том числе на уступки в виде местных конституций.
Мы никогда больше не отдадим Москву. Никогда больше не должно случиться двенадцатого года, никогда больше иноземцы не войдут с армией в сердце империи. Петербург может быть головой, но Москва всегда будет сердцем. Конечно, поляки всего этого не понимают. А даже если и понимали, это бы их распалило еще сильнее. Поди им объясни, зачем они должны умирать за чужого царя. Они так сильно укоренены в своем католицизме, а точнее в той разновидности христианского мессианизма, который делает человека слепым, что последуют за любым, у кого хватит ума использовать эту иллюзию. Они боготворили Наполеона, который ничего для них не сделал, но обещал свободу. Именно за свободу, эту их пресловутую «вольнощчь», всегда сражались и будут сражаться поляки.
Такие мысли занимали меня, когда я переступил порог дома Потоцкого. Большинство рабочих в Култуке жили в наскоро сколоченных хижинах. Однако Потоцкий жил лучше других. Каторжником он все-таки не был. Спать на грязных нарах и дышать гнилым воздухом ему не приходилось. У него было свое жилище, даже какой-то огородик на заднем дворе, где он растил картофель и горох. Внутри было прибрано. Но все равно поляк представлял собой удручающее зрелище. Худой и бледный, в грязной белой рубахе на голу грудь. Только глаза его показывали ярость и презрение к царскому посланнику.
Услыхав от меня вести, он вскричал: «Три года я ждал ответа! Наконец! Карета уже снаряжена?». Я осадил его, сказав, что нам потребуется время для этого, и уезжает он отнюдь не сегодня, и даже не завтра. Он вознегодовал: «Я должен отправляться немедленно! Я не могу жить в таких условиях». И тут же протянул ко мне худые руки. По локоть они были усыпаны желтыми пятнами. Я пригляделся и сразу отшатнулся в омерзении: то были клопы. «Я шляхтич. Мой род старинный и уважаемый, – продолжал он с претензией, – Вам повезло, что в том письме я не упомянул по имени тебя и твоего штабс-офицера». «Пока ты не сядешь в эту бричку, для меня ты ссыльный, пусть даже твой близкий друг сам князь Долгоруков, – отчеканил я, – Да и шляхты давно нет. Вы все теперь подчиняетесь царю». Поляк только прыснул на эти слова: «Понятовский отдал Королевство этой женщине Екатерине, не я». Он использовал грязное слово вместо «женщина», но мне бы не хотелось воспроизводить его в письме.
Я был крайне раздасадован ходом беседы и хотел как можно скорее ее закончить. «Я не пришел сюда спорить с тобой о политике. Бричка в Петербург будет готова в конце недели. Ты должен успеть к тому времени сделать все необходимые приготовления». С тем я и собирался уйти, но Потоцкий снова воскликнул, что не может ждать. Затем он выглянул в окно, потом за дверь и быстро приник ко мне. Начал шептать на ухо: «Шарамович и Целинский готовят восстание в ближайшие дни. Двое рабочих вчера на тракте обсуждали, кому из них резать телеграфные провода. Когда все начнется, польется кровь. Никто не выберется отсюда живым». «Выдаешь своих?», – удивился я. «Эти хлопы за окном мне не ровня», – с презрением высказался он. Затем распахнул сундук и, осторожно оглядываясь, достал небольшой сверточек. Отогнул краешек ткани, показывая мне, что было внутри. «Знаешь что это?» – спросил не без гордости. В ткань был обернута маленькая игрушка, по видимости, волчок. Таким забавляются дети богатых домов у нас в Петербурге. Игрушка ярко блестела золотом. Я пожал плечами – мне ни о чем не говорила эта вещь. Потоцкого моя реакция, очевидно, оскорбила. «Это фамильная ценность! – вскричал он, – Станислав Потоцкий – слыхал такое имя?». Я снова пожал плечами, и поляк в горечи взмахнул рукой. Убрал статуэтку обратно в сундук и бросил напоследок: «Я не могу здесь сгинуть. Бричка должна быть готова завтра. Прошу донести мою просьбу до твоего штабс-офицера».
Я вышел на побережье Байкала и задумался над словами Потоцкого. Правду ли он говорил о восстании? Если так, куда они надеялись бежать? Вдали виднелись скалистые берега над озером. Там были поселения, была какая никакая дорога. А за ними – всяческие косогоры, глубокие логи и прочие чертоломные места. Нужно быть безумцем, чтобы идти по ним вслепую. Среди ссыльных нет картографов. Я знал наверняка, что никто из поляков не имел географических знаний ни о Восточной Сибири, ни тем более о Монголии. Разве что они бы заручились поддержкой кого из местных. И все же мне не хотелось списывать со счета предупреждение Потоцкого. Я решил отыскать Нессельрода. Если кто и знал, что здесь творится, так это он.
Я застал старого знакомого за сооружением тракта. Он нес на плече здоровенное бревно так, словно это была соломинка. При виде меня положил его на землю и лукаво улыбнулся: «Чем могу помочь тебе, старый друг?». Несмотря на его дружелюбное приветствие, выглядел он поникшим. О подготовлении к восстанию слыхом не слыхивал. Подтвердил мои мысли словами: «Куда им бежать? Мы с поляками как со своими общаемся, нам-то все равно, как они там, на главных фронтах, набурагозили. Я бы знал, что они замышляют». «Ты ведь мне лгать не будешь?», – я пристально поглядел в его глаза. «Какая мне выгода во лжи?, – вскричал он так, словно я нанес ему смертельную обиду, – Ты знаешь, что я с этих мест никуда. А там глядишь, можно и о женитьбе думать». Мы оба расхохотались, и вопрос был исчерпан. «Это кто тебе про восстание рассказал?», – спросил Нессельрод. Услышав про Потоцкого, он странно оживился. «Говорят, что у него там в лачуге есть одна вещица. Что-то блескучее, как из золота, говорят. Он ее хранит как зеницу ока. Никому не показывает, даже своим». Мне стало понятно, к чему клонит гигант, и я отсек: «Не вздумай и пальцем тронуть Потоцкого. У него друзья в высоких местах. Если с ним что случится, тут всем несладко будет». «Да ты что, я не то имел в виду, – Нессельрод сделал оскорбленный вид, – Хоть одним глазком на высокое искусство хотел посмотреть». Он снова расхохотался, только вышло как-то невесело, обреченно. «Пойду дальше пластаться. А ты чаще приходи, чаевать будем», – были его слова напоследок. Возвратившись в Иркутск, я ничего не сказал Дувингу о предупреждении Потоцкого. Однако Нессельрод солгал мне.
Поляки восстали через несколько дней после моего визита. Мы не успели отправить Потоцкого к тому времени. Все случилось, как предрекал шляхтич: людей повели пианист Шарамович и бывший офицер русской армии Целинский. В Култуке им удалось найти двух проводников, они лишили поселение лошадей, повозок и седел. Взяли Мурино, Мишихо, в конце окопались у Быстрой. Генерал-губернатор мобилизовал крестьян, призвал казаков. В Култук вступила царская армия. Обреченность предприятия бунтовщиков всем была ясна с самого начала. Услыхав вести о выдвижении войск, Дувинг брызгал слюной: «Теперь что, целая армия собирается, когда объявляются клопы? Пусть остаются там, где есть. Скоро тайга их заберет». Но местная власть опасалась, что восстание захватит всю Сибирь. Очевидцы говорили, что восставшие несли штандарт «За нашу и вашу свободу». Однако этого не произошло. Скоро взяли главных зачинщиков, и спустя неделю восстание было подавлено.
Когда царские силы вступили в Култук, Дувинг немедля велел мне туда выезжать. «Проведай этого нашего Курфюрста Саксонского. Надеюсь, свои же его и прикончили», – плюнул с недоброй усмешкой. Жилище Потоцкого пустовало. Собирался он впопыхах: об этом свидетельствовали разбросанные всюду вещи. Сундук был раскрыт, а все его содержимое лежало на полу. Все, кроме свертка, который показывал мне поляк.
Я не думал, что шляхтич присоединился к восстанию: слишком хорошо он понимал тщетность такого действия. Да и знал, что скоро за ним приедет спасительная «карета». Я расспросил местных, в том числе тех, кто подсказывал полякам дорогу, но никто не видел Потоцкого. Зато один паренек наблюдал, как в хижину кто-то заходил, кроме Потоцкого. «Такой великан был. Я видел, как он ушел на Шаманку», – сказал мальчик.
Шаманкой местные звали мыс, который выдавался в сторону озера, в нескольких километрах от поселения. Был он на пути строившегося тракта, и ходили слухи, что ссыльные во время прокладки находили там черепа и кости. Согласно местному преданию, на этой скале был погребен великий древний шаман. Поселенцы боялись к ней приближаться и меня отговаривали. Однако это был мой единственный шанс узнать, что случилось с Потоцким.
Мыс возвышался крутыми скалами над водой. Его соединял с землей лишь узкий перешеек. От того, что мне открылось возле каменных исполинов, похолодело в груди. С окончания мыса в сторону берега вел темный след. Я приник к песку и почувствовал характерный запах. Сомнений не осталось – это была кровь. Неужели Потоцкого? Я погнал прочь дурные мысли и отправился по следу.
Зловещая дорожка заканчивалась у кромки воды. Волны с шумом разбивались о берег. Я остановился, всмотрелся на мгновение в бушующий Байкал. В пене бурунов вдалеке от берега виднелась человеческая фигура. Даже с такого расстояния я без труда узнал исполинское сложение Нессельрода. Разгребая воду могучими руками, великан шел вперед. Волны накатывали, разбиваясь ему о грудь. Я громко прокричал его имя. Рука моя, согласно инстинкту, скользнула на пояс. Но, конечно, оружия при мне не было. Нессельрод продолжал бороться со стихией – грохот волн скрыл мой оклик. Сам он, в то же время, распевал: «Бродяга к Байкалу подходит, рыбачью он лодку берет..». Я стянул с ног сапоги, бросил их на песок и вошел в воду.
На половине пути Нессельрод, наконец, услышал мой зов. Обернулся – рубаха нараспашку, колесом подымалась и опускалась грудь. Дышал он быстро, а вода вокруг гиганта была багрового цвета. Завидев меня, Нессельрод крикнул: «Рад тебя видеть, Александр!». Я не решался подходить ближе, и мы обменивались криками в сажени друг от друга. «Ты ранен?» – спросил я. Нессельрод неожиданно расхохотался. «Как приятна твоя забота обо мне! – пробасил он, – Но ты прав. Я больше не жилец на этом свете». Я спросил, что произошло на мысе. Нессельрод молчал. Когда он заговорил, я услышал совсем не то, что ожидал. «Здешние шаманы верят, что если человек умирает от болезни, то попадает в Ад. Потому что болезнь приносят злые духи – сказал он, – А вот если кто умирает после сражения или от раны, то он возносится на Небо». «Пойдем со мной! – вскричал я, – Мы тебе поможем!». Я лгал, Анна, бессовестно лгал. Я видел сколько крови потерял Нессельрод. Ни один доктор уже не мог бы ему помочь. «Помнишь, что я тебе говорил про вольность? Тогда, в кабаке? – спросил великан с горькой улыбкой, – Хоть мы говорим по-разному, но в этом с поляками едины. Без вольности жизни нет. Сходи на Шаманку, погляди вниз на скалы. Там найдешь, что ищешь». С этими словами он развернулся и продолжил свое шествие в пучину. Сколько я не звал его, он будто меня не слышал. Вскоре над его головой схлестнулись волны. Байкал забрал его.
Озеро дышало огромным зверем, буруны кидались на меня, будто пытаясь утащить в глубину вслед за ним. Я возвратился на берег, надел сапоги и поспешил на мыс. Подошвы едва держались на мокрой поверхности. Цепляясь за уступы, я постепенно достиг вершины. Камни наверху были темными от засхошей крови. Я предположил, что здесь-то и получил смертельную рану Нессельрод. Но кто нанес удар? Я присел на корточки и посмотрел на подножие мыса, туда, где волны с грохотом разбивалась о камни. Моя догадка оказалась верна: отступившая вода оголила распластанное на камнях человеческое тело.
Я спустился вниз, хватаясь за редкие выступы. Молился, как бы не полететь вслед за этим несчастным. У подножия я смог хорошенько разглядеть тело. Череп бедолаги был расколот надвое, а кровь из головы обагряла камень. Однако это был не Потоцкий, как я поначалу думал. Лица погибшего я никогда раньше не видел. Судя по простой одежде, был он одним из заключенных. В правой руке его был зажат клинок. В момент смерти он так и не выпустил оружие из рук.
На поясе умершего висел увесистый мешочек. «Там ты найдешь что ищешь», вспомнил я слова Нессельрода. Я перекрестился и осторожно снял мешочек. Развязал его и увидел внутри знакомый образ. Это была игрушка – золотая юла. Точно ее я видел в хижине Потоцкого! Но где же был сам Потоцкий? В голову начинало закрадываться нехорошее предчувствие. Я удостоверился, что у подножия мыса больше ничего нет и поспешил обратно в Култук с фигуркой в кармане.
Мне оставалось исследовать только одно место. Я спросил местных, где жил Нессельрод, и отправился в его жилище.
«Здравствуй, царская ищейка.
Если ты это читаешь, я уже очень далеко. Или меня уже нет на этом свете. В любом случае, даже царская армия меня не сыщет. Ты был прав. Я все знал о восстании. Не сказал тебе, потому что был у меня свой план. Я нашел женщину в поселке. Красивая, работящая, любит меня. Мы хотели сбежать, как все начнется, спрятаться в глуши тайги. Там бы нас никогда не нашли. Только вот денег у нас не было.
Дальше сам понимаешь. Вещица у поляка была ценная. Китайцы бы за нее дали щедро. Только крови я проливать не хотел. Когда началось восстание и забрали лошадей, Потоцкий бежал. Я все обыскал в его жилище: вещицу он взял с собой. То есть, я так думал поначалу. А потом увидел, как Гришка Скарабей копает землю у тракта. Кругом бедлам, кони брызжут слюной, люди кричат, а он ни в чем не бывало работает. Я подошел спросить, почему этот мерзавец не спасается. А он бросил лопату и побежал от меня, как от прокаженного. Я подошел, копнул землю. Это был Потоцкий.
Если никто не потревожил эту впопыхах сделанную могилу, то его тело до сих пор лежит на том участке тракта, рядом с которым недавно соорудили мост. Я же отправлюсь за Гришкой. Знаю, где он змеей ядовитой схоронился.
И последние мои слова тебе, Александр. Не возвращайся в Петербург. Оставайся здесь, в Сибири. По что тебе пресмыкаться перед царем и его лакеями, когда тут такая свобода тебе открылась? Найди себе женщину, построй дом и живите в радости до ста лет! А в столице ты будешь жить среди потерянных людей, среди слепцов и глупцов. Ты чувствуешь, что грядет? Да скоро все это почувствуют.
Грядет война. Большая война, равной которой еще не было. Наступит тот самый grand soir, о котором кричали французы, наступит во всем мире! Один народ вцепится в глотку другому. И каждый захочет насадить на кол голову своего соседа. Только у нас, в Сибири, будет мир и благодать.
Прощай, мой друг»
Таково было содержание записки, которую я обнаружил в его хижине. Тело Потоцкого нашли в том месте, которое указал Нессельрод. Вернувшись в штаб, я передал Дувингу новость. Штабс-офицер только прыснул в ответ: «И поделом! Меньше мороки!». Настроение у меня в тот день было скверное, и я сразу откланялся.
Уже неделя минула с того дня. Я сижу и гляжу в окно, за которым воет холодный ветер. Треклятая фигурка волка стоит передо мной на столе. Из-за нее погибли Потоцкий и Нессельрод. Первый был слишком горд, чтобы расстаться со своим сокровищем. Другой позарился на вещицу, ведомый жаждой наживы. Хотя так ли хотел Нессельрод наживы? Прежде всего он жаждал свободы. «Без вольности жизни нет» – были его последние слова там, на Байкале. Вспоминая встречу нашу в Култуке еще до восстания, я не мог отделаться от впечатления, что передо мной лишь блеклая тень моего старого знакомого. Будто душа его уже давно отошла из этого мира, а тело лишь продолжает раз и навсегда заученные движения. Нессельрод был узником, и, не получись его план, он не надел бы оковы обратно. Если он не мог жить вольным человеком, то всегда мог погибнуть вольной смертью.

