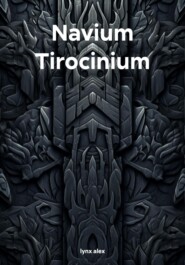скачать книгу бесплатно
Впрочем, к старцу Фергал испытывал двоякие чувства. Несмотря на всю свою неприязнь к учёному монаху, молодой инок был не столь жестокосерден, чтобы хотеть погибели ни в чём не повинному старику. С одной стороны, Фергал не желал становиться виновником смерти старца; он помнил тот обуявший его ужас, когда в корчах умирал брат Эмилиан. Но с другой стороны, молодой монах понимал, что уже сунул палец в пирог и что если он не поспособствует препровождению Лазариуса в мир иной, то сам в полной мере испытает гнев регента и даже может поплатиться головой. А потому, чтобы снискать благоволение Шательро, которое позволило бы Фергалу извлечь для себя немалую выгоду и приблизиться к своей заветной цели, молодой монах, как не жаль ему было отца Лазариуса, должен был выполнить пожелание регента.
Брат Галлус продолжал размышлять над тем, как бы лучше угодить Шательро и с наименьшими укорами для своей совести, когда он завидел монастырские стены. За два дня его отсутствия ничто здесь, похоже, не изменилось: так же над всей округой величественно высился собор, шумела зелёная листва монастырского сада, плескалась вода, ворочая колёса мельницы на берегу речки, мирно копошились на полях крестьяне, весело плыли по небу пушистые облака. Похоже было, что такая умиротворённость будет вечно царить в этом месте.
Но созерцая эту безмятежную картину, молодому монаху подумалось, что на самом-то деле не всё так беспечально внутри монастырский стен. Его мысли вновь вернулись к Лазариусу, и до него вдруг дошло, что, уезжая, он оставил старика привязанным к стене, без воды и пищи, в тёмной и холодной подвальной комнате, и что сейчас он, возможно, найдёт уже окоченевший труп старого монаха. Впрочем, такое предположение не сильно смутило Фергала, который если и пожалел о своей забывчивости, то лишь для того, чтобы тут же вспомнить грозный вид регента.
«Ну, и то хорошо, ежели мне не придётся больше созерцать мучения благоверного старца, – подумал он. – Достаточно мне было треволнений с бедолагой Эмилианом, который поплатился за своё обжорство, проглотив похлёбку проклятого Ронана. К счастью ни у кого тогда не хватило ума что-либо заподозрить… А ныне – ой-ла-ла! – и регент будет доволен – он, похоже, тоже сунул палец в этот пирог, да увяз в нём по самый локоть, – и у отца-настоятеля на душе легче станет как после кубка хорошего рейнского. Может быть, только братия погорюет немного о старике, да забудет вскорости, как забыли все брата Эмилиана. Да Лазариус и был-то уж очень старым, не всякому дано до такого возраста дожить. Только вот для приора надо будет представить всё дело так, будто старик помёр ну… скажем, от угрызений совести, кои его дряхлое тело не смогло вынести».
Рассудив таким образом и чуть успокоив свою совесть, Фергал, увлекаемый любопытством, сразу, даже не заглянув на монастырскую поварню, отправился в своё подземное царство выяснить, что сталось с Лазариусом. Он зажёг лампу и спустился вниз по сырым каменным ступеням…
В тёмном подвале, как и раньше, царила гробовая тишина; массивная дверь темницы Лазариуса была по-прежнему закрыта на прочный засов. Да иначе и быть не могло – ключи-то от подвала ведь были только у него. Монах постоял мгновенье перед дверью каземата, представлявшуюся ему в этот момент не иначе как вратами преисподней, за которыми скрывалась мрачная сцена, виновником которой он ненароком стал. Фергал вздохнул и изобразил на своём лике такую неутолимую скорбную печаль, что если бы кто видел его в этот миг, то принял бы за самого разнесчастного человека в мире.
Заскрежетал отодвигаемый кованый засов, распахнулась тяжёлая дверь. Молодой монах ступил внутрь и замер от уже неподдельного изумления. На миг его даже охватил благоговейный ужас, а кровь, казалось, превратилась в лёд в его жилах… Да и как иначе, если на том месте, где накануне утром прислонясь спиной к стене сидел измученный Лазариус с крепко связанными руками, натянутыми вверх прочной верёвкой, на том самом месте, на котором невольный палач ожидал увидеть бездыханное тело своей истощённой жаждой и голодом, измученной болью жертвы, на том самом месте … попросту никого не было! Лишь лежавшая на полу верёвка свидетельствовала о том, что события запрошлой ночи не были наваждением.
Лазариус канул как в воду, испарился из темницы подобно телу Христа, исчезнувшему из гробницы, чтобы восстать из мёртвых. Если бы такая аналогия возникла в голове брата Галлуса, может быть в душе его и появились бы настоящие чувства, похожие на благоговение и почтение к праведному старцу, и угрызения совести за свои сомнительные деяния. Но, у молодого инока никогда не было жажды чересчур углубляться в познания святого писания, для чего ему нужно было бы, по крайней мере, как следует овладеть латынью. А поелику таких параллелей он и не мог провести и, разумеется, набожных и благочестивых побуждений у него тоже не возникло, несмотря на весь мистицизм происшедшего.
Поражённый этим таинственным явлением или, правильнее сказать, исчезновением, ошарашенный Фергал на несколько мгновений как камень застыл на месте и стал похожим на один из пилонов, поддерживавших потолок в его подвале. Он никак не мог взять в толк, каким же образом слабый и дряхлый старик смог избавиться от надёжной верёвки и крепких, завязанных особым образом узлов, выбраться из запертой на засов темницы и закрытого на замок подвала. Затем молодому монаху пришла на ум естественная мысль, что кто-то, должно быть, помог Лазариусу сбежать. Для Фергала это было единственным объяснением произошедшего; но затем до него дошло, что ключи-то от подвала всё время находились у него на поясе, а замок на двери был в порядке, когда он вернулся, да и никто, кроме настоятеля не ведал о том, что Лазариус заперт в подвале. Тут сердце Фергала впервые похолодело от суеверного ужаса, который зачастую невольно охватывает человека, сталкивающего с чем-то таинственным и необъяснимым. Он зажёг факел, который давал света поболее чем лампа, и лихорадочно обшарил все закоулки подвала: никаких следов, указывавших на то, каким образом старик умудрился удрать. На миг в голове Фергала даже появилась мысль о помощи Лазариусу высших сил. Но он тут же её отбросил, ибо никогда не верил ни в чудеса, исходившие от блаженных праведников и священных реликвий, ни в колдовство чародеек и кудесников, ни в волшебство магов и пророчества ясновидцев… В конце концов, здравый смысл взял вверх над суеверными чувствами и молодой монах стал рассуждать более трезво, тщась разрешить таинственную загадку. Но тщетно – сколь он не силился, он никак не мог взять в толк, куда же всё-таки подевался Лазариус.
«Не в червя же он превратился и уполз сквозь расщелины в камнях, – говорил себе Фергал. – Это только в старых небылицах для сосунков и баснях для великовозрастных олухов рассказывается, как человек в разных тварей превращается. А на самом-то деле не то, что из мухи бабочку сделать, а даже болвана в умника не превратишь… Но как же тогда объяснить исчезновение старика? – Этот вопрос по-прежнему ставил монаха в тупик. – А вдруг кто-то смог открыть подвал и выпустить престарелого всезнайку на волю? А может быть, через колодец, куда я всяческие отходы и нечистоты вываливаю? Ну, нет – он такой узкий, что старику надо было бы выдрой обернуться, чтоб туда протиснуться».
Из тёмного и таинственного подвала, где произошло такое загадочное событие, Фергал поднялся на свежий воздух и сразу направился на монастырскую кухню, где он застал брата Томаса и ещё одного монаха-кухаря, занятых чисткой посуды после вечерней трапезы.
– Эгей, брат Томас, ты случаем не видал сегодня отца Лазариуса? – крикнул с порога Фергал. – Я только что возвратился в монастырь из дальней поездки и нигде не могу его сыскать.
– Да ты его и не найдёшь, брат Фергал, – живо ответил повар, – ибо слышал я разговор, что праведный старец ещё третьего дня как убыл в Глазго к тамошнему епископу.
– Ах, да… – Фергал припомнил, что он сам же и пустил этот слух. «Значит, никто Лазариуса из темницы не освобождал», – при этой мысли его лоб покрылся холодным потом. Последняя надежда молодого монаха на разумное объяснение, а именно – что, пока он ездил в Стёрлинг, приор сжалился над старцем, каким-то образом открыл подвал и вывел Лазариуса наверх, эта надежда угасла вместе со словами кухарского помощника. И монах стал размышлять над тем, как, не вызывая на себя гнева отца-настоятеля, поведать тому о загадочном и бесследном исчезновении отца Лазариуса из подвала…
Тем временем в своих в покоях, – которые можно смело так назвать, ибо на скромную монашескую келью они явно не походили, – приор просматривал рентную монастырскую матрикулу. Его интересовали записи о доходах аббатства за последнюю неделю: кто из ленников-крестьян сколько сдал зерна в монастырские амбары, сколько головок сыра было изготовлено из удоя жирных коров монастырского стада, сколько рыбы было выловлено из протекавшей через аббатские земли речки Карт, сколько фунтов мёда собрали бортники, сколько податей заплачено деньгами и не было ли, не дай боже, каких ухищрений и уловок со стороны ленников дабы уменьшить свои долги. Как хороший генерал заботится не только о боевом духе войска, но и о его насущных потребностях, так и отец-настоятель беспокоился не только о поддержании благочестия братии, но и о сохранении и преумножении монастырского изобилия.
И вот, когда приор был погружён в столь праведное и отрадное занятие, к нему буквально ворвался брат Фергал с выпученными глазами и выражением благоговейного ужаса на лице. Монах не переставал осенять себя крестным знамением и восклицал запинаясь:
– О!.. Великое чудо! О!.. Да падут оковы его! О!.. Да перенесут его ангелы в царствие божье! О!.. Чудо, воистину свершилось чудо! О!..
Монастырский генерал недовольно обернулся на потревожившего его монаха.
– Ах, это ты, брат Галлус! Уже возвратился из Стёрлинга! Но чего ради ты врываешься ко мне в столь поздний час? Неужели же не мог подождать до утра?.. Однако что случилось с твоей рыжей физиономией?! И почему ты крестишься так неистово, будто жаждешь разом наверстать все пропущенные тобой мессы, вечерни и заутрени?
– О!.. Велика божественная сила. О!.. Да свершится воля твоя. О!.. Неслыханное чудо!
– Ты, поди, совсем потерял рассудок, инок! Да отпусти же мой рукав! Куда меня тянешь словно помешанный?..
Но Фергал иступлёно хватал настоятеля за рясу и тащил и тащил его в сторону двери с видом благоговейного ужаса, который, казалось, окончательно лишил его дара речи, поскольку кроме изумлённого восклицания «О!..» уже ни одного вразумительного слова не вылетало из его уст.
– Скажи же в чём дело, в конце концов! То ты несёшь какую-то околесицу, а то молчишь будто рыба…
А инок продолжал таращить глаза, издавать нечленораздельные звуки и тянуть настоятеля за рукав. Поддавшись упористости брата Галлуса и заинтригованный его необычайным поведением, приор повздыхал, покряхтел, но всё же позволил притащить себя в монастырский подвал и завести в какую-то дверь. Он с удивлением проделал весь путь от своей «кельи» до подземных владений Фергала и обнаружил в итоге, что оказался вдруг в небольшой почти пустой каморке, более походившей на глухой каменный карцер.
Фергал одной рукой держал лампу, а другой указывал на валявшуюся у стены верёвку, напоминавшую в сумраке подвала свившуюся кольцами змею.
– Что ты мне тычешь в какую-то старую верёвку? – раздражённо спросил приор. – Похоже, ты совсем рехнулся, брат Галлус. Вот что значит не посещать богослужения, ссылаясь на занятость твоими повинностями… А может, в тебя нечистый вселился?! А? Ведомо мне, что в монастыре Келсо есть один опытный монах-экзорцист, который в самом Риме учился изгонять дьявола из душ одержимых, и даже получил благословении папы. Так мы можем за ним хоть завтра отправить.
– Да нет же, отец-настоятель! О!.. – неожиданно обрёл дар речи Фергал. – Это та самая верёвка, – О!.. которой я привязал бедного отца Лазариуса к стене! Воистину это чудо! О!..
– Ты его привязал?! Благочестивого старца! Святый Боже! – изумился приор, скорее обеспокоено, нежели сердито. – Разве ж я говорил тебе о применении таких строгостей к почтенному монаху? Да как ты посмел!
Фергал нимало не смутился, лишь продолжал дивиться и строить ужасные гримасы.
– Это чудо, отец-настоятель!.. Всего лишь я хотел быть уверен, что он не сбежит … О, какое чудо!.. пока я ездил в Стёрлинг с вашим поручением. О!.. Великие чудеса нам являет Господь!
Приор недоумевал: он никак не мог уразуметь, о чём толковал Фергал, о каком таком чуде и чем объяснить его поведение.
– Да что ты всё время окаешь и о каких-то чудесах твердишь, монах? Лучше скажи, куда ты упрятал Лазариуса, раз он более не привязан к стене. И как тебе только на ум пришло связывать старца! Фи, какое гнусное бессердечие!
– Ах, отец-настоятель! – Фергал возвёл очи горе и с благоговением в голосе молвил: – Старца уже нет с нами…
– Что?! Как так нет? А куда же он девался в таком случае? – вопросил приор, никак не могущий уразуметь, что же случилось.
– О!.. То великая тайна! – воскликнул Фергал и продолжал, вперившись взглядом в потолок: – Он улетел от нас яко ангел.
– Ага, кажется, я понимаю! – мелькнула догадка у настоятеля. – Ты, верно, хочешь сказать, что душа благочестивого Лазариуса не вынесла тяжести грехопадения её хозяина, простилась с его земной оболочкой и вознеслась на небеса. Так ведь? Тогда, где же тело, чтобы можно было устроить пышную погребальную церемонию, которую праведный старец заслужил своими прежними добродетелями, несмотря на его последнее согрешение?
– Отец-настоятель! – истерическим голосом возопил молодой монах. – Мне не ведомо, рассталась ли душа отца Лазариуса с его телом или нет, но ни той ни другого здесь точно нету!.. Нету, разумеете?!.. О!.. Выйти отсюда, как то делают обычные люди из плоти и крови – через двери, он не мог… не мог… не мог! – в исступлении твердил брат Фергал.
До приора начало наконец-то доходить, что случилось, и осознание происшедшего мистического исчезновения отца Лазариуса не могло не вызвать у него суеверного ужаса. Мало-помалу он начал поддаваться лихорадочному настроению молодого монаха. Но всё равно, рассудок монастырского начальника сопротивлялся и отказывался верить в действительность случившегося, и отец-настоятель безотчётно продолжал питать надежду, что всё скоро должно проясниться и происшествию найдётся вполне разумное объяснение.
– Да хорошо ли ты обыскал подвал? Может статься, отец Лазариус где-нибудь здесь притаился в тёмном углу или прячется позади бочек с вином? – спросил приор неуверенным голосом, в котором скользила слабая дрожь. – Смотри-ка, какой подвал преогромный, мало ли здесь мест потайных найдётся!
– Всё перевернул, отец-настоятель. Клянусь святой обителью! О!.. Нету его … нету…
– А где же был ключ от подвала, покуда ты ездил в Стёрлинг? – пытался найти хоть какое-то объяснение настоятель, в душу которого всё более и более проникал неодолимый трепет.
Фергал молча указал на кожаный пояс на своей рясе и снова продолжил восклицать: «О!.. Великое чудо свершилось!»
– Да не прошёл же он сквозь стены, как-никак! – дрожащим голосом приглушённо воскликнул приор.
– Воистину так, отец-настоятель! – пел свою песню Фергал. – Это ангелы, для которых нет преград, на своих крыльях унесли его прочь. О!.. Великое чудо явилось нам!
Несмотря на то, что настоятель добился своей должности подобно многим генералам, благодаря таким качествам как решительность, мужество и командирские навыки с одной стороны, и с другой – усердию при выполнении различных поручений аббата и ловкости в разрешении внутримонастырских дел, – несмотря на всё это, смекалки у него явно недоставало – по крайней мере, для того, чтобы раскусить хитрость брата Галлуса. Подобно большинству людей той эпохи, несмотря на свой церковный сан, приор в тайне души также был подвержен суевериям и предрассудкам своего времени, в отличие от прагматичного Фергала. К тому же все свидетельства таинственного исчезновения Лазариуса говорили в пользу вмешательства сверхъестественных сил. А вкупе с ними искусно разыгранная молодым монахом сцена благоговейного ужаса поспособствовала тому, что ретивый приор в итоге принял всё за чистую монету, и его мудрейшему рассудку не осталось ничего иного, как уверовать в вознесение святого отца.
– Да! Верно, святой был человек, – произнёс полушёпотом настоятель, пытаясь унять охватившую его дрожь. – Сказано же в писании: «И сошёл на него Дух Господень, и верёвки, бывшие на руках его, сделались, как перегоревший лён, и упали узы его с рук его».
Фергал понял, что добился своей цели, и потому, когда приор предложил подняться к нему в «келью» и пропустить по кубку живительного бордо дабы утихомирить душу, он с радостью принял его приглашение…
Когда после третьей чаши приору удалось наконец-то унять дрожь в своём теле и несколько придти в себя, а также под влиянием винных паров потерять свою официозность, молодой монах счёл уместным вручить тому письмо регента.
– А ты, похоже, вошёл в милость к шотландскому управителю, – молвил настоятель после прочтения сего документа, – раз он желает скоро снова тебя видеть.
– Что вы, отец настоятель! Я всего-то лишь отдал письмо его светлости и не могу даже в толк взять, чем мог бы снискать его милость … ежели только тем почтением, которое я старался ему выказывать… Ох, а герцог не написал про причину, по которой он опять меня к себе призывает? – испуганно спросил монах. – Уж очень мне боязно снова туда являться.
– Мне, право, не ведомо, зачем он вновь изволит видеть тебя, брат Фергал. Но, разумеется, что я не могу отказать регенту и брату архиепископа. Так что, дней через пять-шесть поезжай. Да поможет тебе Бог.
Так прошло около получаса, в течение которого собеседники говорили о чём угодно, только не о недавнем загадочном событии. Захмелевший приор не желал вспоминать того, что его так сильно испугало и ошеломило этим вечером, и Фергал ублажал своего иерарха рассказом о поездке в Стёрлинг, о грандиозности тамошней крепости, великолепии королевского дворца и надменности дворцовой прислуги…
– По правде говоря, – молвил Фергал, – не очень-то мне и хочется заново в тот королевский замок возвращаться, где все вплоть до низшего из челяди смотрят на простого скромного монаха как на последнюю тварь земную. В монастыре-то мне, благодаря вам, отец-настоятель, почёт и уважение среди братии, а при блистательном дворе смиренному иноку ох как тяжко будет.
– Да стоит ли по сей причине тревожиться, брат Фергал? Помни: последние станут первыми… Может, лорд Гамильтон желает тебя возблагодарить, да и отпустить обратно в Пейсли… А вдруг ему брат про твои знахарские таланты отписал, и он тебя при себе лекарем вознамерился поставить! Ты уж не забудь в таком случае обо мне упомянуть. Скажи, что, дескать, правит монастырём Пейсли приор, верный раб божий и, конечно, слуга семьи Гамильтонов… А вино-то ой как хорошо! Ну-ка, брат Фергал, наполни ещё мою чашу.
– Как изволите, отец-настоятель, – ответил монах, подливая напитка своему начальнику. – Так, когда же мне в Стёрлинг снова езжать?
– Подождём лишь немного, может, что станет известно про…, – приор запнулся, не решаясь вернуться к недавнему мистическому событию.
– …про отца Лазариуса, – закончил фразу брат Галлус. – Да, чудные вещи происходят на свете. Я сегодня ужас как перепугался, когда понял, что…, – Фергал прервал фразу и сделал ещё глоток из кубка, – что тело старца унеслось сквозь каменные стены, словно пар от варева через печную трубу.
– Надеюсь, ты, брат Фергал, не стал тревожить его светлость рассказом о брате Лазариусе и подслушанном им разговоре, а, шельма? – спросил уже вконец размякший настоятель. – Ежели архиепископ желал известить о сём своего достопочтенного братца, то он и написал о том в письме, что ты отвёз. А ежели нет, то… я так тебе скажу: держись подале от всех этих интриг сановничьих. Уразумел, монах?
– А то как же! Да и как можно наушничать против церкви-то! – заверил Фергал. – Я же только вручил письмецо герцогу и обратно.
– Тто пправильно, – заплетающимся языком выговорил приор. – Ибо никто … никто … и вв особбенности миряне, слышишь, не должны прознать, что внутри монастыря происходит, и про сакральные тайны монашеского бытия. – В этом месте приор звучно рыгнул. – И про чудесное вознесение благого старца тоже, смотри, никому не выболтай, помалкивай, как будто и не было брата Лазариуса в нашем монастыре вовсе. Разумеешь? А уж Сент-Эндрюсу я придумаю, что отписать…
Часть 2 Замок Крейдок
Глава IX
Лангдэйлы
Вернёмся теперь к молодому Ронану Лангдэйлу в тот момент, как он простился со своим учителем-монахом и направился в родительский замок.
Не ведая о том, какие опасности угрожают его наставнику, юноша держал путь на север – в ту сторону, где в окружении крутых холмов и меланхоличных озёр стоял замок Крэйдок, принадлежавший барону Роберту Лангдэйлу из Бакьюхейда, отцу Ронана. Однако чтобы добраться туда, путешественнику надо было сначала пересечь реку Клайд, затем не заблудиться в девственных лесах, ещё покрывавших в те дни северную Шотландию, и не запутаться между возвышающихся со всех сторон величественных и таинственных холмов.
Аббатство Пейсли располагалось в нескольких милях к югу от Клайда, и чтобы перебраться на северный берег достаточно было пересечь реку по мосту около города Глазго, как, например, днём позже и поступил Фергал, когда ездил к шотландскому регенту. Глазго находился милях в шести-семи к востоку от Пейсли, и в ту сторону вела большая утоптанная и уезженная дорога. По этой-то дороге Ронан и пустил своего коня. Однако же на полпути до города, как только юноша завидел на горизонте шпили церквей, он странным образом свернул с дороги и направил верного Идальго прямо на север по небольшой тропинке, петлявшей между полями, перелесками и небольшими возвышенностями. И менее чем через час всадник очутился на берегу реки, на пару миль ниже по течению, чем Глазго.
Река Клайд берёт начало на взгорьях в центре южной Шотландии и несёт свои воды в атлантический пролив, разделяющий шотландские и ирландские берега. Из небольшого ручейка в своих верховьях Клайд, подпитываемый многочисленными ручьями и речушками и образуя на своём пути живописные пороги, собирает воды нескольких фиордов и постепенно превращается в огромный морской залив в десятки миль шириной. Но в том месте, в котором Ронан выехал на берег, ничего ещё, однако, не предвещало такой трансформации водной глади. Здесь, может быть, река не так была велика шириной и быстра течением, как впечатляла своими живописными берегами и умиротворяла спокойным потоком воды. Направо вверх по течению, за изгибами реки где-то прятался город. Его присутствие выдавали смутные контуры шпилей в туманном воздухе, да курящееся над ним дымное марево. Налево же река, слегка виляя, убегала за горизонт и исчезала вдали между возвышавшимися по обоим берегам холмами.
Берег здесь порос ракитником, был достаточно пологим и совершенно пустынным. Ронан скинул одежду, стянул её в узел и привязал поверх седла вместе с баулом со своими скромными пожитками и кинжалом. После этого он взял под уздцы коня и смело ступил в прохладную воду.
– Давай, давай, Идальго! Покажи, как ты плавать умеешь, – задорно крикнул юноша упрямившемуся коню и потянул животное за собой.
Жеребец артачился, фыркал ноздрями, но, в конце концов, ободрённый примером своего хозяина, ступил в реку. Клайд в этом месте достигал в ширину безмала двух сотен ярдов. Но что это значило для такого искусного спортсмена, говоря современным читателю языком, коим являлся Ронан, который – что было необычно для той эпохи и его общественного положения, – не робел перед водной стихией и мог преодолеть такой поток даже не хватаясь за гриву коня.
По правде говоря, подобный безрассудный поступок похож был на сплошное ребячество. Именно так и подумал бы сторонний наблюдатель, и отчасти он был бы прав, но только отчасти. Ибо с детства во многом предоставленный самому себе и пользовавшийся большой свободой поведения, о чём мы ещё расскажем, Ронан не чурался общения со сверстниками из низшего сословия и принимал участие во всех их играх и забавах, одной из которых было плескание в озере, находившемся почти под самыми стенами замка. К тому же юноша чувствовал какую-то загадочную и необъяснимую тягу к водной стихии. Ему нравилось созерцать умиротворяющую гладь озера и в тоже время его воображение будоражили как бурный горный поток, так и размеренное течение рек. «Куда так извечно и неумолимо стремится вся эта вода? – спрашивал он себя иногда. – В какие неведомые дали унесёт вон ту отломленную ветром и подхваченную потоком ивовую ветку? Может, её прибьёт к берегу за изгибом речки, а может, она будет поглощена морской пучиной или разбита на щепочки о каменные скалы, или ей посчастливится и волны благополучно перенесут её через океан к далёким неведомым берегам. Кто знает, что с ней станется?»
Играя в озере с позволения владельца замка Крейдок, местные дети мало-помалу выучивались плавать. Среди своих сверстников у Ронана плавать получалось лучше всех, чему он безмерно радовался, но никогда своими способностями не кичился. А посему в этот сентябрьский денёк, благодаря ещё тёплой погоде, пусть и пасмурной, юноша предпочёл переплыть Клайд, не доезжая города, ниже по течению, размяв мышцы и чуть сократив путь домой, нежели тащиться по узким и грязным городским улицам.
Когда юноша вошёл в реку, сомнений в том, что через несколько минут они с Идальго окажутся на другом берегу Клайда, у него не было… По реке скользили две-три небольшие лодки, и гребцы и пассажиры в них с удивлением глядели на странную картину плывущих через реку человека и животного. Лодочники подумали было поначалу, что взбесившаяся лошадь бросилась в реку вместе со своим всадником, и тому грозит неминуемая гибель. Они хотели было даже развернуть свои судёнышки, дабы прийти на помощь злополучному наезднику, но увидев, с какой уверенностью и лёгкостью пара пересекает Клайд, гребцы подняли вёсла в знак приветствия и что-то весело закричали. Лодки были далеко и слов Ронан не разобрал, но понял их смысл и в ответ поднял из воды руку и радостно помахал находившимся в лодках… Ещё через несколько минут упоённый соприкосновением с водным потоком Ронан и ничуть не уставший Идальго выбрались на северный берег и продолжили путь на север.
Пейзаж на этой стороне реки сильно разнился с менее интересным ландшафтом того берега, где располагалось аббатство Пейсли. Здесь не видно было разбитых на делянки больших засеянных рожью и овсом полей, не размахивали своими крыльями мельницы и не паслись стада на пастбищах. Неровный бугристый берег, испещрённый оврагами и покрытый диким кустарником, постепенно поднимался вверх, превращаясь вскоре в лес, уже изрядно поредевший по причине близости большого по тем временам города.
Ронан взял курс на север, туда, где на горизонте величественно поднимались загадочно манящие к себе холмы. Вскоре он миновал небольшую деревушку, стоявшую на том месте, где несколько веков назад по преданию был совершенно дикий лес, в котором возвратившимся из крестовых походов рыцарям-тамплиерам полюбилось охотиться за вепрями, оленями и косулями, которыми тогда кишели каледонийские леса. Обо всём этом и о многом другом Ронан, будучи ещё совсем юным, узнавал из рассказов отца Филиппа, служившего капелланом в замке Крейдок и большого любителя старины. Если во время богослужений в замковой часовне святой отец излагал своей пастве божественные истины, то наедине с Ронаном с удовольствием делился с юношей своими знаниями о прошлом этих мест и истории шотландского королевства в целом, рассказывал известные ему легенды и поверья…
Ещё две-три мили тропа продолжала идти с лёгким подъёмом и становилась всё более неровной и каменистой. Лесные участки, кое-где уже в пурпурно-багровом величии наступающей осени, поднимались вверх по холмам, в то время как у их подножий заросли берёз и дубов ещё радовали глаз изумрудным цветом. Там и здесь на склонах таинственно высились скалы и утёсы, перемежавшиеся с каменистыми осыпями, покрытыми в нижней своей части уже теряющим пунцово-розовый цвет вереском. Колорита пейзажу придавали лиловые полосы торфа, открывавшегося в низинах между холмами. Кое-где по склонам струились маленькие водопады, собираясь внизу в шумные ручьи и образуя небольшие озёрца кристально чистой воды. Раза два между деревьев промелькнули и тут же исчезли быстрые косули, вероятно испуганные видом всадника, который лишь ласково улыбнулся им вслед. А как-то Ронан заметил вдали величественно шествовавшего по склону холма большого красно-бурого оленя, увенчанного короной великолепных рогов. Зрелище было настолько завораживающим, что юноша не мог не попридержать коня, чтобы полюбоваться этим царственным животным… Из лесных зарослей доносилось многоголосое щебетание птиц. Особенно звонко заливалась малиновка – Ронан прекрасно знал её трель, поскольку около Крейдока этих птах было особенно много. А иногда в небе можно было заметить парящего высоко-высоко над землей беркута, долго и внимательно высматривающего внизу свою добычу…
Ночь застала юношу в трёх часах езды от Крейдока. Он попросился на ночлег в первом попавшемся жилище, где за пару монет Идальго насыпали полную кормушку овса, а Ронану предоставили сеновал в сарае, чем хозяин и конь были вполне удовлетворены…
Едва лишь на тёмном ночном небосводе на востоке появилась светлая полоска зарницы, как юноша вскочил на ноги и через несколько минут уже скакал в предрассветном тумане по дороге в направлении к отчему дому. И чем светлее становилось небо, тем всё ближе к дому был Ронан. Солнце ещё не успело подняться из-за кромки леса, когда сквозь деревья показались на вершине холма темневшие на фоне пасмурного неба каменные стены родного замка.
Замок Крейдок стоял в очень живописном месте, занимая доминирующую над окружающим ландшафтом возвышенность. С восточной стороны склон этого холма резко спускался к небольшому, сказочному овальному озерку не больше полумили в длину, обрамлённому ольхой и ивовыми деревьями, среди которых там и здесь как часовые величественно поднимались сосны. На западе, сразу за крепостной стеной начинались торфяники, оканчивающиеся на горизонте закутанными в туманную дымку высокими холмами. С юга, где находились главные ворота замка, и севера к стенам почти вплотную подступал густой лес, в котором по прихоти творца причудливо перемешались всевозможные деревья и кустарники.
Основные сооружения замка были окружены каменной стеной с единственной квадратной башней, в основании которой находились ворота – те самые, которые смотрели на юг и из которых уходила дорога, постепенно исчезавшая в лесу. По четырём углам стены расположились крохотные башенки, предназначенные для стражи. Но судя по проходам на стенах, заваленных принесёнными ветром сухими листьями и ветками, эти форпосты, похоже, давно уже не использовались по своему предназначению. Как и всё в этом замке центральное здание, которое по традиции называлось «дворцом», тоже было сооружением прямоугольной формы, напоминавшим более неприступную башню с бойницами вместо окон, нежели роскошные жилые апартаменты, как то подобает дворцу. Был очевиден замысел зодчего, создававшего за пару столетий до начала нашего рассказа этот шедевр архитектуры, – сделать его неприступной цитаделью. Но времена меняются и крепости уже давно не случалось выдерживать нападений и осад. Ежели в пограничной области и было по-прежнему неспокойно и происходили ещё битвы между двумя соседними королевствами – английским и шотландским, и крепости переходили из рук в руки, то здесь, в самом центре страны, царило относительное спокойствие. Рядом с «дворцом» находилась небольшая часовенка, которая обычно пустовала. И лишь в воскресные дни и по праздникам сюда стекались жители из соседней деревни Хилгай послушать обедню, которую вёл капеллан Крейдока отец Филипп. В целом замок, несмотря на видимость неприступной твердыни, был совсем небольшой по размеру и заметен издалека лишь благодаря своему положению на вершине утёса.
Хозяином этих владений был барон Роберт Бакьюхейд. Он принадлежал к старому, хотя и малоизвестному шотландскому роду, который по своей генеалогической линии происходил от английских Лангдэйлов, проживавших в Озёрном крае на северо-западе Англии. Это был старинный род, в одиннадцатом и двенадцатом столетиях подвергшийся, как и многие англо-саксонские фамилии, притеснениям со стороны завоевавших Англию норманнов. Предок сэра Роберта перебрался в Шотландию при короле Вильяме Первом и завоевал себе репутацию храброго воина и преданного вассала шотландского монарха, за что и был одарён рыцарским званием и землями на западе Ментейта. Местность эта, называвшаяся Бакьюхейд, надо признаться, была не самым лучшим местом для баронского поместья, ибо находилась у подножия гор, вдали от главных дорог, если таковые вообще существовали в те далёкие дни, и сама по себе была не идеальным для сельского хозяйства и разведения скота. Вдобавок ко всему угодья Лангдэйлов граничили с землями, где обитали полудикие кельтские кланы, не отличавшиеся большим миролюбием, особенно, ежели их пытались подчинить центральной власти и сделать вождей кланов королевскими вассалами. Худо-бедно маленькое поместье существовало несколько столетий, принадлежа одной и той же семье, принося некоторый, пусть и небольшой доход своим владельцам и позволяя содержать отряд ратников, с которыми бароны Бакьюхейда принимали участие во всех крупных кампаниях. Надо заметить, что эту фамилию отличала глубокая до фанатичности и бескорыстная, а иногда даже расточительная преданность королевской власти, унаследованная ещё от первого шотландского Лангдэйла. И именно поэтому бароны Бакьюхейда не принимали участия в погоне иных дворян за почестями и богатством, которая редко идёт рука об руку с честью и лояльностью. В итоге этот род не разбогател и не обзавёлся титулами, но и не запятнал себя неблаговидными деяниями. На протяжении нескольких столетий уже даже стало забываться, что эта семья происходит из северной Англии и когда-то носила имя Лангдэйлов. А по названию баронства постепенно стали называть и его владельца.
Такова была воля судьбы, что в свои юношеские годы Роберт Бакьюхейд, рано лишившись родителей, остался последним и единственным представителем своего рода. Отсутствием опеки, необходимостью управлять имением, близостью территории кланов строптивых горцев можно объяснить его самостоятельный, твёрдый и решительный характер, который вкупе с природной физической силой заставил соседей-феодалов уважать хозяина замка Крейдок и относится с почтением к молодому барону. Перво-наперво Роберт Бакьюхейд, будучи человеком незлым и простосердечным, познакомился с чифтанами {чифтан – вождь клана (шотл.)} всех соседних горских кланов и попытался наладить с ними дружеские отношения, подкреплённые взаимной торговлей. Этим он, казалось, обезопасил границы своих владений. Ибо среди горцев распространён был обычай нападать на земли дворян нижней Шотландии, угонять скот и причинять прочий ущерб имениям баронов. Те же землевладельцы, которые желали избавить свои угодья от набегов горцев, вынуждены были платить регулярную мзду, или плату за охранение своих владений от грабежей. Обычно то был соседний клан, который брался честно оберегать земли своего благотворителя от посягательств различных горских разбойников и иных злоумышленников.
Как и все его предки, Роберт Бакьюхейд почитал своим долгом служение на благо Шотландии и её венценосным монархам. Однако свою преданность королевской династии молодой барон был не в состоянии доказать очень долгое время, ибо юный Иаков Пятый постоянно находился в строжайшей зависимости от своих опекунов, которые фактически и правили государством.
Поначалу, когда Иаков был ещё нечувственным младенцем, недолгое время регентство держала королева-мать Маргарита Тюдор, сестра английского короля Генриха Восьмого. Но она вскоре потеряла это право, повторно выйдя замуж за двуличного Арчибальда Дугласа, графа Ангуса. Регентство перешло к Джону Стюарту, герцогу Албани, который, несмотря на свои частые отлучки во Францию, держал юного короля практически пленником, управляя страной от его имени. Но казуистическая политическая ситуация того времени была чрезвычайно изменчива. Мальчик-король был разменной монетой в руках тех, кто жаждал власти. Когда Иакову было тринадцать лет, честолюбивому и алчному Арчибальду Дугласу, графу Ангусу, к тому времени давно уже рассорившемуся с Маргаритой Тюдор, как с помощью интриг и козней своей лицемерной политики, так и благодаря военной силе удалость отлучить Албани от регентства и самому завладеть королём. Молодой Иаков в очередной раз из одной клетки попал в другую. Но у короля были верные друзья и сторонники среди дворян, включая, конечно, королеву-мать, и они были возмущены и недовольны алчными и властолюбивыми регентами и желали освободить Иакова Пятого. Один из них, граф Леннокс при содействии Маргариты Тюдор и других дворян собрал большую армию из десяти тысяч воинов и двинулся к Эдинбургу, намереваясь освободить короля. Был в том войске и жаждущий помочь своему суверену барон Бакьюхейда, для которого битва при мосте Линлитгоу стала настоящим боевым крещением. К несчастью для юного короля его сторонники проиграли то сражение, за чем он с глубокой печалью наблюдал из лагеря противной стороны, удерживаемый там графом Ангусом.
Были, впрочем, и другие попытки вызволить короля Иакова из-под ненавистной опеки. Его друзья решили действовать хитростью и придумывали различные схемы для его освобождения. В их деятельности не последнюю роль играл энергичный Бакьюхейд, который брал на себя самые опасные задачи и который в отличие от большинства своих сподвижников, преследовавших некие личные цели в освобождении короля, руководствовался единственно стремлением видеть на троне шотландского королевства его законного венценосного монарха – Иакова Пятого Стюарта.
Да простит нас читатель за несколько лишних минут, которые займёт у него этот краткий экскурс в историю, который мы делаем исключительно с целью набросать образ барона Роберта Бакьюхейда, что необходимо нам для дальнейшего рассказа. По правде говоря, удивительная жизнь барона была столь наполнена событиями, о коих мы упоминаем лишь вкратце и которые были до такой степени захватывающими и интересными, что всё это заслуживало бы стать поводом для отдельного романа, и, может статься, даже не одного…
Однако, вернёмся снова к барону. После того как нескольких попыток освободить короля потерпели фиаско, был задуман план с деятельным участием самого Иакова. Одним из главных исполнителей этого замысла стал Роберт Бакьюхейд, который в итоге и вывел короля на свободу, вырвав его из уз ненавистного регента. (О том, как это произошло, у читателя ещё будет возможность, мы надеемся, узнать по ходу повествования.) Другой бы человек попытался извлечь всю пользу из благосклонности монарха к своему освободителю, но не таков был Роберт Бакьюхейд, который вежливо отклонил все просьбы Иакова остаться при королевском дворе. «Ваше величество! – ответил королю доблестный вассал. – Мой отец, отец моего отца и все Бакьюхейды до десятого колена верой и правдой служили своим монархам. Тела их были покрыты шрамами и рубцами, остававшимися от ран, полученных в сражениях за наше королевство и его венценосных государей. Также и я всем моим сердцем желаю служить вашему величеству, рискуя жизнью, проливая кровь свою и чужую, и подвергаясь иным страшным опасностям на этом пути отваги и рыцарства. Но умоляю вас, не заставляйте воина превращаться в придворного вельможу. Пусть уж лучше моё тело кровоточит от боевых ран, нежели моя душа будет подвергаться уколам придворных сплетников и интриганов». Так оно и случилось, как Бакьюхейд просил короля, ибо далеко не одна пинта крови была им пролита в дальнейшем во имя своей страны, и далеко не один шрам на его теле нёс свидетельство преданности барона шотландской короне.
Немедля после прихода Иакова Пятого к власти, король собрал войско, дабы навести порядок в пограничных районах, где бесчинствовали как шотландские так и английские бароны, грабя местное население: фермеров, ремесленников, торговцев, а также не гнушаясь церквями и монастырями, где можно было взять самую богатую поживу. По большей части английские и шотландские власти закрывали глаза на такое мародёрство, ибо живущие в граничном районе бароны считались первой линией защиты при вторжении вражеской армии с той или иной стороны. Но иногда их бесчинства достигали такого предела, что правители всё же решались наказать налётчиков и привести к покорности своенравных баронов Пограничья. Таково было и желание короля Иакова, собравшего восьмитысячную армию, к каковой, конечно же, присоединился и отряд барона Бакьюхейда. Во главе сего войска король прошёлся по всему граничному району, безжалостно карая мародёров. По всему Приграничью высились виселицы, а эдинбургские темницы заполнились арестованными баронами и их приспешниками, подозреваемыми в грабительских налётах. Роберт Бакьюхейд неистово возмущался, видя какие беды претерпевало местное население, и всецело поддерживал жёсткие меры своего суверена, помогая ему карать злодеев.
Потом ещё долго барону с его невеликой ратью приходилось курсировать по неспокойному Пограничью, куда часто вторгались английские отряды, видимо считавшие эту область своей территорией.
Роберт Бакьюхейд безоговорочно одобрял Иакова Пятого во всех его деяниях и гневно осуждал врагов короля, искавших погибели суверена. Так, барон страстно негодовал, когда узнал, что лорд Форбс замышлял убить короля, пока тот, уверенный в преданности своего вассала, проезжал бы через его владения в Абердине. «Вот ведь иуда! – возмущался барон. – Да он же приспешник Дугласов – ведь женат-то на сестре Ангуса. А все Дугласы вероломные изменники, я вам говорю». Ненависть к коварным Дугласам пылала в сердце барона ещё со времен удерживания ими Иакова как узника de facto.
Безмерное негодование у простосердечного Бакьюхейда вызывало явное проявление у многих представителей знати предательских намерений по отношению к своему суверену, к государству и своему исконному вероисповеданию. А этим было грешно в той или иной степени большинство шотландских дворян – такое было сложное время. Сам сэр Роберт был воспитан в католической вере, и начинавшие тогда распространяться учения Лютера принимал за сатанинскую ересь. Дворяне-протестанты же, напротив, искали в лице Англии, вышедшей из подчинения римской церкви, союзника и помощника в низвержении католической церкви в Шотландии, становясь фактически предателями своей страны.
Барон снова вознегодовал, узнав про раскрытый сразу после казни Форбса ещё один заговор. Леди Глэмис, сестра ненавистного Дугласа, находившегося тогда в изгнании в Англии, умышляла отравить короля. «Я всегда говорил, что все Дугласы обманщики и предатели! – не без злорадства воскликнул по этому поводу барон. – И всё их дьявольское отродье таково!» Бакьюхейду было ничуть не жаль душегубки, когда леди Глэмис была сожжена на костре в Эдинбурге.
Читателю может показаться странным такое немилосердное и безжалостное отношение в целом незлобливого Роберта Бакьюхейда к казням как врагов короля, так и сожжениям протестантов на кострах в Глазго и Эдинбурге, неоднократно случавшиеся в то время. Но не будем забывать, что в сражениях, через которые довелось пройти Роберту Бакьюхейду, не только его тело покрылось заскорузлыми рубцами и шрамами и стало менее чувствительным к боли и усталости, но и душевные чувства загрубели от вида жестоких картин людских страданий и смерти. К тому же отношение к жизни и смерти в те суровые времена у народов было иным, нежели в наше просвещённое время…
Некоторое время спустя, когда Иаков Пятый решил посетить кельтские районы своей страны и призвать к повиновению вождей горских кланов, Роберт Бакьюхейда не без удовольствия погрузился на корабль и в королевском эскорте отплыл из Лейта. Своим мужественным и бравым видом он украшал свиту короля, когда тот высаживался в том или ином месте и посещал замки горских чифтанов. В том вояже также были востребованы и воинские качества сэра Роберта, ибо не все горские вожди, привыкшие к самостоятельности и независимости, с радостью и радушием встречали своего короля.
В следующие годы барон Бакьюхейда продолжал патрулировать неспокойный граничный район. Когда английская армия в очередной раз вторглась на шотландскую землю, барон отличился в битве при Хадден-Риг, где он сумел пленить самого Джеймса Боуса, губернатора приграничной английской провинции. Роберт Бакьюхейд входил в число немногочисленных дворян, которые поддержали Иакова, желавшего в мстительном пылу погнаться за отступившими на свою территорию англичанами и расквитаться с ними за свои разграбленные владения. Но большинство королевских советников было против и шотландская армия отошла от границы. Однако дух вековой неприязни к англичанам всё же возобладал среди шотландских дворян и вскоре лорд Максвелл собрал новую армию, которая двинулась на юг. Но тут случилось то, за что Бакьюхейд первый и, увы, последний раз в своей жизни осудил Иакова Пятого, ибо король – к огромному неудовольствию именитых сановников и опытных военных – назначил командующим армией своего фаворита, сэра Оливера Синклера. Разумеется, честолюбивые чувства воспреобладали и большинство дворян и командиров в том войске не пожелали подчиняться королевскому миньону. В остановившейся у границы в местечке Солвей-мосс шотландской армии воцарились неорганизованность и пессимистичные настроения, чем живо воспользовались англичане. Неожиданный и стремительный наскок небольшого конного отряда врага вызвал чрезвычайную панику и беспорядок в стане шотландцев, которые к своему стыду и позору бросились бежать. Некоторые воины, для которых честь считалась важнее жизни, пытались оказать сопротивление, но их были единицы и они в итоге либо пали, сражённые английскими мечами и пиками, либо были пленены. Понятное дело, что Роберт Бакьюхейд был среди тех доблестных храбрецов, которые не пытались показать врагу пятки, а отважно вступили в бой. Многие из них пали, а израненный Бакьюхейд вместе с другими шотландскими рыцарями был взят в плен и доставлен в английскую столицу.
С пленными поначалу обращались очень сурово. Их провели – тех, кто мог идти сам – и провезли на повозках – тех, кто был серьёзно ранен – по улицам Лондона под улюлюканье глумящейся толпы и бросили в застенки Тауэра, в самые глухие казематы. Рацион узников ограничили ячменным хлебом, жидкой похлёбкой и пинтой слабого эля, и приставили к ним одного единственного тюремного эскулапа. Так продолжалось две-три недели. Но вскоре к удивлению пленников ситуация резко изменилась: их перевели в более просторные и светлые апартаменты на верхних этажах крепости; меню стало более подобающим благородному происхождению узников; а вместо тюремного эскулапа заботу о ранах пленников взяли на себя два лекаря, прибывших из Вестминстерского дворца.
Барон Бакьюхейда вместе с прочими шотландскими пленниками недоумевал, с чем связано такое улучшение условий их содержания. А причиной тому был ряд событий, последовавших за бесславной битвой у Солвей-мосс. Король Иаков впал в отчаяние, не в силах вынести такого бесчестия. Он заперся в Фолклендском замке, впав в состояние унылой меланхолии. Вкупе с душевными муками сильная лихорадка напала на короля. Последним ударом для него явилась весть о том, что его королева, Мари де Гиз, носившая в своём чреве ребёнка, разрешилась девочкой, а не долгожданным мальчиком – ибо других живых законных детей к тому времени у короля не было. Итак, не прошло и трёх недель после позорного разгрома шотландской армии, как короля Иакова Пятого не стало. А бремя быть шотландской королевой пало на хрупкие плечики младенца нескольких дней отроду по имени Мария Стюарт. Вот тут-то и появилось в голове английского короля Генриха Восьмого очевидная мысль женить своего пятилетнего сына и наследника трона Англии принца Эдварда на шотландской королеве. В этом случае можно было рассчитывать на мирное присоединение северного королевства к Англии, и давняя мечта английских монархов наконец-то сбылась бы. И хитрый король Генрих не без подсказки графа Ангуса надумал сделать пленных шотландских дворян инструментом в осуществлении своих планов.
Некоторым шотландским пленникам была предложена свобода в обмен за помощь английскому королю в устройстве брачного союза между принцем Эдвардом и шотландской королевой Марией а также за содействие в сдаче некоторых шотландских крепостей. Словом, они должны были стать агентами Генриха Восьмого в Шотландии и проводить там угодную ему политику.
Некие лорды и сановники, чьи имена нам не хочется здесь перечислять – но они хорошо известны историкам, – напуганные возможным долгим заточением в английской тюрьме, малодушно согласились принять предложение короля Генриха, принесли устные и письменные клятвы и предоставили в заложники своих сыновей, коих отправили к английскому двору, а сами были отпущены на свободу.
Роберт Бакьюхейд, будучи отличным солдатом но никудышным политиком, похоже, не привлёк внимание английского властителя и его советников и остался среди тех незнатных и малозначимых шотландских пленников, коим предложено было всего лишь заплатить выкуп за своё освобождение. Но нахождение среди пленных барона Бакьюхейда было замечено его недругом графом Ангусом, хорошо помнившего историю освобождения короля Иакова. И это обстоятельство сказалось на дальнейшем благосостоянии сэра Роберта…