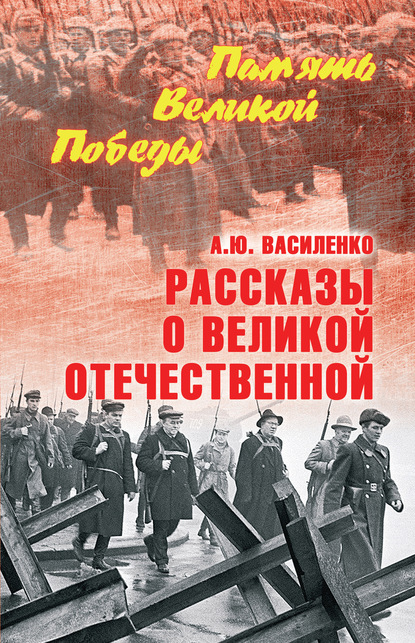
Полная версия:
Рассказы о Великой Отечественной
Пошли немцы вечером, поздно, уже темно было. Шли с автоматами, с закатанными рукавами, пьяные. По плотности огня они в несколько раз превосходили нас, не говоря и количестве людей. Наш пулемёт, конечно, свою песню пел, но на нём долго не посолируешь. Решили подпустить поближе. И когда они подошли на расстояние броска, мы не дали им возможности сделать рывок до наших окопов – стали кидать гранаты. А с гранатами тоже закавыка. Один из наших бросил гранату… То есть не бросил, собирался бросить, и граната разорвалась у него в руках. Ну, не было у нас опыта ещё, первый раз, первый бой. А он ещё недавно верблюдов пас, какая там граната! Просил застрелить его, умолял, а нас ещё тоже война не обкатала – ни у кого не поднялась рука облегчить его мучения… Так в страданиях и умер…
Мы там немцев не пропустили. Потери, правда, тоже понесли большие. Капитан Здор был тяжело ранен, лейтенант Старчун наповал убит… А ночь уже. К утру одно из двух: или попрут они на нас ещё большими силами и полностью уничтожат, или же мы окажемся у немцев в тылу, что тоже сулит нам мало хорошего. И мы во главе с нашим комиссаром стали выбираться оттуда, пока ловушка не захлопнулась.
Решили мы двигаться вдоль линии фронта. Отступать начали тогда же, ночью, пока немцы не пошли с рассветом в атаку. Пришли к своим замаскированным машинам и тронулись. Немцы, конечно, слышали шум моторов, но что они могли ночью сделать?
Сохранились от тех дней, от того времени какие-то картинки, обрывки. Вот мы на высоте, а немцы к нам идут снизу. Откуда-то появляется танкетка. А тут речка ещё, мостик…
– Что за танкетка? Из тех, что не успели снять с вооружения?
– Ну, да, тридцатых годов лёгкая танкетка. Откуда? Ещё нам в поддержку жиденький артиллерийский огонь: одна или две пушечки полевые малого калибра… Где это, когда – всё смешалось. Потом вдруг зенитный пулемёт ударил. И он почему-то стоял на дороге… Короче, вот такие обрывки от этого отступления в памяти сохранились. Мы были тогда в 67-м корпусе 21-й армии. Корпусом командовал генерал Петровский. И весь корпус попал в окружение, а мы, благодаря идее комиссара, двигались вдоль фронта, и в окружение мы там со всеми вместе не попали. Хотя, как говорится, от судьбы не уйдёшь – всё-таки мы в окружение вляпались, но это попозже, в районе Киева.
Мы до этого погрузили на станции Ичня все разбитые в Черниговской области орудия, прошли дальше вдоль линии фронта и оказались возле Золотоноши. Чувствуете, какая была неразбериха?
Мы передвигались и действовали как бы сами по себе, никем не были востребованы, никем ни на каком месте не были приставлены… Вроде бы есть воинская часть, а вроде бы и нету…
Золотоноша, к которой мы выбрались с боями, находится в районе Оржицы. И получилось, что мы попали из огня да в полымя, прямо к чёрту в зубы, потому что любой военный историк по одному названию Оржица поймёт ситуацию. Вот только в популярной литературе почему-то умалчивают об оржицкой трагедии, и если человек не специалист, то ему это название ничего не говорит. А ведь речь идёт о нашем крупном поражении в начале войны, когда четыре наших армии попали в окружение. С большим трудом какой-то части войск удалось пробиться к своим. Мы тоже оказались там, тоже держали круговую оборону, строили переправу… Мне повезло – цел остался, но вот моего товарища Василия Созинова там тяжело ранило, мы его понесли на себе в госпиталь. А госпиталь располагался в школе, раненых полно, и врач операцию не стал делать. Абдрашитов, комиссар, к нему:
– Почему?
– Да что – не видите, что света нет?
Абдрашитов совсем взвился – достал пистолет, передёрнул и говорит:
– Сейчас и ты с белым светом попрощаешься, если не сделаешь операцию.
И фактически под угрозой оружия Созинову операцию сделали, но мы же были в окружении, поэтому о Васе я больше никогда ничего не узнал. Так же, кстати, как о комиссаре Абдрашитове, как о многих других… Мы выходили из окружения.
Выбрался я аж в Тульской области… Вот сейчас сказал это, и мысль мелькнула: как легко звучит! Из Белоруссии на Украину, потом в Россию, из области в область… А ведь это всё с боями, это всё по большей части ногами! Вы просто на автобусе проделайте такой маршрут – и то устанете, не захочется путешествовать!
– Сколько же дней длилась ваша эпопея от первого выстрела, первой очереди из пулемёта до выхода из окружения?
– Это всё держалось на «бабушкином аттестате», лесами, тропами. Это длилось до… После октябрьских праздников я вышел в район села Ивановское Тульской области.
– Ну, тут для тех, кто этого не знает, нужно пояснить, что такое «бабушкин аттестат». Если вспомнить, что денежное и продовольственное обеспечение командиров Красной Армии производилось по документу, называемому аттестатом, то «бабушкин аттестат» – это просто-напросто еда, которой наши люди, чаще всего старушки, снабжали окруженцев и всех оголодавших солдат. А если грубее, то подаяние…
– Абсолютно так. Нам этот «бабушкин аттестат» буквально жизнь спасал. Тогда я, пожалуй, впервые наглядно увидел, как много у нас добрых сердец. Были, конечно, и другие случаи, когда гнали или говорили, что у самих ничего нет. Смотришь на такого «голодающего», а у него морда поперёк себя шире. Но таких случаев всё-таки было мало. Относились к нам очень хорошо, мы же были на своей территории, это нас спасало.
В общем, вышли из окружения. Сразу – спецпроверка. Кстати, когда в современной литературе описывают подобную ситуацию, то почему-то всегда с негативным оттенком: хмурые, недоверчивые люди из «органов» трясут честных солдат вопросами…
Не знаю, ни я сам, ни те, кто проходил через это сито, не были счастливы, разумеется, но и осадка какого-то горького не ощущали. Да, хмурые, да, недоверчивые. Но хмурые от усталости, от огромной работы, им порученной. А недоверчивыми им по определению положено быть, потому что через них шли и дезертиры, и предатели, и заброшенные под видом окруженцев диверсанты.
После спецпроверки оказался я на станции Лев Толстой. Всем нам нужно было новое обмундирование, вшей было несметно. Когда вышел, пошёл в аптеку. Зашёл, спрашиваю аптекаршу:
– У вас есть что-нибудь от вшей?
– Есть, – говорит.
– Ну, так давайте мне.
– На сколько?
– На миллион.
– Миллион?! Да у нас во всей аптеке на такую сумму лекарств не будет!
– Да я не про деньги. Вшей у меня миллион…
Вот такие штрихи самого тяжёлого, конечно, сорок первого года. Кто не воевал в сорок первом, кто не отступал, тот не видел самого тяжкого, самого страшного на войне. На нас была брошена такая армия, что… Немцы даже насмехались над нами. Помните, я про Белоруссию рассказывал, про сидение без дела, про листовки? Так вот был и такой случай. Немцы сбросили в наше расположение труп еврея на парашюте. В руках несчастного корзинка, в ней бутерброды и листовки такого содержания: «Солдаты! За кого вы воюете? Ради кого?» Вот такие «подарки» издевательские мы получали от немцев.
…После проверки меня взяли работать в штаб 3-й армии, точнее – в штаб артиллерии третьей армии. Я ведь военный топограф и на фронте занимался расчётами: привязка орудий, решение задач Гансена, Потанота… Позже, с 48-й армией дошёл до границы Советского Союза. За границей не был. Вот и всё.
Летний день на усадьбе
Павел Алексеевич Молчанов
– Павел Алексеевич, вы в армейских кадрах числились с 1940 года. Это значит, что войну вы встретили под присягой, в военной форме.
– Да. И не только по форме. Так получилось, что война пришла, и мне пришлось столкнуться с ней нос к носу в первый же день.
В общем-то во время войны у меня была сравнительно мирная военная профессия – радист. Так что ни о боевых действиях, ни о каких-то особо трудных случаях рассказать не могу, хотя профессией своей я горжусь и считаю, что без радистов добыть победу было бы куда труднее.
С сорокового года я учился в школе специальной на радиста. Весной сорок первого вывезли нашу школу в так называемые летние лагеря. Причём на самую границу. Названия этого местечка я уже не помню. Это была очень большая бывшая усадьба какого-то польского пана. Бывшая – это совсем с недавнего времени, чуть больше года прошло с момента изменения государственных границ, и эта территория отошла к Советскому Союзу.
И вот эта усадьба была рядом с рекой Прут и, таким образом, попадала в восьмисотметровую пограничную полосу. И именно там был разбит наш летний лагерь, и там мы продолжали учёбу. Хозяевами были, естественно, пограничники, а мы как бы у них в гостях. Всё это было не так уж далеко от Львова, где, собственно говоря, и размещалась наша радиошкола.
Война застала нас именно в этом лагере. Я в этот день в аккурат стоял на посту в радиовзводе. И вдруг – пулемётные очереди. В первый момент не понять – кто, откуда? И только потом, когда с деревьев стали падать срезанные пулями ветки, начали мы понимать, что это не случайная очередь какая-то, что это обстрел, и стреляют специально по верхушкам деревьев из-за реки, потому что, вероятно, считали, что там у нас сидят наблюдатели или снайперы – «кукушки».
А какие там были огромные каштаны, в этом старинном парке! И никого-то на них не было! Да и вообще никого не было. Выходной день. Полусвободный распорядок. Никто никого ни о чём не предупреждал, нападения не ждали нисколечко. Офицеры в большинстве во Львов уехали, к семьям. Пограничное начальство, кстати, тоже. Только дежурный офицер на заставе. Он-то нас по связи и успокоил: ничего страшного, действует небольшая группа нарушителей границы, сейчас её ликвидируют, и завтрак будет по распорядку.
Эх, если бы так! Вскоре за пулемётными очередями раздался взрыв – открыли огонь из миномётов. Первая мина разорвалась на футбольном поле, вторая – поближе к помещению, в котором находилась школа, третья угодила уже прямо в здание…
Вот только тогда прозвучала боевая тревога. Началась война.
Пограничники, те, что оставались на заставе, все вышли на границу; мы тоже все получили патроны, всё снаряжение по боевой и… нет, боя не было у нас, тут уж ведомственное разобщение проклятое сработало. Ну, и воинская дисциплина, конечно. Приказа помочь пограничникам не было. Ребята рядом ведут бой, мы в готовности, подсумки полные и… стоим! Нет приказа и всё!
Приказ поступил чуть позже: выйти из зоны обстрела, из этого сада помещичьего. Вышли и заняли оборону. Там, примерно в километре, были выкопаны окопы – вторая линия обороны. Хорошо хоть, что они у нас были, потому что мы были же на новой границе, а её совсем не успели обустроить. Так что даже окопы не были укреплены ничем, долговременных огневых точек тоже ни одной не сделали… На старой-то границе ещё год назад быстро всё разобрали, все укрепления снесли. Торопились почему-то, забыв о том, что вначале новую линию границы укреплять надо!
Вот в этих окопах нам и пришлось начать войну. Дальше, я уже говорил, всё время для меня оказалось спокойным. Но работа, конечно, очень важная. Радист на войне – это глаза и уши. Через него, через его радиостанцию связь идёт и «наверх» и «вниз». У каждого – свой позывной, свои шифровальщики. Они приносили нам кодированное всё, одни только цифры стояли. И группами цифровыми мы и передавали все приказы, открытым текстом ничего не передавалось. И сами мы даже приблизительно не знали, о чём шла речь. Стучали на ключе. Вначале я был на ротной радиостанции, небольшая такая, а потом уже стал работать на более мощной. Закончил войну в Белостоке. А теперь вот к этому памятнику прихожу…
– Мне сказали, что вы лично очень много труда вложили в то, чтобы в вашем селе был этот памятник.
– Это память о товарищах погибших, о молодости. У меня погиб брат, вот его фамилия. А всего в нашем сельсовете погибли 246 человек, было у нас когда-то 15 деревень… Память – им…
Письмо Константина Ивановича Маланова сыну. Константин Иванович был добровольцем Ярославской коммунистической дивизии.
«Здравствуй, милый Вовочка! Получил твоё и Алино письмо, за что целую тебя крепко-крепко. Поцелуй за меня мамочку. Передай привет тёте Шуре, бабушке, дедушке. Будь здоров. Напиши мне, живут ли у нас курочки и не поморозили ли они себе лапки. Ты за ними ухаживай, береги их. Ещё раз целую тебя, мой родной. Твой папа Костя. Пиши мне письма».
Это было письмо сыну. А вот письмо другое. Сын пишет отцу. Письмо Бориса Салынского Ивану Дмитриевичу Салынскому в 118-ю стрелковую дивизию. 3 августа 1941 года.
«Здравствуй, дорогой папочка. Все мы здоровы, что и тебе желаем. Сегодня от тебя получил 300 руб. Папочка, я тебя очень прошу писать почаще письма, а то беспокоимся. Пиши, как у тебя здоровье. Об нас не беспокойся. Желаю тебе со скорой победой приехать домой, привет от всех. Целую тебя. Боря».
Иван Дмитриевич Салынский погиб через три дня после того, как сын написал это письмо — 6 августа 1941 года…
А мы были почти готовы
Лев Владимирович Давыдов
Он выглядел во время нашей с ним встречи таким энергичным и подвижным, что я безо всяких к тому оснований решил, что попал он на фронт совсем юнцом. Спросил, в каком году его мобилизовали. Его брови удивлённо подскочили над резко-чёрной оправой очков:
– Почему «мобилизовали»? Я в РККА с тридцатого года начал служить.
– ?! (Пришёл черёд удивляться мне.)
Давыдов рассмеялся, довольный собой и произведённым впечатлением, чувствовалось, что он гордится этим обстоятельством:
– С восьмого года я, тысяча девятьсот восьмого года! Что – не похоже? У нас в роду все такие, все живут подолгу. Восемьдесят шесть, сто один год, даже сто четыре!
Вот так начался наш разговор с кавалером ордена Ленина, ордена Красного Знамени, трёх орденов Отечественной войны, двух орденов Красной Звезды. Встретив войну в Прибалтике, он принимал участие в битве на Орловско-Курской дуге, в сражении за Сталинград, потом были Витебск, бросок на Прибалтику… Словом, география военная – одна из самых тяжёлых. Я вначале даже не задумался над этим, но потом спросил, вспомнив ускользнувшую было мысль:
– Позвольте, но ведь выходит, что вы, ваша часть… Вы что, вернулись туда же, где началась для вас война?
– Редкий случай, вы правы. Но мы действительно закончили войну там, где начался наш первый бой. Дивизия наша так и остановилась в Литве. Мне, правда, пришлось и дальше побывать, а вот дивизия…
– Ну, тогда о первом дне расскажите подробнее…
– А для нас первый день был раньше двадцать второго июня. Мы стояли тогда в Даугавпилсе. Семьи в городе оставались, а мы в лагере летнем. И семнадцатого июня подняли нас по тревоге. Приказ был такой: срочно прибыть в укрепрайон возле местечка Калвалия. Это недалеко от нынешней Калининградской области, а тогда это самая граница была с Германией, Восточной Пруссией.
Люди военные знают, что такое, когда крупная часть по тревоге поднимается. Вроде и суматоха, только целесообразная она, каждый знает, что ему делать. А тем более мы – кадровые военные, новобранцев было мало. В общем, снялся лагерь, и пешим ходом вся дивизия к месту дислокации направилась. Сказать, что какие-то предчувствия были у нас, – не скажу. Дело обычное, военное, начальству виднее, куда нас направлять, может быть, учения намечаются… Конечно, думали о семьях, что в Даугавпилсе остались, ведь попрощаться и то не было возможности, но идём и идём колоннами – винтовочки, на роту – по пулемёту, а ППШ, автоматы, тогда на пальцах посчитать можно было – новое оружие ещё считалось. Пушечки на конной тяге… Идём, словом. Мотаем километры на портянки. День, другой… Двадцать первого июня на ночёвку остановились. Возле Каунаса это было, в нескольких километрах. Ночью все уже спать легли, а мы с политруком моим сидим, не спится что-то. Забыл сказать – я тогда ротой связи командовал, старшим лейтенантом был. Вот сидим мы, а Шапошников, – политрука фамилия была, – вдруг говорит:
– Плохо всё это пахнет, Лёва. Плохо. И то, что сорвали нас, и то, что разъяснений не дают… Ладно, давай спать, утро вечера мудренее.
– Да уж какой вечер, – говорю, – третий час… Давай ложиться.
Легли мы прямо на траве. И заснули сразу. Крепко. Устали же.
Другие потом говорили, что гул самолётов услышали и проснулись. Я не слышал, честно сказать. Проснулся уже от разрывов.
О том, что это был массированный налёт на близлежащий аэродром, что в общем-то мы под огнём оказались случайно, – это мы позже узнали или сами сообразили. Просто нас попутно обнаружили и начали бомбить. Перепуганы мы были, конечно, даже паника было началась, люди никак не могли понять, что происходит. Да и спросонок много ли сообразишь? Крикнул я своим, чтобы рассредоточивались, укрывались, а сам в штаб. Он в ста метрах располагался. Бегу, а кругом убитые лежат. Много людей погибло… Генерал-майор Павлов командовал нашей двадцать третьей стрелковой дивизией. Поставил он командирам задачу, – уже как-то легче стало, по крайней мере цель какая-то появилась.
Короче говоря, не успели мы осмотреться и потери подсчитать, как нас немцы атаковали. Причём были это мотомехчасти, подвижные, вооружены хорошо…
Страшно тяжело было. Всё воспринимаешь какими-то отрывками, эпизодами, связную картину я и сейчас не смогу, наверно, воспроизвести. Видишь цель – стреляешь. Получаешь команду – выполняешь, слышишь свист – падаешь, голову хотя бы руками прикрываешь… А вот встали, пошли в штыковую. Бежишь и думаешь: а солдаты твои бегут за тобой или нет? А оглянуться некогда, потому что немцы – вот они, рядом, и надо добежать до них раньше, чем тебя убьют… В той штыковой наш генерал погиб, Петров. Сам вёл за собой людей.
Сейчас много об этом написано – о первых днях, о потерях, о том, что генералам не место было в общем строю, что это – от беспомощности и неумения руководить войсками. Дальше забираются в прошлое, ищут причины в массовых репрессиях, в том, что лучшие командные кадры были повыбиты… Во многом это всё правильно, не оспоришь. Но это – только в теории. А по жизни… Я не пожелал бы этим холодным умникам в тиши кабинетов и квартир, тем самым, кто так уверенно рассуждает о том, чего не следовало делать генералам, оказаться со своим штабом в паре сотен метров от врага, когда единственный способ спасти хоть часть людей под плотным автоматным и пулемётным огнём – поднять их и повести за собой… Так погиб наш генерал Петров.
Где-то день на второй или третий, – а бой был беспрерывным, потому что мы умудрились в этой каше кое-как окопаться и держали свой участок, вспомнил я, – что последний раз ел вечером двадцать первого. Да и то вспомнил потому, что услышал – Шапошников жуёт что-то. Мы с ним лежали в окопчике, пауза у нас такая получилась. Слышу – жуёт. Повернул голову, а даже это движение усилий стоит, так мы устали, смотрю, – а он мне какой-то кусочек протягивает:
– Бери. Ценный продукт. Вобла. Завалялась.
Он вообще-то разговорчивый был парень. Из города Изюма сам был. Но тогда говорить, видно, не мог – устал, как я, как все. Взял я половинку от той половинки, что он ел. Только в рот положил – и почувствовал, что сейчас от голода помру, прямо скрутило всё внутри. Пока про еду не вспоминал, – вроде бы нормально всё было. А Шапошников, смотрю, вторую половину этой малюсенькой воблы прячет.
– Ты что, – говорю, – политрук! Зажать воблу хочешь?
А он смеётся:
– А ты думаешь, что завтра тебе кто-то поесть привезёт? Сегодня уж потерпи, сэкономим…
И ведь верно – ни завтра, ни послезавтра еды у нас не было никакой. На подножном, как говорится, корму. Да только опять мы и не вспоминали о питании… Помню – из главных мыслей: из роты целый взвод погиб, жалко ребят; и ещё одна: что там, в Даугавпилсе? Где сейчас находятся жена и сын мой, сорокового года рождения, года ещё ему не исполнилось?..
О войне много написано. И всё же пока не встретил я книги, где по-настоящему описано положение женщины с ребёнком, беженки, которая не знает вообще – жив ли её муж, что с ним. Вот ведь с Асей моей так было. Из Даугавпилса она в Себеж эвакуировалась, потом в Смоленск их отправили, потом в Мордовии оказались, в деревне Кобылкино… И ведь не везде могут принять, не везде и есть что покушать. И негодяи встречаются, и равнодушные люди. А она с годовалым мальчонкой на руках… Из Мордовии – в Чкалов, оттуда – в Челябинск. И только потом оказались они в Средней Азии, в городе Мары. Ну, это для неё родные места, сама она в Кушке родилась. Только в сорок третьем году отыскал я их след в Челябинске, первое письмо получили они за два года. А в сорок четвёртом после ранения оказался я недалеко в госпитале. Вот и встретились. Три года…
В те же дни столкнулись мы с ударом в спину, с предательством. Хотя, наверно, об этом не надо…
– Почему же «не надо»? Жизнь есть жизнь. В ней, к сожалению, не только плюсы. А о чём речь?
– Дело в том, что когда мы начали отступать, а произошло это только через пять-шесть дней непрерывных боёв, то мы должны были перейти Неман. Там был мост, а прямо за мостом – Каунас. И вот когда подошли к мосту, то авангардная разведка донесла: мост осёдлан кем-то, причём основательно. Там были несколько пушек, а вокруг – пулемётные гнёзда. Откуда впереди оказались немцы? Неужели десант? Понаблюдали. Нет, не немцы это были. Националисты и примкнувшие к ним недобитые когда-то белогвардейцы. И откуда только такое оружие добыли?! Было решено в бой не вступать, потому что на мосту этом можно было много людей потерять. Лучше подняться против течения реки и форсировать её уже там. Так и сделали. Переправлялись на восточный берег кто как мог – паромы, плоты соорудили, но на всех плавсредств не было. А вплавь с оружием да в полном снаряжении-амуниции одолеть такую реку сложно, многие утонули при переправе. А я к тому же и плавал плохо, сообразил заранее, что не выплыву, поэтому ухватился за повозку какую-то. Кони плывут, а я за ними. Так и перебрался.
Вот как раз после этой переправы обозначился для нас второй этап войны. Уже всё ясно, уже эффект неожиданности не работал, уже вступила в силу армейская организованность: боеприпасы, питание стали поступать. Мало, правда, но всё же лучше, чем ничего. И в тридцати километрах от Каунаса, возле Ионавы, мы смогли уже дать фашистам достойный отпор. За те бои я был впоследствии представлен к ордену Красной Звезды. Кто воевал, тот знает, как дороги были тогда ордена и медали. Не до того было…
Вот так оно у меня и начиналось. И вот ещё хочу рассказать один эпизод. Правда, это уже намного позже. В сорок пятом году, после Победы, был я в Берлине. И произошёл случай вот такой. На вокзале мы были, группа офицеров, многие к концу войны сносно говорили по-немецки, но переводчик тоже был с нами. И вот вижу я: старик-немец, в возрасте примерно, как я сейчас, подошёл к разрушенной стене, поднял из груды обломков целый кирпич и прилаживает, прилаживает его. Я спросил:
– Старик, зачем это? Ведь стены этой – нет, вокзала – нет, самой Германии сейчас тоже нет!
И он ответил:
– Если каждый немец поднимет по кирпичу и положит в надлежащее ему место, то будет стена, будет вокзал, будет сама Германия!
Я спросил его ещё:
– А как ты думаешь, старик, война ещё будет?
Он из философов-пессимистов был, наверно. Он сказал с горечью:
– Пока на нашей земле есть… пять… да, пять всего солдат и хотя бы один ефрейтор, – война будет!
…И я до сих пор думаю и не могу понять: что он имел в виду, когда сказал «на нашей земле»? Только Германию? Или всю планету?..
Из письма автору от Анатолия Александровича Болотова, жителя города Липецка.
«Кто воевал, тот навсегда останется солдатом. Это как горелая рожь, – сколько её ни перебирай, сколько ни провеивай, – всё равно горчить будет… Чтобы оживить у фронтовика память о прошлом, самая малость требуется: ударит гром среди бела дня – на артиллерийский залп похоже. Блеснут зарницы сухим июльским летом – будто фронт проходит километрах в двадцати… Память коротка у тех, кто мало пережил. Или у тех, кому прошлое вспоминать невыгодно, не по нутру оно им. Народ, который пострадал больше всех, никогда не забудет горечи утрат, ни радости победы. И эту память мы передадим векам, потомкам нашим».
Выстоять!
Война глазами генерала и лейтенанта
Евгений Яковлевич Лебедев
– Евгений Яковлевич, вы много лет отдали увековечению памяти всех, кто принимал участие в Великой Отечественной войне и погиб в боях. При вашем самом активном участии и руководстве создавалась уникальная Книга Памяти. Такие создавались во всех областях России, но именно книга, где вы были главным редактором, была признана одной из самых лучших – по полноте материала, по исторической оснащённости. Там есть практически все сведения о том, что было сделано в ваших родных местах для Победы. И конечно же, работая с документами, историческими материалами, вы, как непосредственный участник войны, не могли не сделать каких-то обобщений, выводов.

