 Полная версия
Полная версияБеседы о науке
«Страна так и не расплатилась со мною за ядро», – как-то горько посетовал в одном из разговоров учёный. Максимум, чем был отмечен государством вклад Иваненко в науку, так это Сталинской премией второго ранга. Плюс – орденом Трудового красного знамени, который гордый Иваненко на торжественной церемонии вручения отказался приколоть к пиджаку. Все его некогда самые близкие соратники по физическим делам – и Ландау, и Амбарцумян, и Тамм, и Арцимович, и Фок, не говоря уже о Курчатове, Харитоне и Зельдовиче – к тому времени носили на лацканах пиджаков звезды Героев Соцтруда. Одна из разгадок такого «невнимания» может крыться ещё и в том, что строптивый Иваненко в своё время отклонился от участия в советском атомном проекте. Очевидно, понимая, что это уже не наука…
Последние годы Дмитрий Иваненко посвятил изучению проблем гравитации. Под его началом сложилась целое научное направление в стране, проводились симпозиумы. Сам учёный не единожды выезжал в Европу на гравитационные конференции и чтение лекций на одну из самых интересных и сложных научных тем современности. Его научное наследство составили сотни первоклассных статей по квантовой и ядерной физике, десятки монографий. Под редакцией и в переводах Дмитрия Иваненко на русском языке впервые выходили научные труды Гейзенберга, Эддингтона, де Бройля, Дирака, Бриллюэна, статьи Лоренца, Паункаре, Эйнштейна.
По всем признакам это была очень яркая звезда современной физики. Равноценно светившая в созвездии тех звёзд, что эту физику в XX веке так мощно творили…
Открытие было далеко не случайным. Именно Ленинградская школа новой физики – местный университет с Физико-техническим институтом в придачу – была на тот момент (конца 20-ых – середины 30-х годов) в стране наиболее сильной. Да и в мире давала о себе знать нарождающимися яркими научными звёздами. Среди них звёзды первой величины, получившие в последствии в истории науки знаменитое прозвище «ленинградского джазбанда»: Георгий Гамов, Дмитрий Иваненко, Лев Ландау, Матвей Бронштейн. Все гении и каждый с нобелевским потенциалом. Правда, реализовавшимся лишь у одного из них – Ландау. Прочие же – Гамов, Иваненко и Бронштейн – прославившись потрясающими научными открытиями, вошли в историю ещё и не менее трагическими испытаниями, выпавшими на их судьбу в условиях сталинского режима. Первый бежал, второй сидел, третьего расстреляли…
Да, физика в ранние советские годы делалась в непростых условиях. И, тем не менее, физика эта была на высочайшем уровне, о чём свидетельствовали ранние тесные контакты и интенсивная научная переписка творцов новой квантовой физики Европы (Бора, Гейзенберга, Паули, Дирака) со своими талантливыми последователями в России (Таммом, Ландау, Капицей, Иваненко, Франком).
Дмитрий Иваненко в этой блестящей компании был довольно авторитетной фигурой, отличавшейся огромной эрудицией, знанием нескольких языков, правда, увы – с «подозрительным» дворянским происхождением. Целеустремленный в науке с отменным, надо сказать, научным чутьём. Плюс – неплохие ораторские способности. Юмор, впрочем, не всегда безобидный. Да и нрав, говорят, не самый покладистый.
Короче – в 35-ом был репрессирован, как «чуждый элемент» непролетарского происхождения, к тому же водивший дружбу с «невозвращенцем» Гамовым. Лагерь, ссылка в Сибирь, правда, с возможностью заниматься там любимой физикой. В середине 40-х добрался-таки до Москвы, постепенно обосновался на физфаке МГУ. Продолжил заниматься ядерными делами, плюс – ушёл с головой в гравитацию. Обзавёлся новыми связями, разорвал старые.
Не было такого выдающегося физика в мире, который бы не хотел знаться с Иваненко. Не было такого известного физика в Союзе, кто бы с Иваненко не разругался. В его рабочем кабинете на физфаке МГУ перебывали чуть ли не весь Нобелевский цвет современности. Свои автографы на стенах кабинета оставили и Бор, и Дирак, и Юкава, и Пригожин, и Уилер. В тоже время бывший лучший друг, тоже Нобелевский лауреат Ландау сделался злейшим врагом. Разорвались отношения с Курчатовым, испортились с Таммом, разладились с Фоком и Арцимовичем.
За свою долгую 90-летнюю жизнь Дмитрий Иваненко сумел загадать не меньше загадок, нежели разгадал сам. Клубок богатых, порой просто гениальных научных идей в комплекте с не менее драматичными комплексами. Например – честолюбия, когда значительную часть научной публицистики приходилось посвящать установлению своего приоритета на то или иное открытие. И не только – протонно-нейтронной модели атомного ядра, приоритет которой, впрочем, никто в мире не оспаривал, но я ряда других серьёзных разработок. Скажем – ещё одного приоритета явно нобелевского масштаба, а именно – описания на пару с Исааком Померанчуком синхротронного излучения. И здесь Дмитрию Иваненко не повезло с наградами.
«Страна так и не расплатилась со мною за ядро», – как-то горько посетовал в одном из разговоров учёный. Максимум, чем был отмечен государством вклад Иваненко в науку, так это Сталинской премией второго ранга. Плюс – орденом Трудового красного знамени, который гордый Иваненко на торжественной церемонии вручения отказался приколоть к пиджаку. Все его некогда самые близкие соратники по физическим делам – и Ландау, и Амбарцумян, и Тамм, и Арцимович, и Фок, не говоря уже о Курчатове, Харитоне и Зельдовиче – к тому времени носили на лацканах пиджаков звезды Героев Соцтруда. Одна из разгадок такого «невнимания» может крыться ещё и в том, что строптивый Иваненко в своё время отклонился от участия в советском атомном проекте. Очевидно, понимая, что это уже не наука…
Последние годы Дмитрий Иваненко посвятил изучению проблем гравитации. Под его началом сложилась целое научное направление в стране, проводились симпозиумы. Сам учёный не единожды выезжал в Европу на гравитационные конференции и чтение лекций на одну из самых интересных и сложных научных тем современности. Его научное наследство составили сотни первоклассных статей по квантовой и ядерной физике, десятки монографий. Под редакцией и в переводах Дмитрия Иваненко на русском языке впервые выходили научные труды Гейзенберга, Эддингтона, де Бройля, Дирака, Бриллюэна, статьи Лоренца, Паункаре, Эйнштейна.
По всем признакам это была очень яркая звезда современной физики. Равноценно светившая в созвездии тех звёзд, что эту физику в XX веке так мощно творили…
Ракетостроитель Всеволод Феодосьев
Когда человек рождается в «колыбели космонавтики», на земле Циолковского, а потом посвящает себя трудам по построению ракет, обучению их длительным полетам и расчетам прочности такого рода транспортных средств, хочется думать: вот она – магическая аура звездного колдовства, вот они – пьянящие чары ракетного мечтателя Циолковского, вот она – покоряющая человека от самого места рождения неизбежная участь – летать. Со Всеволодом Феодосьевым всё было именно так. И даже – больше, чем так…
Родившись в 1916 году в Калуге в период военных скитаний в санитарных поездах своих отца и матери (по профессии, правда, не медиков, а педагогов) будущий корифей ракетных наук никогда более на свою малую (точнее сказать – случайную) родину не возвращался. И ни разу в своих воспоминаниях о наличии на карте особой точки, называемой «колыбелью космонавтики», не вспоминал. Мало того, в своем фундаментальном, ставшем, по сути, делом жизни труде «Основы техники ракетного полета», испещренном формулами реактивного движения, ни словом не обмолвился о первооткрывателе этих формул – Константине Эдуардовиче Циолковском. Своём, можно сказать, великом земляке.
Некоторые из исследователей биографии Феодосьева (особенно – в Калуге) заметно раздражены такого рода «забывчивостью» известного ученого. И готовы приписывать это, как отмечалось несколько лет назад на традиционных Циолковских чтениях, его «склонности бравировать оригинальными демократическими взглядами». Хотя чего-чего, а оригинальничания за одним из основоположников преподавания ракетной баллистики и теории сопротивления материалов в знаменитой Бауманке Всеволодом Ивановичем Феодосьевым никогда не замечалось. Просто его «космический» ген, привнесенный из намоленной межпланетными думами захолустной Калуги, был не столь ярко выражен и заметен, чтобы им на каждом шагу можно было бравировать. Мало того, он, кажется, был абсолютно скрыт и для самого носителя этого гена – Всеволода Феодосьева. Он разве что лишь исподволь толкал «случайного» калужанина туда, где гул ракетных двигателей был слышней, а расстояние до звёзд короче…
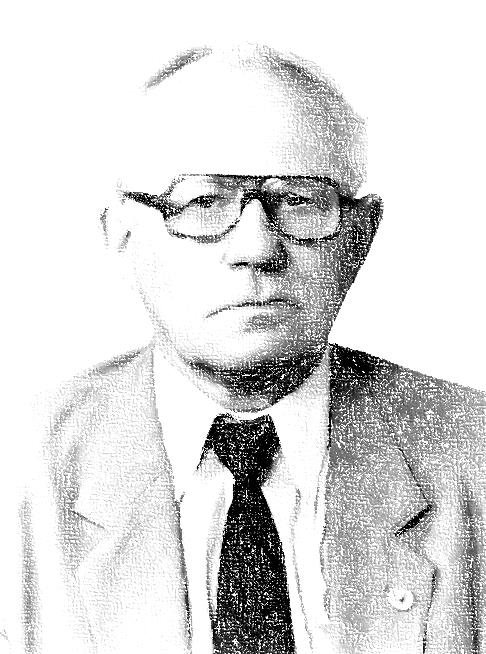
Отличный ученик в школе, он замышлял поступить на мехмат МГУ, но товарищи отговорили: Бауманский круче. Согласился. Быстро стал набирать исследовательский темп. Уже не 4 курсе опубликовал первый научный труд – о расчетах трубок Бурдона, этаких закрученных в спираль датчиков давления. Юный исследователь был захвачен проблемой упругости и прочности отдельных элементов приборов. Впоследствии этот интерес выльется в глобальный жизненный путь ученого – в изучение и расчеты прочности в различных отраслях машиностроения. В том числе – в ракетостроении. Станет отправной точкой формирования в стенах МВТУ им. Баумана отечественной звезды сопромата – профессора Феодосьева.
А пока – в июне 1941-го – он защищает в Бауманском диплом с оценкой отлично. Его портрет открывает первую полосу институтской газеты – один из самых блестящих студентов вуза. Экзаменационная комиссия рекомендует изменить статус его работы: не выпускная дипломная работа, а кандидатская диссертация. Тут же выполнить рекомендацию не удалось – через четыре дня после защиты диплома грянула война. Начались тяжкие прифронтовые будни. Научные исследования приходилось совмещать с дежурствами на оборонительных объектах столицы. Призывать не стали – броня для научных работников стратегически важных отраслей.
Выпускной диплом всё-таки превращается в кандидатскую в тяжелом 1942-ом. Через три года – Феодосьев уже доктор. Ему нет и тридцати. Еще через два года он уже профессор в родной Бауманке. Кафедра сопротивления материалов. Именно это словосочетание станет для Всеволода Феодосьева отныне ключевым, его визиткой, его жизненной страстью – сопротивление материалов, сопромат, наука прочности. Более сорока лет он будет посвящать в секреты этой важнейшей из машиностроительных наук одно за одним поколение студентов МВТУ. Параллельно – вести организованную здесь Королёвым в конце сороковых кафедру ракетной баллистики.
Очень скоро Феодосьев завоевывает доверие огромной армии ракетостроителей, как один из самых осведомленных в секретах прочности летательных аппаратов специалистов. Его постоянно хочет приблизить к себе Королёв. Зовёт в своё КБ. Феодосьев предпочитает вузовскую кафедру производственной горячке. Видимо, и здесь свою роль сыграли гены, но уже не мифологические, а реальные – отец у молодого ученого, Иван Феодосьевич, был педагог по призванию, как, впрочем, и мама. Добился, где очно, где экстерном учительского аттестата. Почти тайком убежал за ним из брестской деревни в город. Добрался до Петербурга. Сумел поступить в университет. Окончил его и стал чуть ли не первым грамотеем на весь родной брестский околоток. Правда, не в естественно-научной сфере, а в гуманитарной. Педагогическому «гену» отец ученого, как и сын, не изменил до конца своих дней – учительствовал, сколько было сил, в подмосковных и московских школах. Сын в этом смысле пошел по стопам отца – почти полвека отдал преподавательской деятельности в вузе.
Вообще главное увлечение жизни Всеволода Феодосьева – сопромат – не очень с виду привлекательное, несколько, скажем так, не романтичное, что ли. Спросите любого студента, и они ответят вам, что такое сопромат. Это страшные бессонные ночи перед экзаменом, куча малопонятных формул, громоздких задач и, как следствие, частый «неуд» в зачетке. Наука, по самому названию которой можно понять, что она очень сопротивляется тем, кто желает её как следует приручить. И поддается только самым из них крепким и прочным. Потому и настоящих спецов в этой отрасли именуют прочностниками. Они обеспечивают прочность всего того, что наизобретают конструкторы.
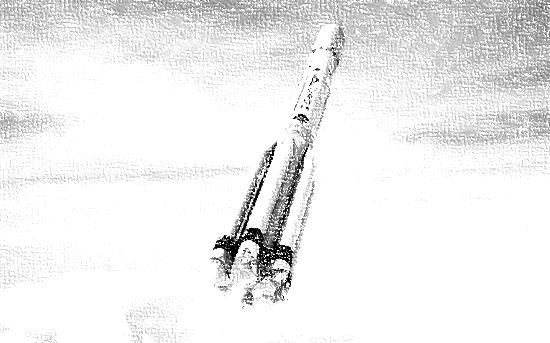
Скажем – ракеты. Даже у Королёва они поначалу то и дело падали. По разным причинам. Хотя была среди них и основная – неуправляемая вибрация, разрушительно действующая на разные системы, в том числе – подачи топлива. Стояла задача – научиться этой вибрацией управлять и рассчитать пределы прочности ракетных конструкций, способных удерживаться от разрушения в процессе пуска.
Феодосьев с проблемой справился, чем заслужил признательность Королёва и уважение всей его могучей команды. Бесценный ракетостроительный опыт лег в основу нескольких классических монографий ученого, ставших настольными книгами и инженеров, и студентов. Назовём главные из них: «Сопротивление материалов», «Расчеты на прочность в машиностроении», «Прочность теплонапряженных узлов ЖРД». Первые две из них были отмечены Ленинской премией и Государственной СССР.
Самую же главную книгу Всеволод Феодосьев писал почти четверть века. Это его знаменитые «Основы техники ракетного полета». Та самая, что может быть, какой-то тонюсенькой, совсем невидимой ниточкой связана с местом рождения автора и космонавтики в целом. Вполне загадочное и неуловимое, а на деле – неизбежное родство. Вполне – судьба, промелькнувшая на жизненном небосклоне едва заметной звездочкой, но осветившей, как теперь выясняется, весь последующий жизненный путь.
Так, как начал свою книгу о ракетах Феодосьев, так никогда не начинают сухих учебников по техническим наукам. Так начинают песню. Или – исповедь. Или – признание в любви… «Они приходили на работу утром и возвращались домой к полуночи, не зная, что такое обычный отпуск. Они творили ракетную технику сороковых, пятидесятых, шестидесятых годов, оставаясь добровольными пленниками своего долга, своих обязанностей, своей неизменной страсти…» Именно – страсти. Может быть – главного качестве всех тех, кто достиг у нас космических высот наяву. Сделал эти достижения реальными и осязаемыми. Надежными и крепкими. Непоколебимыми и устойчивыми. Такими, какими их предлагал в своих судьбоносных для жизнестойкости ракет расчетах выдающийся космический прочностник Всеволод Феодосьев.
Физик Нильс Бор
Вечером 8 мая 1961 года на стене в рабочем кабинете профессора МГУ Дмитрия Иваненко появилась надпись следующего содержания: "Противоположности – это не противоречия, а дополнения". Изначально надпись была сделана на сухой и точной латыни, которую обладатель автографа знал куда лучше, нежели рыхлый и витиеватый русский язык. С ним у носителя сего уразумения – великого Нильса Бора, навестившего в этот день Физфак МГУ – отношения не складывались. Хотя башковитых русских физиков в его знаменитом Копенгагенском институте теоретической физики перебывало предостаточно.

В Россию "крестный отец" квантовой революции наведался в третий раз и в третий раз взялся проповедовать главнейшее своё учение: нет, не квантовой теории строения вещества, а – мудрости куда более существенной, хотя и не столь авангардной и броской – принципа дополнительности. Именно им, этим именем, ещё один основоположник квантовой физики – Вольфганг Паули – предлагал в своё время "окрестить" второго погодка новой теории естествознания. Так, чтобы в историю науки они торжественно вошли с вполне симметричными наименованиями: "теория относительности" и "теория дополнительности". Причём, с чётко установленным отцовством: первой – Эйнштейна, второй – Бора.
Если своё научное дитя Эйнштейн тихо высидел в кабинете рядового патентного поверенного в Берне, то Бору пришлось новорождённую мысль долго выхаживать, причём не столько по ковру в своём рабочем кабинете в Копенгагене, сколько на лыжных трассах то в Норвегии, то в Швеции, то у себя в Дании. В глухих заснеженных местах, где, как выяснилось, особенно плодотворно думается о том, как устроен мир, и почему в нём кроется однокоренная сущность двух нетождественных на первый взгляд понятий: "мира", как наличной сущности и всего, что окружает нас вокруг, то бишь – Вселенной в целом; и "мира", как способа неистребляющего сосуществования приписанных к первому понятию "мир" необъятного числа его участников.
Помните, мы несли когда-то плакаты с лозунгами "Миру – мир!" И вряд ли кто задумывался, о том, что озвучиваем таким нехитрым образом один из фундаментальных принципов существования Вселенной, разгаданный чуть менее ста лет назад. Причём, не мудрыми разгаданный вождями, великими партийцами или их идеологической обслугой, а – штатными сотрудниками физлабораторий института Нильса Бора в Копенгагене, однажды вставшими перед дилеммой: если не помирить противоположные сущности в новейшей (квантовой) физике и отказать им в праве на мирное сосуществование, причём, когда каждая из сущностей в отдельности принципиально конфликтует с соседними, то ни с какими сущностями невозможно будет иметь дело вообще.
Открытый Бором принцип дополнительности поначалу претендовал лишь на усмирение выбивающихся из логического ряда понятий квантовой физики, как-то: электрон – частица или волна? Одновременность – иллюзия или реальность? Предсказуемость – почему миф? Естественное желание человека всё объяснить логически (точнее – желание навязать природе свою логику, а не воспользоваться предлагаемым механизмом её необъяснимого подчас отсутствия), вдруг утратило всякий смысл, и неоспоримая ранее, казалось бы, детерминированность, попав в на редкость экспрессивный микромир, выкинула "белый флаг". Причинно-следственные связи отступили.
Вселенная продемонстрировала физикам свой капризный норов, обидно щёлкнув их по носу и ясно дав понять, что никаких однозначных ответов на однозначно поставленные вопросы, она давать не собирается. И выбирать одно из двух – тоже. Истина может быть только двузначной. Или – многозначной. Но никогда – единственной. К тому ж ещё – зависящей от наблюдателя. В физике – от экспериментатора.
Желаешь наблюдать электрон, как частицу – получишь частицу. Желаешь, как волну – получишь волну. Спорить и выяснять отношения экспериментаторам, кто из них тщательней померил и изучил электрон – глупо. Потому что каждый из них по-своему взаимодействует с реальностью и ощущает её именно так, как складывается это ощущения после воздействия на исследуемый объект. Всё в рамках известного принципа неопределенности, пять же рождённого в Копенгагенской школе теоретической физики. На этот раз – гениальным учеником Бора – Вернером Гейзенбергом.
Принцип дополнительности Бора спас в своё время всю фундаментальную физику. Помирив готовые, казалось бы, разорвать её на части, ранее непримиримые сущности. Научив их мирно между собою сосуществовать. Более того – настоятельно нуждаться друг в друге. И если быть до конца откровенными – приговорив к смерти каждую, если в жизни будет отказано в противоположной.
Разумные люди, поделился в тот знаменательный майский день с аудиторией Физфака МГУ мудрый Нильс Бор, должны избегать слишком настойчивых наставлений, если не хотят войти в противоречие с основополагающим принципом дополнительности, который проявляется не только в сложных хитросплетениях квантовой физики, но и в обычной, как пытался убедить всех великий датский мыслитель, жизни. Когда привычная задача выбора лишь одного решения из конкурирующих двух, единственного победителя из тысячи достойных, безальтернативной констатации чего-либо, что не способно сформировать консенсус в принципе, не имеет шансов быть успешно реализованной. И лишь в процессе дополнения одного решения другим, одного противоречия следующим можно попытаться разгадать этот наш весьма небанальный мир, предоставляя ему очередной шанс оставаться мирным.
Конструктор танков Николай Попов
Если каким-либо из видов современного оружия в первую очередь хочется восхищаться, а не из него стрелять, то лучшей кандидатуры на эту роль, чем "летающий" танк Т-80, скорее всего, не найти. "Рождённый ползать летать не может", – узаконено, казалось бы, раз и навсегда. Ан, нет – приходят иногда к нам удивительные люди и снабжают крыльями то, что, вроде бы, отродясь не способно оторваться от земли. И учат красиво в небе парить того, кому на роду было предписано всю жизнь неуклюже ползать.
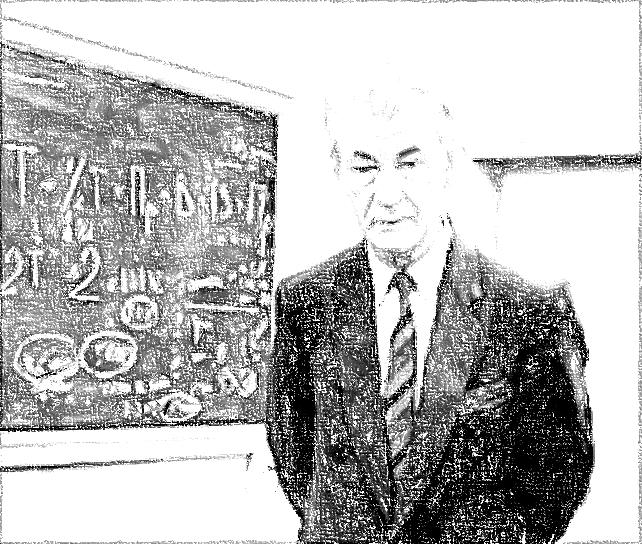
Николай Сергеевич Попов один из тех, кому удалось сделать невозможное – "скрестить" танк с современным самолётом. Точнее – с сердцем его силовой установки – газотурбинным двигателем. Весной 1967 года секретарь ЦК КПСС Д.Ф.Устинов позвонил главному на тот момент конструктору советских танков Ж.Я. Котину и сказал: «Генерал! Я взял «шашку» и твой танк «зарубил». На нем нет газотурбинного двигателя». Уже через год решение «крестного отца», как его потом стали называть, нового танка Т-80 Дмитрия Федоровича Устинова было оформлено закрытым постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 16 апреля 1968 года. Оно гласило: «…считать важнейшей государственной задачей создание танка с газотурбинным двигателем».
Решение "важнейшей государственной задачи" взвалили на только что возглавившего КБ Кировского завода талантливого 37-летнего конструктора Николая Попова. Работы начались не на пустом месте. Уже с десяток лет до этого делались попытки снабдить танки штатной самолетной турбиной. Дабы радикально нарастить мощность машины. Но тщетно. Медлительное гусеничное существо категорически отторгало не свойственный ему чужеродный орган движения. Точнее – полётов: газотурбинный двигатель. На испытаниях танк с "пересаженным" сердцем обычно лихорадило, управляемость падала, ресурс редко переваливал за нулевой, поскольку обычно такие тесты заканчивались разрушением турбин с пробиванием крыш разлетающимися лопатками.
Стало ясно, что механическая "пересадка сердца" делу не поможет. Нужно создавать с нуля свою танковую турбину и проектировать совершенно новый танк. Вокруг КБ Николая Попова постепенно сформировался мощный научно-производственный альянс. Главный конструктор впоследствии вспоминал: "
"Получился деловой союз единомышленников Особого конструкторского бюро транспортного машиностроения Кировского завода, завода имени Климова, Калужского моторостроительного завода, НИИтрансмаша и еще целого ряда ведущих НИИ и КБ авиационной и оборонной промышленности. Все мы пришли к выводу, что предыдущие неудачи были обусловлены тем, что предпринимались попытки «приспособить» к танку самолетные или вертолетные двигатели. А надо было делать сугубо танковый. Это мы и осуществили".
Будущий зодчий будущего лучшего в мире танка, будущий Герой Социалистического Труда Николай Попов родился в Усть-Лабинске, на казачьих просторах. Тяга к полётам (правда, обычным, не танковым) проявилась у Николая ещё в детстве – до поступления в Харьковский политех учился в спецшколе ВВС. Но инженерное и конструкторское ремесло быстро перевесило и новоиспеченный конструктор в 1955 году прибывает с «красным» дипломом на Кировский завод в город на Неве. Чтобы более полувека своей жизни – теперь уже до последнего своего дня – отдать этому прославленному предприятию.
«Нет ничего случайного в том, что танк Т-80 был создан на Кировском заводе с его глубокими историческим корнями, – скромно затенял свою лидирующую роль в этом деле Николай Попов, выводя на первый план могучий потенциал крупнейшего советского предприятия. – У истоков завода стоял патриотически мыслящий промышленник Н.И.Путилов, чьё имя первоначально носило предприятие. Кировский завод на протяжении десятилетий был и остается флагманом отечественного машиностроения. Ему всегда был присущ дух технического новаторства и творческого кругозора. Инженерная мысль кировцев отличается сугубо питерской интеллигентной пронзительностью. Может быть, поэтому танк Т-80, эта ленинградско-петербургская боевая машина, получился таким уникальным и универсальным и таким отзывчивым на новые технические и стратегические веяния».
В итоге главный конструкторский тандем по созидающейся "летающей крепости" составили танкист Н.С.Попов с Кировского завода и турбинист С.П.Изотов с производственного объединения им. В.Я.Климова. Огромное число технических новинок и то, что мы сегодня называем "ноу хау", вышло из конструкторских лабораторий двух сильнейших КБ страны. Чтобы уже в 1976 году дать старт первой промышленной серии танков Т-80 с 1000-сильной газо-турбинной установкой. Через два года осваивается очередная модификация Т-80Б с новой системой управления огнём и новой пушкой. Ещё через пять – следующий вариант – Т-80БВ мощностью 1100 л.с. и уникальным электромашинным стабилизатором. Ещё через два года – в 1985-ом КБ Николая Попова выводит в свет самый знаменитое своё детище – модификацию танка Т-80У с мощностью газотурбинного двигателя 1250 л.с. с комплексом управляемого вооружения, встроенной динамической защитой, цифровым баллистическим вычислителем, автономным энергоагрегатом и пневматикой управления. Именно этот танк в знаменитых военных смотринах в Арабских Эмиратах 1993 года поразил публику способностью парить в небе, преодолевая с разгону по воздуху по несколько десятков метров.

