 Полная версия
Полная версияБеседы о науке
При всех уникальных боевых характеристиках танк Николая Попова получился ещё и красивым. Удобным. Эстетичным. Зрелищным. Что, ясное не дело не совсем годится в эпитеты столь грозному оружию. Но именно так сработала конструкторская мысль Кировских спецов. "Сегодня в танке вы можете быть в рубашке с галстуком, – говорил главный зодчий Т-80 Николай Попов. – Система кондиционирования и отопления тут действует, как в салоне обычного воздушного лайнера. И вообще уходит время, когда танкист изображался в виде здоровенного мужчины в пропитанном соляркой комбинезоне и с кувалдой в руках. Наши экипажи работают в белых нитяных перчатках. И могут в случае необходимости заменить двигатель за 4 часа вместо обычных 24. Все это стало своего рода культурной революцией в танкостроении".
Итак: танкостроение и культура. Совместимы ли эти понятия? Не режет ли слух их тесная связь? Смотря в чьих руках оказываются две эти вроде бы противоречивые сущности. Главный конструктор лучшего в мире танка Николай Попов подтвердил и доказал, что не только в человеке должно быть всё красиво и складно, но и в том, что он берёт на себя смелость созидать.
Физик-атомщик Владимир Малых
Владимир Малых прожил ровно пятьдесят, успев к восемнадцати годам попреподавать в своей уральской глуши физику и поработать на машинно-тракторной станции, к двадцати – нанюхаться пороху Великой Отечественной и контуженным наваляться в военных госпиталях. В тридцать один Малых – уже один из главных советских специалистов по тепловыделяющим элементам (ТВЭЛам). В тридцать три, минуя кандидатскую, сразу же защищает докторскую. В тридцать четыре получает за всё это дело Ленинскую премию. К сорока в компании с другими выдающимися обнинскими фэишниками – Бондаренко и Пупко – делает прорыв с мини-ядерными реакторами в космос. Закладывает теоретический фундамент по тепловыделяющим конструкциям на

К сорока пяти Владимир Александрович – уже абсолютный корифей реакторостроения. К сорока семи – всё тот же корифей, но уже опальный. Взлеты чередовались с падениями. Триумфы Обнинской АЭС и первых ядерных субмарин перемежались завистью коллег (Малых так и не закончил физфак МГУ, чем сильно раздражал более «ученое» институтское общество) и полным разгромом Кандренковым и Новиковым теоротдела ФЭИ. Между тем феномен Малых, при всей очевидной яркости этой фигуры, остался по сию пору неразгаданным. Как, впрочем, и феномен самого обнинского ФЭИ в начальный, фантастически плодотворный период своего существования – 1950-1960-е годы.
«Всю жизнь меня мучает один и тот де вопрос, – вспоминал соратник Владимира Малых обнинский ученый Александр Дерюгин. – Как умудрились эти люди – Лейпунский, Бондаренко, Ляшенко, Малых – черт знает сколько сделать за такой короткий срок? Может быть, эпоха была тогда такая? Особенная. Или люди особые? Я не знаю. Нет версии. Ведь ТВЭЛы в Союзе делали четыре фирмы. И я не нашел объяснения, почему, например, именно наша, обнинская, вырвалась вперед. Не исключаю – по счастливому стечению обстоятельств. Если верить легенде, то вообще всё в Обнинске началось опять-таки благодаря его величеству случаю. В 1949 году Александр Ильич Лейпунский, делая опыты, потерял сейф с пробирками радия. Получил взыскание и был отправлен за 101-й километр на берег Протвы. То есть как раз в Обнинск. Из Москвы он перетащил мающегося без денег Малых, найдя именно здесь применение его неукротимому экспериментаторскому темпераменту. Боюсь, что именно случайность сказалась в том, что у нас в те годы был сделан такой мощный научный рывок. Например, если с 1954 по 1969 год при Малых мы разработали 15 новых комплектов ТВЭЛов (13 из которых пошли в серию), то за все последующие после ухода Владимира Александровича годы институт осилил только три».
Образ Малых – невероятный сгусток энергии. Плюс – эпицентр идей. Вокруг него постоянно всё кипело. Чертовски сообразительный и изобретательный. Пробелы в фундаментальном образовании Малых с лихвой компенсировал невероятным научным чутьем и умением поставить собственными руками любой подсказанный этим чутьем эксперимент.
«Удивительно светлая голова и золотые руки, – вспоминал бывший директор ФЭИ Олег Казачковский. – Всё умел. Мы занимались как-то созданием модели кольцевого протонного ускорителя. Там была такая кольцевая камера. Довольно сложная штука. И вот однажды приходит расстроенный Малых и говорит: «Делайте со мной что хотите, но я камеру сломал». Ну ладно, говорю, сломал так сломал, а дальше-то что? «Сделаем», – говорит Малых. Так собственными руками и восстанавливал…»
Казачковский припоминал первый день появления Малых в Обнинске в далеком 1949 году. В кабинете Лейпунского увидел молодого паренька. «Это наш новый сотрудник, – отрекомендовал контуженного солдата академик Лейпунский. – Я направляю его в вашу группу лаборантом». «Я никак не мог взять в толк, – вспоминает тот давний разговор Олег Дмитриевич, – чего это ради Лейпунский взял на себя разговор с рядовым лаборантом. Он никогда не занимался их трудоустройством. С его-то загруженностью. А тут вдруг сидит и беседует…» Собственно, это и было то кадровое чутье, благодаря которому первым руководителям ФЭИ удалось привлечь в Обнинск массу «ломоносовых». «Дьявольски талантливый самородок», – восхищенно отозвался о нем первый директор ФЭИ академик Дмитрий Блохинцев. «Если есть герой в Обнинске, то это Малых», – вторили ему в министерстве. Между тем сам «герой» метался между Москвой, Обнинском, Электросталью и Усть-Каменогорском. В первой пробивал проекты и получал нагоняи («Нам в Москве столько рогов понаставили, – делился как-то с подчиненными результатами своей командировки Владимир Александрович, – что за целый квартал не поспиливаешь»). В Обнинске нагромождал циклопические 14-метровые башни для экспериментов со своими ТВЭЛами. В Усть-Каменогорске и Электростали налаживал их серийное производство. Всё получалось. Правда, для этого иногда приходилось ставить токарные станки «на попа» и пугать жителей Обнинска оглушительными (не путать с разрушительными – их не было) взрывами.
Был страшно серьезен. Когда дело касалось надежности его ядерных детищ. Для тех же атомных подлодок разработал три варианта ТВЭЛов. Все испытал. Добился максимальной надежности. И тем не менее в заключительном отчете сделал приписку от руки: «Применение является оправданным риском». Его специалисты взмолились: «Владимир Александрович, всё уже миллион раз проверено-перепроверено!..»
Был страшно несерьезен, когда дело не касалось надежности его ядерных детищ. «Вы рассеянны. Как тысяча профессоров», – подтрунивал над своими не в меру собранными подчиненными Малых. «А вы, любезный, – обращался к другому, – радуетесь, будто ваша жена промахнулась утюгом». «Сейчас наше начальство повернулось к нам боком, – разъяснял своим сотрудникам суть «политики партии и правительства» маститый острослов, – а раньше было повернуто тем местом, что неудобно даже говорить». Шутил всегда, даже тогда, когда было не до шуток. «Я сейчас страшно занят, – сердился Малых, – так что попрошу вас испариться, и желательно без сухого остатка».
Печально, что «испарение» самого Малых (как, впрочем, и ряда его выдающихся соратников) по-прежнему скрыто завесой таинственности. «Его просто ушли», – говорят одни. «Отправили перед смертью в почетную ссылку в институт метрологии», – утверждают другие. «Характер был сложный, потому и…» – недоговаривают третьи. «Жалко, что не сумели отстоять», – раскаиваются четвертые. И очевидно, в знак раскаяния ученый совет ФЭИ принял решение: в ознаменование заслуг Владимира Александровича установить его портрет в институтской галерее. В одном ряду с Блохинцевым, Лейпунским, Бондаренко…
Химик и металлург Ян Чохральский

Признаюсь, Чохральским я проникся давно. Лет 40 назад, как минимум. Ровно с тех пор, как оказался в студентах МИСиС. Когда на лекциях по материаловедению полупроводников доцент Дашевский скрупулезно перечислял нам все достоинства метода по выращиванию кремниевых кристаллов имени какого-то неведомого нам то ли чеха, то ли поляка, то ли серба, а может даже немца – некоего Чохральского.
Кто это такой был, мы не знали. А преподаватели тоже не углублялись. Более того, как выяснилось впоследствии, не особо жаловали в социалистические времена это имя и на родине талантливого ученого-металлурга – да, именно в Польше. Вполне возможно, что фамилию Чохральский мы, советские студенты Института стали, а затем инженеры металлургических отраслей, слышали куда чаще, нежели соотечественники выдающегося ученого – поляки.
Чохральский в социалистический период был для них закрыт под выдуманным, как выяснилось, теперь предлогом коллаборационизма в годы Второй мировой войны. Её Чохральский пережил лишь на восемь лет, чтобы только через полвека быть полностью реабилитированным. Мало того – быть признанным не только великим польским ученым, но и деятельным борцом польского Сопротивления. Отважным подпольщиком. Так всё в истории с Яном Чохральским постепенно встало на свои места.
Главное, впрочем, и так было понятно: Чохральский придумал метод получения кристаллов, который впоследствии сделал революции в мировой электронике. А именно – путем вытягивания кристалла из расплава на специально приготовленную для того затравку. Случилось это открытие в 1916 году. По одной из версий всё произошло случайно. Якобы молодой химик-исследователь немецкой компании AEG Ян Чохральский при проведении очередных опытов с металлами ненароком обронил перо в расплав с оловом, а когда хватился и стал его поднимать, за пером потянулась тоненькая ниточка металла. Ученый решил ее исследовать и обнаружил полученную в ней монокристаллическую структуру. То есть – строго упорядоченное расположение атомов. Так появился первый монокристалл, вытянутый из расплава.
Конечно, «случайность» открытия была подготовлена многолетним научным рвением молодого польского исследователя. За ним стояли детские годы и начальная школа в маленьком польском городке Кцынь. Бесконечные химические опыты паренька в подвале родительского дома. Не раз вылетавшие после «удачных» опытов из дома стекла. Гнев отца и угроза выставить неукротимого «химика» за дверь. Ян, не дожидаясь претворения отцовских угроз в жизнь, сам в 16-летнем возрасте покидает отчий кров и, поскитавшись в качестве аптечного провизора по разным городам и весям, с еще более богатым багажом практических навыков по химии добивается инженерной позиции в крупной немецкой компании AEG. Где его и настигла судьба стать первооткрывателем судьбоносного для будущей мировой электроники способы выращивания кристаллов. А ещё – одного из самых любимых занятий, которым мне приходилось в своей профессиональной деятельности заниматься: растить эти самые кристаллы. Да, именно по знаменитому методу Чохральского – человека, ставшего для материаловедов-электронщиков почти иконой. Было это давно, когда жива была еще отечественная электроника. Но не будем о грустном. Попробуем как-то повеселей…
В общем так: растил детей, сады и кристаллы. С первыми двумя понятно – тянутся вверх. Наперекор гравитации. А к последним приспосабливаешься – вниз головой развиваются. Да еще крутятся – чтобы здоровья кристаллического прибыло. Чтоб без дефектов и всяческих бяк. Как дети. Разве что не прыгают и скачут. А так все то же самое: рост – в движении.
У тех – ссадины на коленях, сопли, прыщики… У этих – дислокации, двойники, дендриты и тоже … прыщики. Точечные, так сказать, дефекты. Приходится лечить. Но лучше – профилактика. Для первых – зарядка по утрам, обливание, проветривание. Короче – глаз да глаз. Для вторых – закупоренные комнаты, мелочность в расчетах, неподвижное нависание над лункой смотрового окна. И тут не без пригляда…
Из расплава вытягивается кристалл. Именно так – по Чохральскому. Похоже, капризничает: играет диаметром и злит – «поймал градус» и непредвиденно «худеет». Может «провалить» размер. Для опытного ростовика – почти оплеуха. +1240 чувствуешь нутром – без термопар, пирометров и проч. Как? Не спрашивай. Как настроение собственных детей – по громкости молчания или отблеску озорных глаз…
У меня впереди – сутки. Ровно столько растет 80-миллиметровая буля монокристаллического GaAs (арсенида галлия). Это – если с чисткой камеры, ее загрузкой, неотступным бдением возле смотрового окна, выращиванием, охлаждением и т.д. Ровно 24 часа длится детство, отрочество и юность «кристаллопотомства». Впереди – взрослая жизнь: сделаться чипом, схемой, светодиодом, лазером… Достичь приличных высот. Если повезет – космических. Но сначала – «пеленки» …
Наследственность – это затравка. Скажем так – материаловедческий ДНК. Что в затравке – то и у «детей». Яблоко – от яблони: черточки, черты, родимые отметины… На идеальный вариант надежд не много. Все равно юный кристалл нахватает структурных бацилл. Задача – их минимизировать. Скажем так, материаловедческая педагогика…
Вертящееся озерцо вязкой раскаленной гадости (несколько раз вырывало термопары – вонь чесночная, сладковатая, мышьяком: даром что ли пенсию в 50 дают…). Жар отсекается толстыми станками ростовой камеры. Блики – светофильтром. Расплав трепещет и ищет упорядочивания – как ребенок соску: к кому бы прильнуть и обрести покой?..
Важен момент касания затравкой. Как транспортного корабля с космической станцией – асимметрия масштабов аналогичная. Тут важно не убиться и не задушить росток в объятиях – нежно так поцеловать расплав изюминкой будущего кристалла. И зорко следить за последствиями свершившейся любви.
Она может быть разной. Бурной, с выкидыванием по сторонам угловатых дендритов – признак пересыщенных чувств и упрямых вожделений. Перспективы никакой – «бешеный» кристалл сплавляешь. Может, напротив, быть крайне целомудренной, никак не продвигающейся дальше поцелуев. Куда деваться – ждешь…
Рост кристаллов – это терпение. Не так ли с детьми? У них режутся зубы, и они предпочитают не спать до утра. И ты – с ними. Режется кристалл – и точно так же дремать приходится над ним стоя. У мальца опух палец – и ты не знаешь, чем сбить эту припухлость. По телу юного арсенида пошла аллергия («шуба», как мы ее зовем) – и ты всяческими заклинаниями пытаешься уговорить ее оставить кристаллического подростка в покое…
Вроде колыбели – кварц. Точнее – кварцевый тигель. В нем все и происходит: от зарождения – до выхода в свет. Кварц очень терпим: и к мышьяку, и к пельменям. Толерантность беспредельная: практически ни во что не вмешивается. Для нас это важно: лишний атом из колыбели к младенческому GaAs – беда. Нужным параметрам не сбыться.
Да и – аппетит какой? В ночные в кварцевых тиглях мы варим ароматный суп на всю бригаду. Это если тигель большой – двухсотмиллиметровый. Если поменьше – на 135 – завариваем чай. Впрочем, я предпочитает кофе. Чтобы не спать. Дети-то растут – тут глаз да глаз нужен…
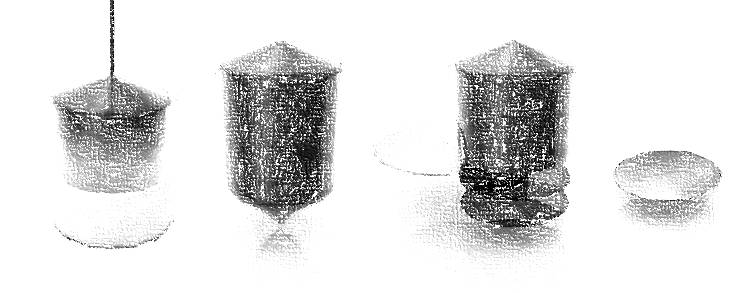
Сегодня львиная доля мировой электроники ваяется как раз на выращенных методом Чохральского кристаллах: кремния, германия, арсенида галлия, арсенида индия… Сам великий изобретатель не дождался триумфа своих главных технических находок – приложения метода роста кристаллов путем вытягивания из расплава к технологии получения только что изобретенных Бардиным, Шокли и Браттейном транзисторов. Хотя успел познать вкус и последствия ярких научных и иных творческих откровений в других ипостасях. Возносился на высокие университетские и бизнес посты и в Польше, и в Германии. Был накоротке с президентами обоих государств – Мосцицким и Гинденбургом. Желанен в качестве уникального спеца у таких магнатов, как Форд. Зарабатывал изобретениями. Скупал виллы и картины. Писал стихи и прозу.
В годы немецкой оккупации продолжал активно работать, умело лавировал, умудрившись даже открыть в Варшаве металловедческий институт. После войны был обвинен в пособничестве фашистам. Изгнан в Польше со всех постов. Попал под арест. После – отпущен. Продал варшавскую виллу. Отбыл на малую родину в Кцынь. Предан забвению. В ходе очередного обыска в 1953 году в своем доме скончался от инфаркта. В 2011-ом был полностью реабилитирован и провозглашен великим польским ученым и высоконравственным человеком – к этому времени были рассекречены многие документы времен минувшей войны, в коих пролился свет на важную роль профессора Яна Чохральского в деятельности польского Сопротивления. В науке же этот человек остался под единственно возможным для него именем – «предтеча современной электроники».
Физик-энергетик Владимир Федоров
Он был очень яркий – этот профессор Фёдоров. Наверное, потому, что много излучал: смелых идей, прорывных проектов. Брал научным обаянием, граничащим с религиозным фанатизмом. Покорял безбашенным оптимизмом, когда все готовы были завыть от сложности проблем. Крупный учёный-теплотехник. Сделал себе имя на сверхсекретных турбинах для атомного ВМФ. Доктор наук. Важная персона. А глаза – так и остались озорные, мальчишечьи. А в разговоре – всегда ироничен и добр. Энергетики, наверное, должны быть все такими – ярко-излучающими. Я, впрочем, в жизни встретил только одного – Владимира Алексеевича Фёдорова.

Мне кажется, мы симпатизировали друг другу. Нашей независимой калужской газете в конце 90-х были страшно интересны «незаплесневевшие» учёные. А «незаплесневевшему» теплофизику Фёдорову, очевидно – неказённый разговор по существу. О том, видимо, что его больше всего волновало в жизни, – о паровых турбинах. О них он знал практически всё. И даже – больше. И вот это «больше» как раз-то и распирало изобретательного и деятельного Фёдорова всю жизнь. Он мог научить турбину толкать подводную лодку, пыхтеть на каком-нибудь металлургическом комбинате, вертеться на электростанции, на атомном ледоколе. Но это для искушённого профессора была уже рутина. Фёдоров мечтал научить турбину вещи не совсем обычной. А именно – благотворительности. То бишь – выдавать бесплатную энергию. Скажем – электрический ток…
Короче – над ним смеялись. Кто называл чудаком, кто аферистом. Кто просто молча завидовал недюжинному таланту и энергии, способной превратить фантастику в быль. Владимир Фёдоров слушал всё это и шёл дальше – добывать бесхозный электроток. Идея была простая. В стране греют дома и воздух тысячи и тысячи котельных. Первая нужда – обогревать жильё – понятна. Вторая – греть небо и облака – нет. Но традиционная технология в ЖКХ подразумевает «мусорный» пар с котлов. Отходы калорий. Всё это хозяйство стравливают в небеса. А остатками тепла греют квартиры.
Фёдоров объявил войну этому расточительству. Со товарищи придумал, как посадить «на хвост» каждой котельной небольшой турбогенератор. Чтобы выкачивать из выбрасываемого пара дармовые киловатты света. Продавил где-то в верхах программу энергосбережения. Убедил, что бесплатный электроток лучше платного (а это было не всем очевидно). В своей маленькой калужской компании «Турбокон» наладил выпуск этих утилизаторов тепла. Опробовал на нескольких заводских котельных. Всё оправдалось. Заводы получили почти бесплатный свет. Фёдоров – признание пионера энергосбережения в турбоотрасли. А вот монополисты энергетики – опаснейшего конкурента и злейшего врага. «Карманная» энергетика, как впоследствии её нарекли уже на федеральном уровне, была обречена – российский энергетический монстр вмиг растоптал все наработки калужских ТЕПЛОхранителей. С помощью драконовских тарифов на вхождение в единую сеть. Дармовой киловатт нельзя было пускать по российским проводам – угроза державе…
Мне кажется, Фёдоров был по своей сути державник. Хотя – и вольнодумец. Державник – потому что изобретал турбины для атомных субмарин. Дело серьёзное. Вольнодумец – потому что додумался: кроме строительства ядерных подводных чудищ есть в мире и другие дела. И занялся ими. Всё равно держа в уме государственный интерес. Когда, например, в конце 90-х на родном его Калужском турбинном заводе правил бал «Сименс», Фёдоров кипятился и не находил себе места: «немцы под Москвой!» Его влиятельные «однополчане» по КТЗ между тем помалкивали: чёрт с ними – немцы, зато не потонем, без заказов не помрём – на дворе стоял постперестроечный, военно-промышленный голодомор.
Не опустил руки, когда разбомбили его программу энергосбережения в ЖКХ. Пошёл штурмовать гору ещё более неприступную – Газпром. Стал убеждать – теперь уже газового монополиста – что и здесь есть источник бесплатного электричества – при утилизации тепла от газовых турбин, что качают голубое топливо по главным магистралям державы. С десяток лет бился о неприступную стену могучих газовиков. Убеждал, что вот они – бросовые мегаватты: cтавь вслед газовой турбине паровую с генератором – и не отапливай больше даром земной шар.
«Газпром перекачивает газ в колоссальном количестве – 500 миллиардов кубометров в год, – пояснял в беседе со мной суть федоровской идеи многолетний его соратник д.т.н., профессор Олег Мильман. – При перекачке расходуется газ – на работу газотурбинных приводов. Они съедают до 9% от всего перекачиваемого по трубам голубого топлива. Фантастические цифры! Так вот, газовая турбина в процессе своей работы дает выхлоп. По аналогии, скажем, с обычным двигателем в автомобиле. В турбине он имеет температуру 400-500 градусов. И все уходит на ветер. Поэтому и возник вопрос: как бы этот выхлоп использовать?»
В начале 2000-х идею, наконец, в Газпроме удалось пробить. В кооперации с Калужским турбинным заводом и «Белэногромашем» на компрессорной станции «Чаплыгин» построили и запустили первую теплоутилизационную установку мощностью 500 кВт. В год, как показывали расчеты Газпрома, она приносила 10-миллионный экономический эффект. «В случае тиражирования федоровской идеи в масштабах страны можно было бы вполне создать до 5 млн КВт электрогенерирующей мощности. Это порядка 2,5-3 % электроэнергии страны», – уверен профессор Мильман.
Действительно, Фёдоров точно знал, что делать с каждым милиграммом пара. Любого: горячего, супергорячего, тёплого и даже холодного. Мог добыть энергию из всего. Мне кажется – даже изо льда, доведись ему как следует покумекать и над этой субстанцией. Вообще-то именно пар и познакомил меня с Фёдоровым. Именно – холодный пар. Один местный знаток притащил в нашу газету сенсационный материал, разоблачающий изобретение профессора Фёдорова, – гидропаровую турбину. Этакий агрегат, способный выуживать даром пропадающие калории в почти холодном паре. «Блеф!» – заканчивал свой комментарий турбинист-оппонент. И в ещё более сочных выражениях проклинал автора идеи.
Опубликованная нами отповедь попала на стол Фёдорова. Через некоторое время кто-то из его подчинённых позвонил в редакцию и намекнул: пахнет судебным иском о защите деловой репутации. Никакого иска не последовало. Вдруг Фёдоров позвонил сам. И рассмеялся. Мне захотелось узнать – чему. Я напросился в гости. Фёдоров не отказал. Так мы и познакомились. Это был фейерверк. С тех пор меня не покидало чувство, которое, очевидно, испытывает старатель, чудом набредший в тайге на килограммовый слиток золота.
Свой слиток Владимир Алексеевич так и не увидел. Хотя и разыскал. И все поняли: да, Фёдоров открыл настоящую жилу. Энергетическую. Всё тот же Газпром в 2013 году, через полтора десятка лет после того как впервые выслушал «сумасшедшие» идеи Фёдорова, признал-таки, что это лучшие инновационные разработки в стране. И присудил им первую премию. Владимир Алексеевич не дожил до неё всего две недели. Выработавшее весь энергетический ресурс сердце остановилось. Фёдорову было 58 лет.
Академик Александр Лейпунский
Александр Ильич Лейпунский – создатель энергетики XXI века. А может – XXII. Мыслил осветить и обогреть всю планету. Начинал с берегов маленькой Протвы. Где в конце 40-х прошлого века был заложен ядерный Обнинск.
Что же, собственно, такое – этот самый Обнинск? Первая АЭС? Бородатые физики? Секретные стенды? Колючая проволока? Суровый КГБ? Спецснабжение? В итоге – наукоград?
Нет, суть обнинского феномена не в этом. Таких «наукоградов» Берия в свое время понасажал по стране десятки штук. Чтоб строили атомную бомбу. Или – то, что её способно перебросить через океан. Суть обнинского феномена в ином. Она – в конкретном человеке…

