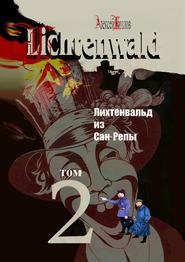
Полная версия:
Лихтенвальд из Сан-Репы. Роман. Том 2
Оказалось, что иностранец по имени Джон Кит Алимайна Сааведра Гундопиндоз в Сан Репе находится проездом с научными целями, изучает славянскую культуру и языческие корни частных христианских ересей. С ним в группе находятся его переводчик и секретарь. Ведя переговоры с заведующей, вихрастый толстяк умудрился откусить половину журнала, лежавшего здесь же на стойке, но жульнические фокусы ушлую бабу не тронули. Зелёная бумажка растопила железное её сердце гораздо быстрее. Затем гость уединился в номере, сидел там тихо часов до шести, а потом отправился, переодевшись в белый парадный костюм в близлежащий игорный дом, расцвеченный дикими компьютерными огнями и завлекательными вывесками непристойного характера. В зале было довольно много людей, и Гитболан с порога обвёл увлечённую публику прищуренным, пытливым взором. Так в революционной России великий В. И. Ленин осматривал вшивую публику с крыши ржавого броневика.
– Нерон, скажи мне, Нерон, что это за публика собирается здесь? Они не производят впечатления отчаявшихся бедняков, ответь мне, как эти люди составили своё состояние, которое теперь они столь ревностно просаживают в рулетку и Пепе, они разбогатели, я надеюсь, вполне честными путями?
Нерон же на прямой вопрос отвечать не стал, а понёс какую-то туманную нострадамусовскую ахинею:
– Причина торопливости такой – твоя измена. Из-под ног уходит, теряет грунт свою надёжность, крепость и рушится всё то, что было камнем. Всё рушится. Железо, ставши сталью, обращено в желе! Об этом говорить – травмировать болезненные раны, что политы поташем без того. Правленье горбунов и проходимцев, где всякий инородец – князь в короне! Какая гадость – эти инородцы! А что ты хочешь? Зыбко! Зябко! Сиро! Правление пигмеев вороватых, плешивых горбунов, засилье мертвецов в цареньи – худших, упадок слабых, да, мой мозг плачевен. Завет кривых зеркал, где платно отраженье… Снеси их всех и жалости не знай!
– Ты этой песней грусть перетоскливил! – подмазался к Нерону Кропоткин, пытаясь доказать, что, да, и мы не лыком-с шиты, с Шекспиром знакомы, и кое-что мы знаем и без вас.
– Что вы мессир, они сами не знают источников своего богатства, грабёж на большой дороге – ничто в сравнении с путями приобретения их богатств. Никакой речи об изготовлении булавок и сооружении цветочных клумб на шляпах здесь нет! Не выращивают они и хлеб, многие из них полагают, что булки растут на кустах и древах. Они просто ловкие воры! Жлобы! Воровские нувориши – я могу их определить только так и никак иначе!
– Угу! Мне всё ясно! И что же, ни один из них никогда не задавался вопросом о смысле своей жизни? Не был измучен нечистой совестью? Не вспоминал в страшных снах ограбленных им?
– Что вы, мессир, все они спят очень хорошо, ручаюсь вам! Я сплю хуже! Я больше думаю об их грехах! Я всё больше и больше каюсь, и каждые пять минут наведываюсь к священнику в мокрых штанах!
Рыжий клоун состроил уморительную горестную рожу, сморщил рот гузкой, но глаз его горел сумасшедшим весельем.
– Ладно тебе, киник! Не юродствуй! Я буду наказывать юродствующих и сомневающихся, как это делал великий Франциск! Помнишь такого? Как он убеждал колеблющихся и склонял страждущих? О-о-о! Нет слов! Глумления над святынями христиан я не позволю! Никогда! Понял? Помнишь, как он рассмешил меня своими разговорами с птицами? Чудак!
– Конечно, помню! Вы славно тогда повеселились, выдавая себя то за кречета, то за жаворонка, я помню! Он принимал всё за чистую монету, пока вы не пукнули, как шахский верблюд и не расхохотались! Тогда он стал махать кулаками и проклинать всех подряд…
Тут Нерон увидел неподалёку от себя смазливую бабёшку и округлил глаза.
– Ну, начинается! – увидев это, сказал Кропоткин, – Сейчас клеить начнёт.
– У этой женщины так много стигматов на теле, что я останавливаюсь в нерешительности, куда податься, ох, миссис Мапл! – взорвался Нерон, не обращая никакого внимания на иронические замечания собрата, – Таких прецедентов ещё не было за всю мою грешную жизнь. Было по всякому, но так никогда, я влюблён! Уши вянут, щёки горят, руки дрожат, и я сам вяленый, как треска. Нет-нет, я знаю симптомы этой болезни. Я влюблён! Как я хочу жениться, хотя бы не надолго! Хотя бы на одну ночь. Но я не богат, чёрт подери! На какие шиши я буду вскармливать это оригинальное создание природы, холить эти изумительные стигматы, нежить эти штуковины? Это мне не по карману, чёрт возьми! Не дай бог, противоречия разорвут меня на части, не дай Бог! Жениться на женщине, считая её человеком, это пик моей жизни! Кроп, ты будешь шафером на нашей свадьбе?
– В кого ты влюблён, Нерон, в кого?
– О, это чудесное создание! Яркие, добрые глаза! Золотое сердце! Заботливые руки! Грудь амазонки! О-о-о! Я столкнулся с ней на перекрёстке между столами! Что она делает в этом злачном месте? Я уже ревную! Если бы я смог спросить, где она живёт, я бы точно с ней познакомился! А пока мы разошлись, как барки в океане! Но мы точно встретимся! Жди меня, Ассоль!
– Голубые глаза! Золотое сердце? Братец – это же расхожие штампы, не имеющие никакого отношения к жизни! Тебя обманут! Ассоль! Буссоль! Раздутый самомнением льежский прыщ! Начитался арабских сказок… Руки, как грабли! Пупок, вмещающий унцию орехового скипидара! Тьфу на тебя! – сказал Кропоткин, – Твоё чистое, непорочное создание торчит тут каждый божий день и караулит клиентов, как акула креветок! Если у тебя есть деньги, ты ещё можешь догнать эту барку, и она поплывёт туда, куда поплывут твои денежки!
– Ты – негодяй! Не пытайся опорочить публично мою Дульцинею, у тебя этого не получиться! Или.. не очень получится! Сравнения хромают! Ты слишком много знаешь! Откуда у тебя скверная привычка гасить самые высокие мысли твоих друзей? Придётся устроить на тебя покушение! А теперь, за дело, желудок, ты уже урчишь! Интересно, что нам принесут! Я проголодался, как тысяча арктических волков!
Усевшись за низеньким столиком, Гитболан с неудовольствием попытался засунуть ноги куда-нибудь подальше, но у него это не получилось, столик был для солидного джентльмена маловат.
– Офицьянт! Офицьянт! Виайпи, ти чито, не видьишь? – раздражённо и требовательно крикнул Нерон, громко постучал хрустальной солонкой по столу, привлекая к себе взгляды присутствующих, – Мне рыбий жир с тоником! И два эрзацгитлербургера сорок второго года с вялеными крымскими сомами! Ясно!
Он подпёр голову рукой и сидел в позе Чехова, нагрянувшего к Толстому на варенье. Салфетку он уже загодя вставил в воротник и в маленькое зеркало оценивал, как его рожа выглядит со стороны.
Рожа была небритая и не очень свежая. Монокль упал у него вместе с глазом и повис прямо на гульфике. Поймав лапой непослушный глаз, он тут же запихнул его в пустую глазницу.
– Салат из куриных мозгов и две сардельки потолще! Когда б имел златые горы и реки, полные вина… – вторил баском вежливый да омерзения Кропоткин.
Вялый, навсегда утомлённый официант появился с книжкой, выложил её на стол и стал пытливо рассматривать свои женские ногти.
Гитболан холодно огляделся и наткнулся на странный взгляд с соседнего столика.
Гитболан стал придирчиво изучать предоставленное меню.
– Это кто, такие, за пи-пи-пи-жо-ны? – обернулся уголовного вида человек с валиком на шее, развалившийся за столиком напротив, – Им что, здесь нэ нравыця? Что им здесь? Я им кто? А? Я в законе!
Когда его благоразумная, как оказалось, дама попыталась остановить его поползновения, он с воплем отшвырнул её руку, и стал угрюмо подыматься на две ноги, как маленький Кинг-Конг с волосатой грудью.
– Товарищ, спокойно! Не надо эксцессов в бельэтаже! – испуганно заверещал народоволец, разворачивая рот веером, – мы не хотим скандалов! Не надо нервничать! Да-да—да—да-да! Прошу вас! Ради вашего призрачного Иисуса и нашей безусловной репутации! Ну прошу вас!
Последнюю фразу он произнёс почти страстно голосом известной артистки Раневской, которая, как известно, любила крепкую шутку.
– В бытность мою пресвитером Галлоуэйской церкви в Англии в 16 веке мне пришлось много раз проводить досуг в придорожных тавернах Средней Англии и воспоминание об этих посещениях и сейчас наполняет мой рот слюной. Как это было вкусно, не помню точно что, но по моему, там всё было вкусно. Интересно, чем наполнится мой рот здесь? Нерон, что ты думаешь по этому поводу? Там тоже было много всякой шпаны, к примеру эти парни из Шервудского лесного массива. Помнишь восхитительную потасовку, в которой мне пришлось таки поучаствовать, несмотря на всю мою нелюбовь к подобным занятиям! Я вырвал у Робин Гуда бакенбарды и утопил его в бочке превосходного эля. Но внимание! Кажется, на нас движется нежданная туча! И она готова пролиться животворным весенним дождём! Тю!
– Ничего нас хорошего здесь не ждёт, уж поверьте мне! Смерть в мучениях и желудочные колики, мессир! Твёрдый понос и жидкий запор – вот что нас здесь ожидает, вот что! Капельница нас ждёт! Кровать с продавленным основанием и вонючим матрасом! Вот что нас ожидает! Мама! Мама! Я вижу такие заведения насквозь! Когда всё это начиналось, то казалось, что естественная конкуренция заставит их поглубже запрятать своё вековое хамство, но не тут-то было, теперь всё почти по-прежнему – официантов опять надо ждать часами, могут и нахамить, между нами говоря. Могут, черти! Полагаю, что сегодня нам отобедать не дадут! Драгоценную валюту можно спрятать в гульфик! Даже «Челюскин» не спасли! И за деньги здесь ничего не купишь! Мама! Увези меня отсюда!
– Да что ты говоришь, Нерон? Нахамить? Могут нахамить? В этом храме игры в Пепе и рулетку? Да не может того быть? Никогда больше не огорчай меня так! У меня старое, разбитое людскими подлянками сердце, оно может не выдержать! Слышишь, как оно стучит? Слышишь? И это всё из-за тебя!
Лицо Гитболана на секунду попыталось стать жалобным.
Пьяный посетитель продолжал двигаться к Гитболановскому столу, супил брови и двигал обезьяньими желваками.
– То-то-то-то-варищ! То-товарищ! Не надо! Иностранец при исполне-не-не… – пионерским голоском заверещал задроченный каторгой народоволец, выпустил изо рта кучу разноцветных мыльных пузырей и, трусливо подвывая, полез под стол.
– Я те… Эт-то чо за… – завопил наступавший агрессор, – А? Я не по?
– Господа филантропы и питекантропы! Как не упасть в двухметровый приямок на абсолютно чёрной улице? – Этот вопрос Нерона был уже обращён не только к неисправимому наглецу, но и к публике, замершей в ожидании новых развлечения за столиками. И ответа никто не услышал.
– Давай другую сцену! Заведи
Волынку мира! Вздуй Полишинеля
За то, что он набит гнилой соломой,
Тряпьём и ватой, как гнилой матрас,
А впрочем, вот он – ожидает нас! – громким голосом чревовещал Нерон, предчувствуя невиданное развлечение и указуя пальцем на человека в законе, – Так ты не клоун, а комедиант! Большая разница, скажу вам по секрету! Сто тысяч извинений, но за это я накажу его! Дозволь дерзнуть, сержант! Надеюсь, что здесь нет беременных женщин и пенсионеров персонального значения? Я не люблю убивать нищих и сирот!
И он заплакал, вытираясь скатертью и ладонью.
– Ты любишь смотреть вести из зооуголка? – деликатно наклонился к уху Нерона народоволец.
– Нет! Я путаю там людей с животными!
– Ах, проказник! Дефлоратор зоосада! А я люблю! Не может существовать креста без вертикальной и горизонтальных перекладин. Смотри! Смотри, пока не лопнут очи! Такого ты давно не видел! Такого мы не видели давно! Здесь собрались отпетые пираты в одеждах правильных! Ужо их застебать!
С диким рыком пьяный бандит, а по совместительству вор в законе, всё-таки ухватил за ногу хрустальной вазы со стола, и размахнулся, дабы опустить её на голову важного нахала. Как вдруг прежде донельзя перепуганный народоволец свирепым и невидимым глазу движением выбросил вперёд и погрузил вытянувшуюся метра на четыре резиновую руку в живот нахала. Раздался щелчок отрывающихся пуговиц, треск рвущейся материи, а потом что-то полужидкое веером полетело вверх. Когда фиолетовые кишки повисли на католической люстре, пьяный человек ещё секунду стоял с победительно подъятой рукой, держа преходящий кубок и удивлённо озираясь, а потом рухнул в бассейн с золотыми рыбками, подняв девятый вал розовой жижи и прощально шарахнув драгоценной вазой в зеркало, которое тут же обвалилось.
Все в зале только ахнули.
– Он умер от зависти! – прошипел Кропоткин, – Годы жизни: 1970—2023. Спи тихим сном, прищепа! Да святится имя твое, дуремар ёханый!
И все бросились врассыпную.
– А теперь – все брысь! Брысь! Я говорю – брыссь! – фальцетом возопил рыжий толстяк. Волосы поднялись на его голове дыбом, ручки поджались, как у разозлённого суслика и дикий вихорь подхватил из-за столиков находящихся в зале, мужчин и дам безо всякого разбора, завертел винтом и в мгновение ока страшным ударом выбросил из здания сквозь кессонированный плафон на потолке. Мириады разноцветных стеклянных брызг и алюминиевые конструкции обрушились на пол вместе с обрывками одежды. Через секунду зал был пуст и от неизвестно куда подевавшихся служек.
– Мессир! Простите меня! Я думал вот о чём… Хамство – слишком неискоренимое свойство человеческой природы, чтобы его можно было предвидеть и произвести на него превентивную атаку. Придёо-о-отся мне уйти неутолёо-о-о-онным! – спел Кропоткин напоследок, – Шеф! Я всё хочу научиться цыплят табака из огнемёта опаливать! Можно попробовать?
– Вы фантазёр, Фелицио! Не надо! Достаточно того, что есть уже!! Капкан возьмите или меч со склада и бейте всех с сомнением в душе! Я ухожу! Непричащён! Несчастлив! Одинок!
Гитболан поднялся первым и, не обращая внимания на вой и крики за своей спиной, медленно покинул помещение. Остальных там уже не было.
Была вызвана милиция. Завыли сирены, зазвонили телефоны, полетели заинтересованные люди в формах, из кровати вытащили крайне раздражённого товарища Плепорциева, полковника, снимали отпечатки пальцев с забытой в кабаке трости, солонки и даже с кишок, ноу-хау последнего времени. Увидели жуткую картину. Бросились составлять акт и тут же, не сходя с места, многое выяснили. Впрочем, никто и не скрывался.
Метрдотель указал на соседнюю гостиницу, куда ушли три джентльмена, заведующая быстро нашла запись в книге приезжающих, горничная сообщила, что все с вечера находятся в номере.
А чего ещё больше нужно?
Итак, компания Гитболановских ухарей бесшумно покинула растерзанный игорный дом и всплыла около уже знакомой нам гостиницы и проследовала снова в свой номер, где, по всей видимости, сразу же улеглась спать. Их раскрытой настежь двери доносился сильный храп и сопение, так что сомнений насчёт занятий преступной, и уже было совершенно понятно, террористической группы, не осталось никаких.
Глава 7. Короткая
Денег было мало, а те, какие были в его распоряжении, всё время норовили высыпаться из порепанного портмоне на землю. Алекс находил это дурным предзнаменованием, но деньги методично подбирал, аккуратно раскладыва их в кармашки портмоне. Немцу легче воевать и покорять мир силой оружия, чем шкурничать в лавке из-за медяков! Предзнаменований за последний год было столь много, что Алекс потерял им счёт.
Глава 8. В нумерах
В соседнем номере по радио пели двое мальцов. Такие голоса получаются, если в детстве несколько лет кряду яйца к люстре привязывать домотканым лыком. Такие голоса, разумеется, не столь же восхитительны, как хрустальный голос Робертино Лоретти, но не менее пронзительны. Голосок тогда тонкий, извилистый, витиеватый, ломкий, нежный, детский. Вот так он и пел мне в ухо, скотина! А другой пел сиплым басом. Голос, плопитой исё до лоздества хлистова. В таверне «Ослиная Челюсть» грохотал джаз. Не Сблызновская симуляция, какой обучают студентов в музыкальных училищах, а настоящий грязный чёрный джаз, с потом, сигарами и запахом кофе.
Тут другой метод тренировки. Пить, пить, пить, пить для повышения бархатистости и удаления несвойственных баритону пёсьих модуляций. Покорив заветную вершину, пить ещё больше, чтобы закрепить и укоренить уже обретшую уверенность бархатистость. Стоять на вершине, зацепившись альпенштоком за облака и упёршись кроссовками в горизонт. В конце концов, когда от бархатистости не останется и следа, пить просто от горя, от беды неизбывной, от воспоминания, что в юности плохо тренировался и много бархатистости всуе упустил. Что не на то растратил драгоценное время. Но никогда не сдаваться! Вера, Надежда, Любовь! Основные лозунги.
Они пели вдвоем, как опущенные и осквернённые боги, диатоническими кластерами блистали, взмывали переливами, козлы. Как Хорь и Калиныч, как дед Мазай и Членин, как Трахнутый Заяц и Смоляное Чучелко.
А Гитболан между тем продолжал читать прописи, не обращая внимания ни на что вокруг. Единственное, что от него услышали, было мимолётное замечание:
– О, этот текст посвящён, кажется, армии и потому особенно интересен в свете событий, которые на нас, мои друзья, надвигаются! Грядёт битва народов. Искусство воевать – не менее великое и не менее высокое искусство, чем искусство жить в мире! Ого-го!
То, с какой скоростью Гитболан читал довольно протяжённый текст, могло бы удивить любого – страницы переворачивались сами собой, уже прочитанные, хотя он не успевал, казалось, и глазом моргнуть:
Глава 9. Походы и триумфы Божественного Цезаря
В эмалированном тазу
Службу верную несу!
ЭпиграфОбъявлять переход на летнюю форму одежды являлось насущнейшей необходимостью государства. В былые времена некий генерал Хват в Энской части был обойдён этим приказом. То ли приказ потерялся в дороге, то ли телефонистка что-то перепутала, да только генерал не только сам всё лето ходил в армейском тулупе, х-б, валенках и в конце концов получил удар, паралич и смерть, но ещё солдат заставил следовать своему примеру. В результате 17 человек угорели, 270 запаршивели как-то особо, а 9 убежало, не выдержав тягот воинской службы, в комитет под юбку к сердобольным солдатским матерям. Обнаружили приказ глубокой осенью, когда над подмосковными болотами хлестали непрерывные дожди. Будучи верен уставу, генерал Хват и тут был на острие законо-послушания – к зиме его солдаты ходили в подштанниках, и несколько человек замёрзло на посту.
Я это говорю к тому, что пришло наконец время и родине послужить, капитанов посмешить. Учёба в институте, встав наконец на накатанные рельсы, двигалась потихоньку к концу, диплом выдвигался, занятий на военной кафедре становилось всё больше. То ли год был высокостный. То ли ещё что, только в один прекрасный день всю разодетую в зелёные мешки публику с военной кафедры собрали в одном строю, и полковник Манциули громовым голосом объявил о том, что разнарядка прошлых времён более недействительна. В этом году будет сверхпризыв, если раньше брали в армию пять человек, то в этом году, не обессудьте, господа архитекторы, будут брать все сорок, а может быть и всех сразу, такова обстановка на фронтах борьбы с мировым агрессором.
Мне было выдано предписание, согласно которому я должен был в положенный срок появиться в Нусекве в министерстве с тем, чтобы следовать далее по команде. Меня, конечно, удивило, что я должен там появиться в воскресенье, а выехать отсюда в субботу. Ну, всякое бывает – успокаивал я себя, может там какие-нибудь командно – штабные учения устраиваются, да и армии – по фигу, что воскресенье, что среда. Я рассудил, что рубежи любимой родины и её знаменитые закрома надо всегда на замке держать, чтоб никто не узнал, что они пусты.
Вечером родители проводили меня на поезд, и я отбыл в довольно тягостном настроении. Успокаивал я себя, а зря. Высадившись на перроне Кулаковского вокзала, я спустился в метро, и минут через пять прибыл куда следует, уже окончательно проснувшимся и готовым к бою воином. У высокого казённого забора уже паслись волонтёры. Они-то и сообщили пренеприятное известие о том, что нас здесь никто не ждал, потому что произошла досадная накладка – число прибытия написали от фонаря, само собой разумеется, в воскресенье, летом нас никто не ждал. Дежурный офицер вышел и сказал приходить завтра. Послышалось возмущённое повизгивание: «Где же это мы ночевать будем?», на что офицер пожал плечами и ушёл к себе, не вдаваясь в подробности. Вместе с сокурсником, долговязым кудрявым парнем, оказавшимся большим любителем живой природы, мы поехали на Птичий рынок и бродили там до вечера, ничего не собираясь покупать, рассматривая птичек, рыбок, обезьян и собак. Потом он отправился к знакомым, а я, не взявший с собой ни одного адреса, где можно было бы остановиться, остался посреди вечеревшей Нусеквы. Зажглись золотые фонари на площади и она, как ни странно, стала уютной.
Искать, где переночевать, у меня уже не было сил. Поблизости располагался аэропорт, и я пошёл внутрь довольно большого и унылого ангара с длинными рядами пластмассовых стульев. Посидев так часа два и чувствуя непреодолимое желание спать, я несколько раз пытался распластаться на трёх стульях, но через каждые двадцать минут в зал забегал мент и зычным голосом оповещал всех, что здесь спать не полагается. Пришлось подниматься. К утру это издевательство стало нестерпимым и кляня себя за самонадеянное решение переночевать в аэропорту, я вышел на воздух. Метро уже функционировало. Чтобы не замёрзнуть, я нырнул в него и отправился туда же, откуда вчера ушёл, не солоно хлебавши.
Набрав порядочную толпу будущих офицеров, нас запустили внутрь парадной комнаты, где довольно быстро раскидали по точкам, и я узнал, что местом моей службы будет дальний пригород Нусеквы с названием Солнечное Болото. Потом нас посадили в совершенно раздолбанный автобус и повезли к месту назначения.
Пропетляв часа полтора по бетонным дорогам среди елового леса, мы въехали в это самое Солнечное Болото, которое, как оказалось, не было окончательным пунктом нашего назначения. Здесь, в затхлом помещении штаба у нас приняли присягу, заставив одного за другим прочитать стандартный текст, и полковник, похожий на дьячка заставил расписаться в ведомости. Никакой торжественности не было и в помине.
Честно говоря, к восьми утра я уже весьма слабо соображал головой, глаза мои сами собой закрывались, зевки размером с Гибралтар потрясали мой рот. Бессонная ночь не прошла зря. Короче говоря, когда мы опять вползли в наш раздолбанный автобус и снова тронулись в путь, я сразу же заснул и был пробужден каким-то товарищем по несчастью, который тряс меня за плечо со словами: «Лейтенант, подъём!»
Мы въехали на огромную просеку, заставленную здоровенными обшарпанными бараками. Всё пространство было разделено по какому-то ускользнувшему от меня закону заборами, украшенными поверху колючей проволокой. Кое-где на заборах прослеживались попытки покрасить их зелёной и охристой краской. Автобус подкатил к зданию Начальника работ и остановился. Я подхватил чемодан затёкшей рукой и пошёл вдоль забора. В свою часть я вошёл через заднее кельецо, как раз в тот момент, когда окончился развод и хвост строя военных строителей ещё несколько секунд маячил в казённых воротах части.
Я огляделся. Господи! Вот здесь мне и предстояло провести два года жизни. Стоя с зачехлённым чемоданом на выметенном асфальте около вонючего колеса автобуса, я наконец осознал, куда попал.
Серый забор ограничивал территорию с одной стороны, отделяя её от точно такой же территории по другую его сторону. Невзрачные, выкрашенные в пожухлую, жёлтую краску четыре барака стояли в ряд, один поперёк. Судя по специфическому запаху это и была солдатская столовая. Бараки были такие древние, что от фанерной обшивки кое-где ничего не осталось, и из дыр вылезла минеральная вата. Как оказалось, зимой в этих казармах было столь холодно, что солдаты укрывались, кто чем мог – тряпьём, старыми ватными матрасами. Скрывшиеся из казармы в разного рода каптёрки и вагончики поистине могли считать себя счастливчиками судьбы, ибо были согреты теплом буржуек.
За штабом кренился ржавый чан на заклёпках. Вот уже несколько десятилетий в нём кисла трофейная автомобильная шина. Ещё там на вечных подпорках догнивали остовы каких-то машин.
Зайдя в первую попавшуюся роту, и миновав сонного дневального, я увидел бесконечные ряды старых двухъярусных кроватей, заправленных выцветшими байковыми одеялами. Кровати кишели вшами и я отшатнулся от них.
Изнутри содержимое казармы выглядело приблизительно так: прямо перед входом, рядом с тумбочкой стоял всегдашний изогнувшийся солдат, который при входе офицера начинал кривляться и демонстрировать преданность. Он должен был также выкрикнуть приветствие, на жаргоне это называлось – кукарекать. Обычно на тумбочке стояли самые маломерные и забитые представители солдатского сословия. Человек, не лишённый человеколюбия, при виде таких существ, не мог не испытать острую человеческую жалость и сострадание. В тумбочке рядом с дневальным по слухам хранился журнал вечерних поверок. Журнал представлял собой коленкоровую тетрадь, мятую и засаленную до такой степени, что показывать её посторонним было делом совершенно немыслимым. Поэтому при посещении казармы каким-нибудь важным начальником в ночь перед посещением сажали солдата каллиграфически переписывать его. В другое время журнал был исчёркан вдоль и поперёк разными чернилами, изобиловал поправками фамилий, какими-то указующими стрелками, вычёркиваниями, и разобраться в его китайской грамоте посвящённому было очень трудно, а непосвящённому – невозможно. Присутствие дневального в роте, впрочем, не обеспечивало никакого порядка, и было скорее фикцией, чем насущной необходимостью. Мой добрый Миша из четвёртой роты в частной беседе рассказал об эксперименте, который он проводил над своими дневальными. Помятуя о том, что эксперименты над живыми людьми являются делом бесчеловечным, я всё-таки не могу удержаться от того, чтобы не довести до читателя об их результатах.



