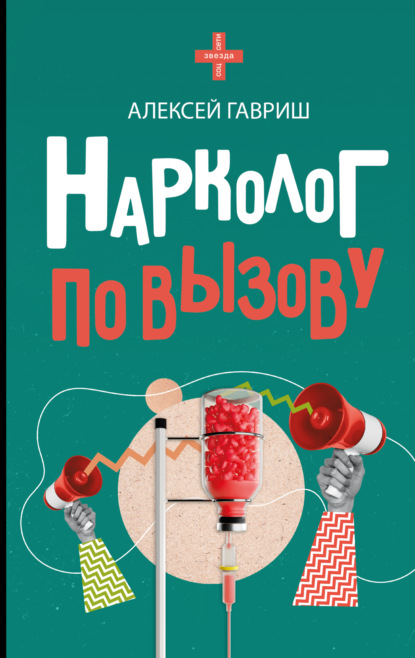
Полная версия:
Нарколог по вызову
Проведя ритуал диагностики, я обычно перехожу к «разводу», то есть к обсуждению с родственниками или же с самим пациентом того, в каком объеме и за какую сумму я буду оказывать услугу, всегда рекомендуя и настаивая на самом дорогом варианте. Большинство соглашается, кто-то же торгуется, давит на жалость, приводит объективные доводы, тогда приходится работать за тот или иной средний чек.
Исполняя весь цирковой номер, ты должен не забывать о самом главном.
– О чем?
– О пациенте! О чем же еще? У тебя же в руках его жизнь, как минимум, нужно не угробить ее. Какой самый главный принцип в медицине?
– Не навреди.
– Естественно. Но еще до него?
– Какой?
– От себя.
– От себя?
– От себя. Если есть хоть малейший шанс переложить ответственность за пациента – сделай это, а потом уже – не навреди. Когда диспетчер предлагает тебе вызов, то твоя первоочередная задача – это слиться, лучше на этапе телефонного разговора или уже по прибытии на адрес. Сделать все для этого. Только тогда, когда не осталось вариантов переложить ответственность на другого специалиста, только тогда можно взять пациента на себя.
– А как тогда зарабатывать, если стараешься отказаться от любой работы? Это же противоречит всему сказанному выше.
– Не спеши, а то успеешь. Работы хватит на всех, а вот ввязываться в сомнительные авантюры с непредсказуемым финалом – затея так себе, потому идем от обратного. Для себя я выделил четыре критерия, которые стараюсь соблюдать, и если пациент не соответствует какому-либо из них – то надо сливаться. Под любым предлогом. Первое – это личная безопасность. Второе – согласие пациента на лечение. Третье – оценка соматического состояния. Четвертое – сопутствующая психическая патология.
На самом деле, все просто: когда ты помогаешь вылечить человеку похмелье, ты оказываешь симптоматийную помощь, с ней справится любой фельдшер. Запрос от пациента ситуативен. Твои действия понятны. Болит голова – вот таблетка от головы. Болит нога – вот таблетка от боли в ноге. Скорая помощь на минималках.
Когда-то давно я работал врачом-психиатром в составе специализированной бригады скорой помощи. Каждое дежурство было для меня стрессом, но меня успокоил коллега, который емко и кратко описал всю суть нашей работы: «Фокусников в цирке видел? Здесь то же самое: ты стоишь на арене и достаешь из шляпы кроликов за уши. Раз кролик, два кролик, три кролик… и тебе уже надоело, но ты продолжаешь доставать злосчастных кроликов, в очередной раз засовываешь руку в шляпу, нащупываешь уши, вытаскиваешь – а это чудовище».
Это самое точное определение работы в психиатрии в целом, а не только ургентного[6] ее звена. Никогда не знаешь – будет чудовище или очередной безобидный и понятный кролик.
И знаешь, лучше, чтобы всегда были только кролики, но смею предположить, что за время наших покатушек и чудовищ будет достаточно. Возможно, у тебя сложится другое видение, но пока так. Пока все понятно?
– Да. Сегодня оба вызова были с капельницами. Других не бывает?
– Почему же? Бывают. Противорецидивные процедуры на дому. Так называемые подшивки и кодировки, но их мало. Основной поток пациентов – это инфузионная терапия[7] для купирования симптомов абстиненции, вызванной употреблением алкоголя.
– И это все? Ездим только к алкоголикам? А как же наркоманы?
– Законы в нашей стране не всегда постижимы и логичны. Оказывать медицинскую помощь наркозависимым имеют право только государственные учреждения. В частном порядке лечить наркомана незаконно.
– В каждой газете реклама частных клиник, предлагающих лечение для наркоманов. Что-то не сходится.
– Все лечат наркоманов. Делать это можно по-разному. Например, занимаясь подлогом диагнозов и медицинской документации. Что употреблял человек, не так важно, по истории болезни он будет проходить как алкоголик, так обычно делают небольшие клиники. Те же, что побольше, формально являются подразделением какого-нибудь учреждения Минздрава. Так или иначе, основной контингент имеет проблемы с алкоголем. Запросов на лечение зависимостей от запрещенных веществ процентов десять, не больше. И лучше без наркоманов.
К моему удивлению, Кеша внимательно слушал. Казалось, что ему приходится себя сдерживать, чтобы не достать конспект и начать записывать. Это льстило. Но вызовов не давали, а время было достаточно позднее.
– Давай я тебя все же отправлю домой. Продолжим в следующий раз.
– Может, я приглашу вас к себе? Пока не дали следующий вызов. Мы совсем рядом с моим домом. Заодно и со своей девушкой познакомлю.
– Пожалуй, я соглашусь. Как зовут девушку?
– Марина.
Они снимали студию в огромном новом доме, сплошь состоящем из таких же небольших клетушек. Мрачное место. Марина встретила нас у лифта. Милая девушка в очках с толстенными стеклами и следами пирсинга на лице.
Когда я ее только увидел, у меня промелькнула страшная и банальная мысль: «Обалдеть, да она же зависимая!» Это была короткая мысль, к тому же ничем не обоснованная.
Мы прошли по длинному коридору и, наконец, оказались внутри. Чисто и слишком обычно, как в Икее[8]. Никаких посторонних запахов, только какой-то освежитель воздуха из ближайшего супермаркета, что только усиливало ощущение обыденности до такой степени, что становилось тошно. Кеша с Мариной усадили меня на барный стул, и, пока я скучал, принялись суетиться у стены, выполнявшую роль кухни, собирать на стол чай, кофе и какие-то сладости.
Один из побочных эффектов профессии психиатра, особенно когда становится предельно скучно, – это что ты непроизвольно анализируешь всех людей, с которыми сталкиваешься дольше чем на пару минут и навешиваешь на них ярлыки. Это не обязательно клинические диагнозы, но это некоторые отличительные черты психики, характеризующие того или иного человека.
Я наблюдал за этой парой. Естественно, я навесил ярлыки на обоих. Кешу для себя я обозначил как отвратительно правильного, слишком уж нормального человека. До такой степени, когда можно говорить «простота хуже воровства». Но все же что-то в его манерах не давало мне покоя. Наблюдая за ним дома, где он чувствовал себя в безопасности и комфорте, казалось, что есть в нем какой-то изъян, который не удавалось мне с ходу объяснить. Хотя скорее всего, это я себе надумал от скуки.
На Марину же мне никак не удавалось навесить никакого ярлыка. Даже примитивно-бытового, вроде «бульварная хабалка», или «серая мышь», или «зануда-ботаник», или «школьная принцесса». Что-то она никак не вписывалась у меня в простые шаблоны, что, в определенной степени, вызывало некоторое раздражение.
Наконец, они тоже сели за стол. Оба немного смущались и не знали, как лучше себя вести. Мне снова стало скучно, от чего я перешел к неудобным вопросам.
– Сегодня я пытался вызнать у твоего парня, почему он выбрал свою специальность, но так и не получил внятного ответа. Так, отговорки. Может, ты мне сможешь ответить за него?
– Даже не знаю. Вряд ли я скажу что-то новое.
– Как раз наоборот.
– А почему это важно? Если ответить неправильно, то вы его не возьмете на работу?
– Нет, к работе и практике это не имеет никакого отношения. Так, личный интерес. Просто со временем у меня сложилось крайне предвзятое отношение к коллегам. Большинство людей, которые решают связать жизнь и карьеру с психическим здоровьем, и не важно – это психологи или психотерапевты, приходят в профессию не для оказания помощи другим, а в первую очередь с целью разобраться в себе и самоизлечиться. Когда спрашиваешь: «Почему именно эта специальность?», они отвечают, что «хотелось понять себя». По итогу мы имеем якобы профессионалов, которые не то что в себе не разобрались, а даже учебник нормально не дочитали до конца, потому что почти каждую строку и утверждение из него пытаются примерить на себя. Что-то подходит, что-то подходит с натяжкой, а в результате взамен нормального понимания процессов получается извращенная картина сквозь призму собственных интерпретаций и проекций. Они думают, что профильное образование в самодиагностике и самолечение им помогут больше и лучше, нежели обращение к специалисту в качестве клиента или пациента. Это отвратительно и ужасно. Ладно, плевать на них, на психологов. Гораздо неприятнее для меня факт, что и большинство психиатров приходит в специальность с той же целью.
– Мне кажется, вы ненавидите людей, особенно – своих же коллег. Смо́трите на них свысока и считаете, что во всем лучше, чем они.
– Так я и сказал. Я стараюсь вести себя прилично, но не всегда получается.
– С чего вы взяли, что хоть чем-то отличаетесь от них? Если покопаться, то выяснится, что вам это все необходимо ровно для того же самого.
– К сожалению, нет. Все куда прозаичнее и гаже.
Своим выпадом Марина застала меня врасплох. Меня весьма обескуражила ее прямолинейность, но в то же время я не мог не отметить про себя ее умение быстро адаптироваться к ситуации и находить не тривиальные решения.
Усталость давала о себе знать, и я решил не продолжать эту игру, переведя нашу беседу в бытовое русло. Диспетчер позвонил минут через тридцать. Попрощались мы очень тепло, и я уехал в ночь.
Пока добирался до пациента, из головы не выходила Марина. Я не чувствовал у нее какой-то грубой патологии, но и «уложить» ее в какой-то вариант нормы у меня тоже не получалось. Ребус, кубик Рубика, интеллектуальная жвачка, но очень интересная. В результате я пришел к вполне логичному в ситуации выводу: да и наплевать на нее. Это не первый, да и не последний не до конца мне понятный случай. А если зацикливаться на каждой головоломке, то решительно можно свести себя с ума, потому ну ее.
– Так, ту часть, что про рутину, я понял. А вот зачем ты так заострил внимание на этой девице – нет. Какое отношение она будет иметь к тому, что ты хочешь мне доказать?
– Самое непосредственное. Если будешь внимателен, то поймешь.
– А может, ты просто завуалированно решил мне похвастаться?
– Чем?
– Очевидно, тем, что в состоянии вызывать интерес у молоденьких девушек, даже у тех, что уже кем-то заняты.
– Нет, к сожалению.
– Я не уверен в этом, но продолжай.
Это дежурство кончилось безобразно поздно, уже после рассвета, под утро, когда нормальные люди только начинают просыпаться и нехотя собираться на нелюбимые работы. Последний вызов был не очень далеко от дома, минутах в двадцати. Почему-то, несмотря на усталость, мне не хотелось, чтобы день заканчивался, и я ехал медленно, не торопясь, рассматривая редких прохожих, витрины закрытых магазинов, и старался ни о чем не думать. Но в пустоту в голове, которую я так старался сохранить, ворвался папик. Бодрый и язвительный, как всегда. Иногда этой своей бодростью он весьма раздражал, но я не подавал виду.
– Итак, уважаемые зрители, вы только что прослушали увлекательную лекцию-концерт! У кого-то в зале остались вопросы?
– Ну и зачем ты издеваешься?
– Даже не думал. Все четко, по делу, конкретно и доходчиво. Тебе вообще осталось что сказать?
– Во-первых, да, а во-вторых, неужели все так плохо?
– Нет, но ты расстроил меня. Я-то думал, ты будешь в чем-то переубеждать, доказывать, что на самом деле это благородная, самоотверженная и возвышенная работа – спасать людей. Но нет, за день, что я наблюдаю по твоей прихоти, я не увидел ничего, что хоть на секунду позволило бы мне гордиться своим сыном. Как бы пафосно это ни звучало.
– Жаль, что у тебя сложилось такое впечатление, но мне нужно было объяснить стажеру основы работы, и сделать это максимально быстро. Может, поэтому у тебя такая картина в голове?
– Очень надеюсь, что это так.
Он немного помолчал, разминая в руках сигарету и разглядывая что-то у себя под ногами, после чего поднял голову и несколько секунд смотрел мне в глаза, смотрел строго и не моргая, так, что мне эти несколько секунд показались настоящей вечностью.
– Знаешь, я только сейчас понял, что мне страшно.
– Чего испугался? Почему именно сейчас?
– Только, пожалуйста, не переворачивай все с ног на голову, ты это умеешь.
– Для не подготовленного слушателя твой рассказ очень пугает и вгоняет в некоторый ступор. Весь беспредельный цинизм, твое восприятие пациентов как вещь, объект, функцию, и за этим восприятием нет ничего человеческого.
– Ну и что?
– Слушая тебя, я сначала злился, злился сам на себя, ведь единственный вопрос, который крутился у меня в голове: «Когда и как я упустил момент в твоем воспитании, что ты с легкостью превратился в безжалостное чудовище?»
– Ну и в какой?
– В том-то и дело, что ни в какой, я же, как и ты, не готов признавать свои ошибки и думаю, что за нарочитым цинизмом ты просто прячешься. Ты выстроил стену между собой настоящим и остальным миром и подглядываешь оттуда в щелку между старыми кирпичами и больше всего боишься того, что найдется кто-то, кто разрушит стену в труху. Что тогда? Что будешь делать?
– Строить новую стену?
– Лукавство.
– Пожалуй, у меня уже набралось несколько вопросов, на которые тебе придется отвечать.
– Давай.
– Погоди, пока рано.
– Хоть в общих чертах. Дай мне возможность подготовиться!
– А зачем тебе вообще эта работа? Почему не выбрал другую специальность сразу? Или не поменял ее потом? Готов ли поменять ее на что-то прямо сейчас? Или через какое-то время?
– Хватит, понял я, понял.
– Вот и молодец. А теперь езжай поскорее домой и отдыхай. Это мой тебе отцовский совет.
– Как скажешь, даже не буду пытаться возражать.
– Будь здоров!
– Обязательно буду!
Глава 3
Второе совместное дежурство началось так же, как и первое, – у двери клиники.
На этот раз у меня было не много энтузиазма. Я даже пытался подготовиться к встрече и сформулировать какой-то складный рассказ.
Опять Кеша подошел к машине с некоторой неуверенностью, будто сомневаясь, нужно ли ему вообще это все, но все же решился и сел.
Одна из моих дурных привычек – это табак. И это полбеды.
Проблема в том, что я люблю курить в машине, не открывая окон. Ни щелочки не оставляю. Очень дурная привычка, способная причинить массу неудобств другим людям.
Когда Кеша оказался в салоне, я поспешил открыть все окна. Конечно, он бы меня не упрекнул, если бы я этого не сделал, но все же не стоит так издеваться.
Пристегнувшись, мы выехали из дворов на улицу. Вызовов пока не было, и мы бессмысленно кружили по улицам, стараясь избегать тех, где скапливались утренние пробки. Какое-то время я обдумывал, как лучше начать мою заготовленную речь. Наконец я решился и спросил:
– Ты знаешь, как нарколог из специалиста большого и интересного раздела психиатрии скукожился до брезгливого «капальщика»?
– Вроде нет.
– Тогда, как и положено зануде, я начну с истории. В своей интерпретации.
Во времена Советского Союза система здравоохранения была государственной, частной медицины не существовало вовсе. Это давало возможность выстроить сложную структуру, позволявшую подходить ко многим заболеваниям комплексно. Что, в теории, должно было обеспечить высокий уровень оказываемой помощи.
Наркологическая служба не была исключением и представляла своеобразную конструкцию, в которую входили, во-первых, наркологические пункты при фабриках и заводах, которые занимались пропагандой здорового образа жизни и выявлением лиц, склонных к употреблению алкоголя. Во-вторых, диспансеры, чьей задачей был учет и контроль за распространением заболеваний, связанных с употреблением алкоголя и наркотических веществ, а также профилактика возможных срывов и запоев. В-третьих, специализированные наркологические стационары, чьей основной работой было лечение абстинентного синдрома – выведение из запоев алкоголиков и снятие ломок у опиатных наркоманов.
ЛТП – лечебно-трудовые профилактории. В этих заведениях проводили курсы реабилитации для зависимых, по большей части в принудительном порядке. Криво, косо, малоэффективно, но структура работала. Основной же ее проблемой была карательная функция. Недобровольная постановка на специализированный учет влекла за собой поражение человека в правах и усложняла жизнь.
С развалом Союза государственная наркология никуда не делась, лишь потеряла некоторые компоненты, такие как ЛТП и наркологические пункты на производствах, но ее карательная роль сохранилась в полном объеме. Страх человека, что его могут поставить на учет, обоснован и понятен. Он сулит немало проблем, начиная от сложностей с трудоустройством и заканчивая банальной невозможностью получить водительские права.
Даже когда у людей появляется осознание необходимости лечения, они боятся обращаться за помощью.
С другой стороны, именно этот факт сыграл ключевую роль в становлении и развитии коммерческой наркологии, что быстро превратилась в параллельную систему, альтернативную государственной. Основная задача ее – зарабатывание денег, а для этого необходимо, чтобы пациенты понимали, за что именно платят, и видели результат. Сформировалась определенная модель оказания помощи алкозависимым.
Это означает, что все элементы и варианты лечения, которые не приносят максимального дохода, были упразднены. Практика показала, что самое прибыльное – вывод из запоя, а также сомнительные и примитивные методы противорецидивной терапии, такие как подшивки, кодировки и прочее. Подобное лечение можно проводить в стационаре или амбулаторно на дому.
Вот так сложная система, оказывающая квалифицированную помощь населению на всех уровнях и этапах болезни, оперирующая разными методами и имевшая комплексный подход к пациенту, превратилась в убогую машину по выкачиванию денег. Во многом это же послужило причиной пренебрежительного отношения к специальности со стороны коллег.
Из-за упрощения подхода сложного и неоднозначного заболевания и узкой направленности частных наркологических клиник в головах многих людей, в том числе и коллег других медицинских специальностей, врач-нарколог – это «похметолог», то есть специалист, полномочия и умения которого заканчиваются на лечении абстинентного синдрома. К сожалению, часто наркологи действительно на этом и останавливаются и даже не имеют необходимых, базовых знаний об алкоголизме, ограничиваются навыком ставить капельницы и снимать похмелье.
Это подмена понятий и введение в заблуждение, но здесь сходятся интересы сразу всех: потенциальные пациенты и их родственники рады самообману, а мы с тобой, не без удовольствия, на них зарабатываем.
Заканчивал рассказ я уже по дороге к пациенту.
Этот вызов не предвещал ничего необычного. Очередной молодой человек лет тридцати и его мама, которая хочет откупиться от проблемы вызовом врача на дом. Да и запой, на первый взгляд, не глубокий.
Проделав необходимые рутинные мероприятия, ставлю ему капельницу, параллельно по привычке читая лекцию для его мамаши о вариантах лечения алкогольной болезни и о последствиях, если этого не делать. Периодически поглядываю на пациента и боковым зрением замечаю, что он как-то подозрительно синеет. Не отвлекаясь от лекции, щупаю пульс. А его нет.
Вместо того чтобы переживать за жизнь больного, первая мысль, которая возникает у меня в голове, это «если будет летальный случай, будет как-то неловко брать деньги за вызов. Надо было брать вперед». Конечно, это короткая и пространная мысль, дальше надо было что-то делать, а не размышлять.
Еще на входе я для себя отметил, что женщина эмоционально неустойчива и явно склонна к аффективным реакциям, то есть озвучивать вслух подробности состояния пациента не стоит. Можно спровоцировать истерику, а это только помешает. Я подумал о Кеше, насчет него у меня тоже были сомнения. Я не знаю, есть ли у него опыт реанимационных мероприятий и не запаникует ли он тоже. Двое безумных и полумертвый пациент – это цирк, в котором бы не хотелось участвовать.
По-хорошему, следует начинать сердечно-легочную реанимацию с прыганьем на пациенте и дыханием рот в рот, но мне этого очень не хотелось, и я решил попробовать оживить молодого человека медикаментозно, добавив необходимых препаратов в капельницу. Повезло, появился пульс. Парень ожил.
При этом я продолжал лекцию о вреде алкоголизма, стараясь отвлечь всех присутствующих от манипуляций, которые делал руками. Все обошлось. Мамашка не поняла трагичности момента, а мне хотелось как можно быстрее свалить с вызова.
Расслабиться я себе позволил, только когда дошел до машины. Кинув сумку в багажник, я обнаружил, что у меня трясутся колени и мне тяжело стоять. Сев за руль, я закурил и молчал минут пять. Кеша терпеливо сидел рядом, в то время как я лихорадочно прокручивал в голове этот случай и пытался понять, что именно произошло и как так получилось, что все кончилось хорошо. Не придя к внятному объяснению, я выдохнул и повернулся к Кеше.
– Скажи, ты понял, что сейчас было?
– Да, – прошептал Кеша.
– Парень остановился.
– Я видел, но решил вам не мешать и ничего не говорить, чтобы не сбить с толку. А часто бывают летальные случаи?
– Бывают.
– И как вы?
– В каком смысле? – не понял я.
– Что чувствовали? – объяснил он.
– В кино и сериалах безбожно врут.
– Не понял.
– Нет никаких душевных терзаний и самобичевания. Есть раздражение и страх, что тебе за это может прилететь. Единственное, о чем думаешь в такие моменты, – это как прикрыть собственную задницу и избежать возможных последствий.
– Много у вас смертей было?
– Где? – ухмыльнулся я.
– А где были?
– У меня большой опыт. Трупы были. И в стационарах, и на скорой.
– А на этих вызовах?
– Тоже было.
– И что вы делали? – продолжал заваливать меня вопросами Кеша.
– Работал. Как ты правильно сказал: главное – не навреди. Когда у врача умирает пациент, то его за это ругают. Вплоть до уголовной ответственности. Даже если смерть пациента никак не связана с твоими действиями. К сожалению, все учесть невозможно, как ни старайся перестраховаться. У меня как-то был очень неоднозначный вызов. Рассказывать?
– Да.
– Рано утром меня отправили невероятно далеко, в Волховский район Ленинградской области. Пациентом был мужичок лет пятидесяти. Он под надуманным предлогом укатил от жены на дачу, но, вместо того чтобы заниматься делом, он неделю самозабвенно пил. Когда супруга приехала его навестить, он уже не мог нормально вставать с кровати. Ходил только держась за стену и только от постели до туалета. Алкоголь предусмотрительно держал рядом со спальным местом.
Когда я приехал и вошел в дом, то первое, на что упал мой взгляд, был огромный черный бушлат. Местами рваный, местами с заплатками. Сейчас такие никто не носит, но в детстве, когда бабушка брала меня с собой на кладбище, такие носили суровые мужчины с лопатами и многодневной щетиной. Бабушка всегда с ними здоровалась, они же в ответ всегда молчали и смотрели куда-то сквозь нас. От такого неожиданного воспоминания у меня появилось смутное ощущение, что может произойти что-то не очень хорошее. Какое-то предчувствие, которое я все же проигнорировал.
После знакомства с пациентом и его предварительного осмотра выяснилось, что у него, ко всему прочему, еще и диабет. Моя интуиция снова проснулась и говорила мне, что надо валить. Я померил уровень сахара и успокоился: тот был в пределах нормы, но внутренний голос не унимался, особенно после истории от пациента, что в этот день утром он упал с лестницы и не сильно ударился переносицей о перила. Я осмотрел голову, провел неврологические тесты и не обнаружил отклонений от нормы. Я сомневался и спорил с интуицией, но ее усыпил высокий ценник, на который согласилась супруга пациента. Я поставил типовую капельницу, расписал рекомендации и, довольный гонораром, поехал на следующий вызов.
Продолжение случилось ближе к полуночи. Жена этого пациента дозвонилась до клиники и сообщила, что ее муж после капельницы так ни разу и не просыпался, хотя дышал нормально, пульс и цвет кожи тоже в норме. Я порекомендовал вызвать скорую помощь, она вызвала. Если опустить подробности, то конец у этой истории грустный и тривиальный. Через три дня мой пациент умер в реанимации. Там выяснилось, что когда он упал с лестницы, то повредил надкостницу. Внешне это было совершенно не заметно, но в последующем вызвало кровоизлияние в мозг, а моя капельница только усугубила процесс. Вот так. Знаешь, какой вывод можно из этого сделать?
– Какой? – почти не закрывая рта, спросил практикант.
– «Курица – не птица, психиатр – не врач», и в моем случае это именно так, поэтому я уделяю пристальное внимание здоровью пациента. Как в текущий момент, так и при сборе анамнеза о хронических и перенесенных заболеваниях, аллергических реакциях и лекарственных препаратах, которые принимает человек постоянно или эпизодически. Если называют незнакомые препараты, то я, не стесняясь, достаю телефон и ищу в интернете названия. Не стоит бояться показаться дураком. Гораздо хуже, если прошляпишь что-то важное. Делай все так, как учили на занятиях по пропедевтике[9], последовательно проходи по органам и системам: легкие, сердце, почки, пищеварительный тракт. Не забывай про неврологический статус. Оказать первую помощь я смогу, но не дай бог что-то более сложное. Тогда тебе придется вызывать скорую помощь и надеяться, что они успеют. Ладно, хватит нотаций. В прошлый раз я тебе рассказал про четыре пункта, на которые надо обязательно делать акцент. Помнишь?



