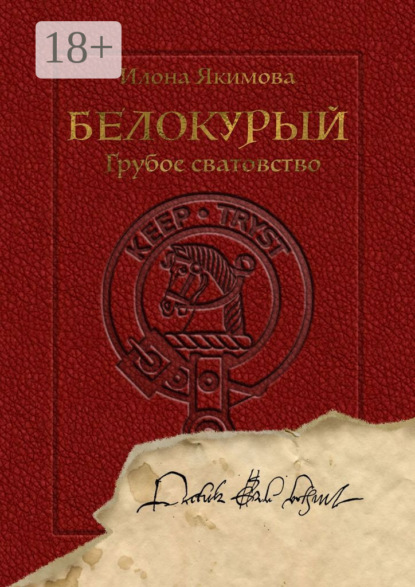
Полная версия:
Белокурый. Грубое сватовство
Вот и теперь он стоял перед ней – безо всякого смирения во взгляде, напротив, утаивая усмешку в синих глазах, всегда усмешку, будто и жизнь, и смерть были равно ему в забаву – неважно, своя смерть или же кровного врага.
– Вы, граф, посетили Далкит. Что там?
Судя по тону, которым задан вопрос, она волнуется – и волнуется сильно.
– С вашего позволения, я желал бы говорить об этом не перед вами и всем двором, моя прекрасная госпожа, но перед вами – и вашими доверенными лицами… и без женщин.
Удивилась, но отдала распоряжение. Мари Пьерс Ситон птичкой порхнула прочь, Элизабет Стюарт проследовала вон, вздернув подбородок, леди Флеминг метнула в говорившего взгляд василиска, но по жесту королевы также вышла из комнаты. Это хороший знак – то, что Мария прислушивается к его словам, повинуясь их здравому смыслу. Два Гордона – Сазерленд и Хантли – стояли по бокам кресла королевы в приемной зале, словно архангелы небесного воинства при престоле Богородицы. И один – то ли павший, то ли оклеветанный – поднялся с колен перед нею. Мария де Гиз приняла присягу Босуэлла, однако не могла не сомневаться в нем хотя бы десятой частью души. Как влюбленная женщина жаждет клятв возлюбленного – ежечасно, так каждодневно королеве хотелось слышать клятвы верности политической или видеть дела, говорящие о том же. Тогда она думала, что разговор между ними может идти только о власти.
И он говорил, как она желала – и сам, и делами также.
– Вы удалили леди Флеминг потому, что..?
– Да, мадам, ее муж стоит за англичан слишком явно. Молодчина Малкольм, что привез к вам Садлера, когда это требовалось, но, в целом, вреда от него больше, чем пользы. Что Далкит? Там все то же, прекрасная госпожа моя. Утешить вас полным разладом меж регентом и Дугласами не могу, однако они усиленно покупают себе новых сторонников – в их числе и вашего покорного слугу также…
Босуэлл по-прежнему улыбался, и как понять эту улыбку – она не знала.
А граф продолжил:
– Джордж Дуглас собирает подписи под статьями, написанными Генрихом Тюдором для лордов Шотландии – говорится там о том, что не следует признавать ни одну власть, кроме власти английского короля. Это, несомненно, подорвет могущество регента, если Питтендрейк найдет достаточно недовольных Арраном – и тем самым пойдет на пользу вам. Собрав силы, они выступят – и падут, потому что будут покинуты своими сторонниками в решительный момент…
– Какая прелестная картина будущего, граф, – с иронией отозвалась Мария. – Но почему вы так в этом уверены? Откуда такая убежденность?
Он пожал плечами, несколько озадаченный вопросом:
– Ну, я просто знаю… потому что именно так сделаю я сам.
Это прозвучало громом среди ясного неба, и даже Хантли, посвященный в подоплеку дела, крякнул от неожиданности.
– Вы? – как бы ослышавшись, спросила Мария. – Вы, Босуэлл? Вы… подписали статьи?!
А он все смотрел ей в лицо, не смущаясь, стоя напротив кресла королевы, заложив руки за спину, спокойный, уверенный в своей правоте:
– Разумеется. Более того, я взял за это деньги от Питтендрейка – и уже спустил их на фураж, джеддарты и порох для моих ребят, тех самых, что пойдут за вас в огонь и в воду, моя госпожа. Тяжеловато ведь кормить их – теперь, в мирном Мидлотиане – пока мне не вернули фамильные земли и законное право обирать сассенахов…
– И вы, Босуэлл, пришли ко мне – клятвопреступником? Ибо мне первой обещали вы свою верность… и уже становитесь клятвопреступником дважды?!
Еще немного, и она посочувствует Дугласам! В этом вся трудность, когда имеешь дело с порядочной леди, желающей, тем не менее, править.
Хантли хотел вмешаться в разговор, но де Гиз жестом велела ему молчать:
– Отвечайте!
– Клятвопреступником? О, мадам, но это меньшая жертва, на которую я готов ради вас. Жизнь или честь – возьмите, что вам угодно, всё будет мало за один приветливый взгляд, моя королева.
Те слова, что от любого другого смердели бы пошлостью преувеличения, становились искренни и правдивы, когда их небрежно произносил Патрик Хепберн – со своим открытым взглядом, красивым лицом, чуть ироничным голосом, манерами благородного человека… со всей дерзостью обманщика, который знает цену настоящей правде. Она верила ему. И при этом он лгал ей. Но теперь она верила этой лжи – тому, что он лжет ради нее.
– Какая разница, как будет замарана моя честь, Ваше величество, если это пойдет на пользу вам? – молвил уже прямо, не улыбаясь. – Что там опытные люди говорят про цель и средства? Желаете покинуть сей скорбный вдовий приют и переехать в Стерлинг? Я доставлю вам такую возможность, ручаюсь!
– Он или безмерно дерзок, или нагло лжет, – пробормотал Сазерленд, ошеломленный этой выходкой, вслед покинувшему приемную Белокурому.
– И то, и другое, – отвечал Хантли, не скупясь на похвалу родственнику, – но, согласись, Джон, он ведь сумел добиться успеха в той интриге с Арраном и Питтендрейком? Отчего ж нам не верить ему теперь? А чем рискует – Господь ему судья.
Королева весьма внимательно слушала обмен репликами, происходящий у нее за спиной, рука ее сжимала янтарный горох четок, а рассеянный взор был направлен на распятие над камином, где на бронзовом теле Агнца играли блики свечного света.
– Снаружи белый, внутри черный. И руки твои в крови, и язык твой лжив.
Об эту фразу Хепберн споткнулся, выходя из кабинета королевы – голос в самом деле шел как будто от самой земли, как казалось с высоты его немалого роста. О, это та, о ком он и забыл, хотя не следует забывать о любимой игрушке королевы, вывезенной еще из отцовского дома, из Шетадина, из Франции.
Босуэлл, улыбаясь, смотрел на карлицу:
– Подарить тебе ленту, Пьеретта, чтоб ты меня полюбила?
– Ленты твои от демона, ласки твои от дьявола. Не надо мне твоей любви! – метнув на него сердитый взгляд, крохотная дурочка королевы, переваливаясь на кривых ножках, заковыляла к тяжелой двери кабинета, проскользнула внутрь… Это ближние дамы, так кстати высланные им из покоев госпожи – ведь сложно обольщать сразу большое число жертв – возвращались обратно. Рыжая Элизабет не устояла бросить на Белокурого беглый взгляд, но Дженет Флеминг проследовала мимо, словно кузен был подлинно пустое место… женщины! Он любил их и так, не только поклоняющихся его красоте и мужской силе, но вдвойне вот этих – желчных, сквернословящих, сопротивляющихся, вдвойне – дающих соль и перец его придворному существованию. Женщины! На этом поле ему предстоит играть и выиграть, несомненно. Да и кто, кроме него, наилучше пригоден на эту роль? Покамест в ближнем кругу королевы за него одна только леди Ситон, хотя… куда уж там – леди. Родовитость второй жены лорда Ситона была делом весьма сомнительным. Королева одарила любимую фрейлину землями в Шотландии, но о ее французских владениях предпочитали не спрашивать. Грозная вдова Ситон, монахиня монастыря Святой Клары в Эдинбурге, не дала благословения на этот брак, однако то был единственный случай, когда лорд Джордж пренебрег мнением деспотичной матушки и предпочел союз по любви, вдобавок устроенный руками самой королевы. Благодаря мужу войдя в круг высшей знати, леди Ситон особенно ценила тех, кто мог отнестись к ней без предубеждения – и Патрика Хепберна, двоюродного брата мужа, в первую очередь. За его манеру держаться просто с простыми и надменно со знатными, а также за парижский диалект французского языка она могла простить ему почти что угодно… Хепберн называл ее «маленькая кузина», всегда находил для нее учтивое словцо, а главное, с такой, как ей казалось, рыцарской любовью глядел на госпожу, Марию де Гиз, так был склонен к делу королевы…
– Патрик! Ваша милость!
Он остановился на полном ходу, тепло улыбнулся в ответ на этот сияющий взгляд:
– А, моя маленькая сестрица! – быстро поцеловал протянутые руки. – Мари, вы бессовестно хорошели все то время, что меня не было здесь, право слово!
Она засмеялась:
– У вас слишком любезный язык, чтобы быть правдивым, но, Боже, какое счастье, что вы вернулись! Как не хватает моей дорогой госпоже сейчас того, кто был бы предан ей всем сердцем!
– Вот как? – прищурился Босуэлл, все еще не выпуская рук леди Ситон – теплое пожатие надежного, сильного мужчины. – А наши горцы, Аргайл и Хантли? А Эрскины, всем гуртом? А этот черный ворон, приор Пейсли?
– Ну, вы же понимаете, – доверительно понизив голос, произнесла Мари Пьерс. – Это совсем не то!
– Правда? – он улыбался еще шире. – А что насчет графа Леннокса, кузина?
– Патрик! – произнесла Мари, будучи глубоко шокирована. – Вы – и он! И как тут можно сравнить?!
Она фыркала по-французски на его недогадливость до самой двери кабинета королевы, шурша по изразцам пола подолом все еще траурного – по королю – платья, возмущенно встряхивая хорошенькой головкой так, что чепец на ней подпрыгивал, подмигивал кокетливыми жемчужными слезками.
А с главным соперником Босуэлл встретился немногим позже двух дней, там же, в Линлитгоу.

Холл замка Линлитгоу, Линлитгоу, Шотландия
Огромный холл волшебного дворца, растворенный зев циклопического камина, куда человек входит в рост, музыканты, с галереи обливающие толпу сладчайшими звуками – и вереница новых, заморских рыцарей, припавших к ее стопам. О Боже, думала Мари, когда бы он привез мне денег вместо комплиментов! Денег или солдат, желаемых ею столь отчаянно, что саму душу заложила бы за военную помощь. Но Мэтью Стюарт, граф Леннокс, вместо солдат и денег предлагал ей себя – со всеми созревшими за время морского путешествия на родину чувствами, нужными де Гиз, как прошлогодний снег. И Мари чуть склонила голову к говорившему, как любопытная птичка, выглядывающая из гнезда.
– Ах, граф, – мягко сказала она, на левой щеке скромной леди в черном легла ямочка от легкой улыбки, тень юной красоты проступила в чертах ее под вуалью величия и печали. – Вы смягчаете скорбь души одним тем, с какой горячностью принимаете к сердцу беды Шотландии… и мои.
– Дама, достойная восхищения, – молвил Аргайл вполголоса кузену. – Вспоминает о том, что женщина, в самый неподходящий для противника момент…
– Ты ведь не любишь женщин, Рой, – поддел его удивленный словами одобрения Хантли.
– Терпеть не могу нигде, кроме постели, – согласился Кемпбелл. – Но точный удар оценю всегда.
– Скажи мне лучше, когда, по-твоему, сей рыжий пришелец вцепится в горло регенту? Примешь ли мою ставку – через сутки, едва лишь достигнет Эдинбурга и Парламента?
– Три фунта, – зевнув, отвечал горский оборотень. – И ставлю на сегодня же, вон-вон, смотри, он уже косится на Алекса Ливингстона, шпионящего здесь по поручению лорда-правителя, и поцапается с ним, так сказать, взамен его хозяина… поставь-ка лучше на итог свары, когда они увидятся с Босуэллом.
– Десять фунтов на Босуэлла! Хепберн свалит Стюарта одним щелчком.
– Тут ты не прав – история может затянуться, потому что, поверь мне, королева станет подпирать спину Ленноксу своими белыми ручками, коли-ежели тот с первого удара протянет ножки. Не по любви, нет, куда там ей этот сопляк, а из чувства равновесия и ради женского пакостничества.
– Хорошо, пятнадцать фунтов. А ты?
– А я вовсе не стану участвовать деньгами, Джорджи…
Хантли, купленный во всегдашних этих разговорчиках с Аргайлом, как мальчишка, пошел пятнами, надуваясь от возмущения:
– Ах ты, старый плешивый лис!
– Да, – повторил Кемпбелл, нимало не обращая внимания на его досаду, – я не стану участвовать. Я стану получать от представления удовольствие, Джордж – удовольствие, которого не купишь ни за какие деньги.
Манжеты сорочки Леннокса, украшенные брюссельским кружевом, выглядывали из рукава дублета чуть не до кончика большого пальца – мода сколь расточительная, столь и непрактичная. Граф был облачен в бархат лавандового цвета – последняя причуда двора Франциска Валуа и самый модный цвет сезона – который, впрочем, весьма шел и к рыжим волосам его, и к темным глазам. Девически маленький рот ярок, сложен в приятную улыбку, но смотрится куриной гузкой, как сказала Анабелле Гордон, кузине Хантли, добрая леди Ситон, вот бедный молодой человек, правда же? И подбородок его слишком остер и длинен, лишен всяческой гармоничности. Впрочем, для настоящего мужчины, оговорилась она как бы невзначай, бросив взор на сестер Леннокса, это не самый существенный недостаток, прискорбней то, что и руки у него словно у белошвейки. Конечно, он был у Франциска капитаном роты гвардейцев, но всем же известно, что капитанство было почетным подарком от короля, а на поле боя наемниками командовал человек, куда более опытный и отважный – несгибаемый Пьер Строцци, брат морского дьявола Лео… и на этом моменте на добрую Мари Пьерс Ситон зашипела леди Флеминг, призывая к порядку, что, впрочем, не заглушило доносящиеся до слуха королевы смешки жизнерадостной леди Гордон.
Аудиенция графа Леннокса у королевы-матери прошла весьма успешно, и Мэтью Стюарт покидал Большой холл в превосходном расположении духа, когда вблизи внушительных, резного дуба дверей разминулся с тем, кого последний раз ему доводилось видеть именно во Франции – и мгновенно узнал его. Два плаща едва не сплелись, не коснулись один другого. Две своры кинсменов на коротком поводке остановились, кипя, чтоб облаять противника не столь по велению сердца или по инстинкту, а по невысказанному еще намерению хозяев. И Леннокс глядел на человека напротив, чувствуя отвращение, близкое к врожденному, нутряному, и тонкая игла беспокойства колола его изнутри – несмотря на то, что соперник и взглядом его пока что не удостоил.
– Явились ловить рыбку в мутной воде, Босуэлл?
Хепберн круто повернул красивую голову к говорившему – с еле уловимой хищной усмешкой, мелькнувшей в лице:
– В тине, Леннокс, не в мутной воде. А вы-то почему показали рыльце на родину только по смерти короля? Имеете виды?
– Да уж виды, получше ваших…
– Холостой мальчик, – отвечал Хепберн спокойно. – Мне жаль вашей наивности. Порасспросили бы прежде у местных, как тут, в Приграничье, ловят рыбку в тине. Не то – как бы не попасться и вам на крючок, любезнейший!
Кинсмены, нажав плечами, раздвинули для него огромные створы дверей, резьба на коих изображала райские кущи при сотворении мира, и Босуэлл шагнул в них, навстречу королеве-матери, не оглядываясь.
– О чем это он? – с неприятным чувством, как от полученной угрозы, спросил Леннокс случившегося рядом Томаса Эрскина. – Про тину.
И не ошибся.
– Рейдерский жаргон, ваша милость, – отвечал тот хмуро. – Это когда людей в приграничных пилтауэрах коптят заживо.
Шотландия, Эдинбург, апрель 1543
Десять писем на юг, двенадцать на север… капает воск, растопленный на свече, течет по бумаге, пухло выплывает, застывая, из-под печатки. На печатке – английский лев. На печатке – инициалы, знакомые Генриху Тюдору именно по депешам отсюда, из мерзкой, холодной, слякотной Шотландии, населенной лживыми чертями и скользкими стервами. Ведь он же прямым текстом спросил сукина сына регента, как так получилось, что кардинал Битон, взятый от Питтендрейка, был передан Джорджу Ситону – Ситону! – женатому на любимой фрейлине французской вдовы?!
О, этот чистый взгляд Джеймса Гамильтона, графа Аррана – первого и почти всемогущего лица в государстве:
– Это не я, – искренне отвечал он. – Садлер, я тут не при чем. Это все Хантли! Я совершенно не мог противостоять ему!
– Вы, ваша светлость, денег у меня взяли, – сухо напомнил сэр Ральф. – Тысячу фунтов. За что? Чтобы кардинал остался там, где сидит, если не навечно, то надолго.
Джеймс Гамильтон, услыхав это, очень обиделся.
– Я – человек слова, мой дорогой, и терпеть ваши нелепые обвинения не намерен! Я – наследник шотландской короны, лорд-правитель и регент, а не жид какой-нибудь, для кого нет ценностей и нет чести. Из одного уважения к вашему королю я сделал столько, сколько другой не сумел бы и за десятки тысяч, даже будь они у вас… а виноват я лишь в том, что у меня есть сердце, и оно не из камня. И хватит об этом!
Так и сказал – об этом хватит. Записывая все вкратце для короля, сэр Ральф задумчиво смотрел на пляшущий огонек свечи, размышлял, вспоминал, и по итогу присовокупил к донесению: …для меня осталось загадкой, был ли он искренен. Если да, то регент – величайший болван из всех, мной когда-либо встреченных, если нет… то величайший притворщик. Впрочем, он уверенно держит в руках бразды правления, а о римском епископе высказывается в тоне, могущем вас порадовать. Библию английского перевода вижу я в доме почти у каждого благочестивого джентльмена и, если бы Вашему величеству было угодно снабдить меня достаточным количеством томов, я мог бы продать здесь столько изданий Святой книги, сколько бы мне ни прислали… таково влечение к подлинной вере среди шотландцев. Лорд-правитель также запрашивал меня, каким образом ему было бы правильней провести реформу церкви, и не согласитесь ли вы, Ваше величество, своею рукою дать ему должные наставления…
Вот он даст, Генрих Тюдор, думал Ральф Садлер уныло, и потом мне, опять мне придется объясняться с королем, не болван ли этот ваш регент. Если ведь не болван – для нас, в Лондоне, это означает крупные неприятности, но заменить его все равно некем. Ни на кого нельзя положиться, ни на кого.
Но тут человек, сидящий напротив в кресле, нагнулся над столом, спросил грубо, прямо:
– В чем дело, Садлер? Нужен я вам или нет? Какого дьявола я должен смотреть, как вы разводите чернила и сушите письмо, прежде чем соизволите ответить? Нажмите на регента – чем скорей мне вернут лордство в Долине, тем верней у вас будет доступ туда…
Он выглядел, как пустой сосуд, ожидающий заполнения – в своей алчности, в своем голоде. Еще один. Сэр Ральф откинул голову на спинку кресла и закрыл глаза, с досадой ощущая первые боли подкатывающей погодной мигрени. Еще один – лживый до мозга костей – клятый шотландец.
– Что вы можете предложить взамен, граф?
– Если я и стану предлагать что-либо, то не вам, Садлер, а королю. Для начала сами предложите мне что-либо по-настоящему стоящее.
Красивая пустышка, надменный гордец.
– То есть, как прежде, ничего… Денег я вам не дам, – сказал Садлер, с удовольствием глядя, как темная кровь заливает шею собеседника. – Вы, Босуэлл, взяли у Харвела двести фунтов и остригли Питтендрейка догола, а что мы видели с тех денег, если говорить о любезности? На Солуэе ваши стояли за Шотландию…
– А за кого им было там стоять? – бесстыдно отвечал Хепберн, не поведя и бровью, несмотря на то, что все внутри у него занималось от белой злобы. – За вас? После того, как Масгроув первым делом сложил в атаке моих людей?!
Белокурый был в бешенстве, тем более сильном, что сознавал: сейчас он для Садлера не в цене. Первый раз его так явно выставили попрошайкой, и кто? Англичанин. Один из тех, кого он так удачно водил за нос последние десять лет.
Но посол не поддержал прений.
– А после Солуэя, при дворе, вас видели то в Линлитгоу, то среди мятежников Перта… если вы желаете долгосрочного денежного соглашения, граф, одних обещаний недостаточно. Статьи? Уж мы-то с вами, граф, знаем, что платят не за слова. Сделайте хоть что-нибудь толковое, Босуэлл, для моего короля, прежде чем желать вознаграждения.
Босуэлл взвился из кресла, плащ его, совсем черный в полумраке комнаты, облекал его, словно сложенные крылья – посланца ада. Здесь искать нечего и терпение уже на исходе.
– Будь по-вашему, – молвил с коротким оскалом, – но уж не обессудьте, дорогой мой посол, что к исходу года духу вашего не будет в Шотландии… уж это-то я вам устрою – и совершенно бесплатно!
Оставшись один, сэр Ральф глубоко вздохнул, потер ноющие виски и прибавил в отчет: «что же до графа Босуэлла, который правил Лиддесдейлом, так человек это совершенно пустой, хотя и крайне тщеславный; здесь никто не принимает его в расчет…»

Крайтон, дорога от замка к церкви, Мидлотиан, Шотландия
Шотландия, Мидлотиан, Крайтон, апрель 1543
Ничего в те поры он не желал так страстно, как денег. С этой мыслью он просыпался и с нею же засыпал. Он был должен уже кругом не по одному разу – и брал снова, чтоб отдать истекший долг, чтоб взять на себя новый. Денег! Даже женское тело не вызывало в нем такого вожделения, возможно, потому, что сейчас он точно знал, какую женщину хочет. Жена в те поры видела его чаще, чем во времена до изгнания, но встречи их были лишены прежнего тепла. Раз в три-четыре дня Белокурый наведывался в Крайтон, оставался на сутки, осуществлял свое право, как ему было угодно, занимал место главы семьи за высоким столом в холле… задумчиво смотрел на сына. С подрастающим Джеймсом он тогда разговаривал чаще, чем с Агнесс, хотя глубиной эти разговоры не отличались. А Агнесс тоже молчала – ни предотвратить, ни избежать того, что надвигалось на ее покой, на ее семью, она не могла, и только одно давало ей повод для надежды – католичество, нерасторжимость уз. Хотя и об этом ходили опасные слухи, о ее муже: к исповеди он и прежде являлся нечасто, теперь же под кровом церкви его видели только по придворной надобности.
Все больше становился он похож на мужчин своей семьи. Конечно, она не знала их – ни злобного лорда-адмирала, ни великодушного графа Адама, но слышала довольно рассказов своей матери и вдовой графини Маргарет, чтобы иметь представление. Железная воля и алчное желание, для которых нет преград ни на земле, ни на небе – вот что такое Хепберны, и именно это видела она сейчас в сумрачном, опасно красивом лице мужа, в темных до черноты глазах. Пусть оно утолится, это желание, молилась тогда Агнесс, пусть оно утолится, Господи, и пусть пресытится, и пусть он вернется ко мне, не только телом, но и душой. Тем, что можно было назвать в нем душой – если кто и не верил в такое о Патрике Хепберне, то она-то точно знала, это в нем есть. Пусть он ляжет с ней, если необходимо, но пусть вернется ко мне. Ни одна из любовниц мужа до сей поры не была ей серьезной соперницей, но власть, воплощенная в лице королевы… ведь никогда прежде и не было у Патрика Хепберна такой возможности: оказаться на самой вершине посредством одного только обаяния. И Агнесс лишалась сна, пока муж бесшумно спал рядом, обнимая ее, она не хотела думать об этом.
Долгие часы до рассвета перед разлукой с любимым – пока в долине Тайна, над обрывом которой нависает могучий Крайтон, занималась заря. Когда наступит утро, она пешком отправится вдоль берега в приходскую церковь молиться о его душе, он – ко двору, чтобы дорого продать свою душу.
Шотландия, Линлитгоу, май 1543
Несмотря на лихорадочное напряжение противостояния, буквально пропитавшее воздух весны, Мари де Гиз, не намереваясь быть легкомысленной, тем не менее, создала в Линлитгоу весьма изящный двор. Музыка, танцы, карты для придворных превосходно сочетались с искренней набожностью королевы и ее пятью мессами в день. Босуэлл, помнивший Стерлинг и Эдинбург во времена Джеймса, был еще оттуда сыт по горло куртуазными развлечениями и в общих забавах участвовал мало. Складывать мадригалы дамам он умел, но посредственные, и вдобавок почитал занятие сие абсолютно бессмысленным, пел превосходно, но большей частью во хмелю и в компании мужчин, картежничать не любил, вот разве что вольта… когда бы королева могла парить в его руках в этом непредсказуемом танце… да, леди не помешало бы ощутить заранее ту телесную силу, которой в итоге предстоит подчиниться. Однако Ее величество, как благородная вдова в трауре, лишала себя подобных развлечений и даже картежничала вприглядку – смотрела, как играют другие. Подобное положение дел лишало Босуэлла обычных преимуществ в ухаживании за королевой, хотя бы в сравнении с тем же рыжим паршивцем Ленноксом, и он понимал это прекрасно. И всем ухищрениям галантного обхождения цинично противопоставлял свою мужскую привлекательность, мрачноватое обаяние белокурого Люцифера, как когда-то прозвал его покойный Джеймс.
Люцифер. Сияющий. Это подходило ему в полной мере.
Мыслима ли такая красота без порока?
Когда глядишь на него, кажется, что видишь подлинный замысел Творца, воплощенного Адама райских кущ, вышедшего из рук Господних незапятнанным, совершенным. Измученная напряжением сил в борьбе за трон, безопасность и дочь, королева отдыхала, любуясь им – и пропадала в ловушке. Духом она справлялась с искушением, однако тело порочно, слабо и отмечено болезненными, кровавыми регулами, как у всякой дочери Евы. Тело жаждет именно Адама – мужчины, господина, самца. Тело душит ее сновидениями и ночными слезами, требуя освободить соки, застоявшиеся во вдовстве, принять в себя семя первого среди равных – теперь, когда король Шотландии мертв.



