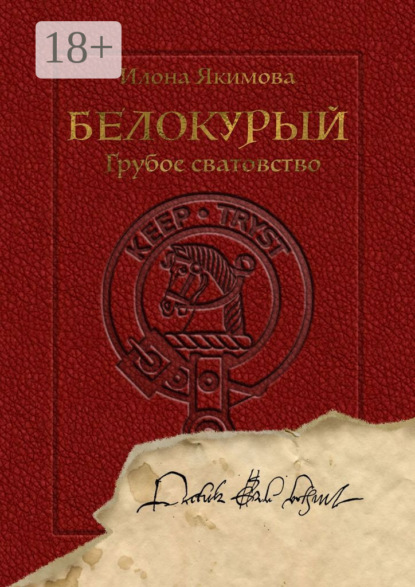
Полная версия:
Белокурый. Грубое сватовство
– Нет. Он дважды отказал мне в повиновении, мой кастелян, когда я приказывал явиться в Крайтон. Сделает это в третий раз – будет лишен дарственной на поместье, мне шутить некогда.
– Ну, – железный Джон задержался на племяннике взором чуть дольше, чем обычно. – Пожалуй, он это сделал зря…
– Если желаешь выступить миротворцем, не стану возражать.
– Я об этом подумаю, – решил Джон Брихин. – А ты изменился…
– Ты тоже.
– Я постарел.
Босуэлл бросил в ответ быстрый – и удивленный – взгляд на дядю. Однако честность с самим собой, доходящая до безжалостности, всегда отличала этого его родственника среди прочих. К сорока пяти годам Джон Хепберн, епископ Брихин, окончательно оставил повадки рейдера, хотя его сухое, жилистое тело соперничало с телами молодых в гибкости и силе. Только в скорости проигрывал епископ своим юным слугам, на которых по-прежнему оттачивал навыки владения палашом. И эти ребята могли бы рассказать немало интересного о властном хозяине Брихина, не будь порабощены странной смесью ужаса и восхищения, которую пробуждал железный Джон в неискушенных сердцах. Двое служек, посмевших болтать о делах праведного человека более, чем дозволялось правилами обычной сплетни, бесследно исчезли прежде, чем паства успела хотя бы заподозрить участие Джона в их судьбе – и молва прекратилась. О Джоне вообще в епархии говорить затруднялись, ибо кроме склонности к хорошему столу, миланскому оружию и породистым жеребцам, которых у него была только пара – аскетизм неслыханный – Хепберна упрекнуть было не за что, не в чем найти тему для разговора. Хуже того, епископ не имел слабости к мальчикам, не было у него и никакой известной наложницы, как и признанных им или молвой внебрачных детей. Джон Хепберн у себя дома жил строгой размеренной жизнью, в распорядке почти монастырском, подолгу молился, свободное от хлопот время проводил в библиотеке, исправно занимался делами прихода – с той исправностью, которая обличает весьма малую степень вовлеченности и интереса. В смысле репутации он повторял карьеру своего крестного отца, старого Джона, покойного приора Сент-Эндрюса – ему верили и его любили неимущие и малые, его ценили и уважали в клире, его побаивались сильные – ибо в точности и силе наносимого удара Брихину не было равных, если кому случалось перейти праведнику дорожку. Словом, всё, как любим мы, в нашей семье, мелькнуло у Белокурого в голове.
– Хотел бы я иметь силу твоей старости, – отвечал он младшему дяде.
– Обрящешь со временем, – хмыкнул Джон. – Добывается лишениями, милый мой, утратами и одиночеством. Надеюсь, сила эта дастся тебе не скоро. Твое место при дворе, – продолжал он задумчиво, – в этом сомнения нет. Не вздумай вернуться на Границу раньше, чем отожмешь от своей кормушки чужих свиней. Каждый твой день должен быть шагом к цели…
Он давно уже не давал советов Патрику, предпочитая наблюдать, а вмешиваться – только по просьбе последнего или по собственной прихоти.
– И помни: то, что ты возьмешь сейчас – останется при тебе на годы. Возможно, такого шанса не случится более уже никогда.
И больше Джон Хепберн Брихин не сказал племяннику ничего, что могло бы хоть отчасти отражать его интерес к дальнейшей судьбе главы рода.
Шотландия, Эдинбург, весна 1543
Трижды высылали вперед глашатаев Аргайл и Хантли, уведомляя регента, что требуют его к себе для объяснения. Требуют – не призывают, ибо он попрал доверие королевы, воспользовавшись ее юным возрастом, и свой высокий пост, приняв решения, направленные не ко благу страны и Ее величества. Войска лордов миновали Фолкленд и Данфермлин, двигаясь вдоль побережья к югу, и встали на очередной ночевке в виду замка Стерлинг, внизу, под крепостью, где когда-то давно епископ Брихин командовал сбором войск, направляющихся на Эдинбург… шпионы Дугласов и Гамильтонов шныряли вокруг армейских костров так, словно правитель королевства и не был открыто оповещен от целях и намерениях «Мятежного Парламента». Шпионы несли разные слухи в Эдинбург, в Холируд – то об ужасающей численности войск, то о планах сместить правителя, то о заговоре с целью его убийства. Но последнее регент высмеял, указав на то, что собственный его брат никогда бы не стал принимать участие в подобном мерзостном деле – яростная честность приора Пейсли была равно известна и врагам его, и друзьям.
– Ну? – спросил регента Джордж Дуглас Питтендрейк. – И к чему это привело – то, что вы взялись подумать над делом Босуэлла? Говорил же я вам, дорогой мой милорд-правитель, светлая вы моя голова, купить надо этого мерзавца! Купить! А теперь у клятых горцев Аргайла и Хантли в его лице появилась конница… а конница – это прескверно!
– И купил бы! – огрызнулся регент. – Если бы собственный ваш племянничек, любезный сэр Джордж, не завел с ним свару в самый неподходящий момент… Теперь мне придется просить брата Клидсдейла примирить вас, прежде чем Босуэлл согласится хотя бы войти под один и тот же кров с Дугласами.
Регент с самого утра чувствовал себя прескверно, кроме-то новостей из Стерлинга о надвигающихся бунтовщиках. Головная боль и сама по себе не подарок, а когда она сопровождается таким отеком носоглотки, что не вздохнуть…
– Подогрей красного, – с отвращением велел пажу Джеймс Гамильтон, граф Арран. – Имбиря, перца, кардамону туда побольше…
Джордж Дуглас Питтендрейк, самый хитроумный человек в Шотландии, стоя за спинкой кресла регента, с иронией обозревал вышитый жемчугом кант его боннета. Трудно быть престолонаследником, когда ты вовсе не приложим к этому делу тонкими гранями души, но почти невозможно, если и телесная немощь твоя такова, что три четверти года ты хвор различными недугами – не слишком тяжкими для исполнения официальной роли, но весьма досадными. Перемена погоды – и та отзывается в тебе нещадной головной болью. Вот за это самое, большего всего остального, люто не любил граф Арран быков-горлопанов вроде Босуэлла, Аргайла и Хантли – за несокрушимое здоровье. Эти черти могли пьянствовать и кутить всю ночь напролет, а наутро, когда бы регент слег в полном бессилии, выйти в поле с мечом и баклером грозными противниками для любого врага.
И ни за что бы не признался Джеймс Гамильтон никому, и себе самому – в первую очередь, что болеет от страха – страха совершить глупость и стать смешным в глазах целого королевства, как прежде он боялся не оправдать надежд дряхлого отца и ошибиться под темным и внимательным взглядом Финнарта. Теперь, когда обоих судей его уже не было в живых, тени их по-прежнему смущали покой его ума. Но, в конце концов, если регенту и не совладать с демонами прошлого, всегда можно прибегнуть к настоящим демонам, к родственникам по жене. Дугласы. Надо использовать Дугласов.
– Договоритесь с ним, дорогой сэр Джордж, – обаятельно улыбнулся граф Арран, мечтая, чтоб голова исцелилась сама собой, без кровопускания, а Питтендрейк сей момент провалился туда, откуда он родом – в преисподнюю. – Ваш старый враг… вам и карты в руки! В конце концов, все эти слухи о нем – про английское золото, про то, что он принял за Каналом истинную веру – они ведь неспроста. Босуэлл может стать нам недурным союзником в делах с англичанами, если ваш брат, доблестный граф Ангус, перестанет сердиться на него за детскую выходку.
Детская выходка стоила семье Дуглас около сотни человек мертвыми, власти в стране и почти пятнадцати лет изгнания. Нет, подобное поручение регента – совсем не то, на что надеялся Питтендрейк, входя в пышные покои Аррана нынешним утром.
Джордж Дуглас покинул Холируд с неприятным чувством, что сопляк обставил его. Верткость Стюартов, как оказалось, присуща даже правнуку короля.
Шотландия, Мидлотиан, весна 1543
Медленно полз хвост пяти с лишним тысяч человек – конница и пехота – по раскисшим дорогам, в дождь и вёдро, все ближе и ближе к насторожившейся столице. Лорды не торопились в явно изменнических поступках, несмотря на горячность в словах. До Эдинбурга оставалось полтора дневных перегона, ежели повезет с погодой. Городки обходили стороной, чтоб не нарваться на засаду, шатры на ночлег ставили в чистом поле, и только потом слуги россыпью разметывались по округе, обирая местных на снедь для стола господ. Хэмиш МакГиллан выстилал войлочными коврами пол в шатре, разжигал огонь, укладывал пледы на низкие походные кровати – ременная сеть, натянутая на деревянную раму. Брихина служки разоблачили из промокшей по подолу фиолетовой сутаны, расшнуровали исподний джек, епископская шапочка, заброшенная в изголовье постели, обнажила еще больше седины вокруг выбритой тонзуры. Это голое пятно на черепе Джона Хепберна смотрелось крайне нелепо, ибо не было ничего в железном Джоне от человека, которому впору носить образ нимба на голове. Укрывшись пледом, он почти сразу сомкнул глаза, однако не для сна, скорей уж, для размышлений. Белокурый тем временем при помощи Тома Тетивы высвободился из липкого от влаги плаща, промокшего в рукавах дублета, встряхнулся, потянул затекшие плечи…
– Кажется, отбил себе всё, аж звенят, – поморщился Босуэлл. – И испытываю огромное искушение сесть прямо в жаровню, чтоб просушиться хотя б отчасти…
– Тогда еще и испечешь, – безжалостно предположил Брихин. – Надо же, а было время, ты выдерживал верховую прогулку в ночь от Фолкленда до Стерлинга и наутро – от Стерлинга до Эдинбурга… без единого писка!
– Сравнил! – хмыкнул Босуэлл. – Я был в два раза моложе. И в три раза глупей.
– Скажи лучше, что разленился за время венецианских развлечений – под южным солнцем и среди куртизанок… да еще всю зиму просидел в Хермитейдже на своем сиятельном заду, вместо того, чтоб провести это время в седле.
– Ты считаешь, я был не прав и упустил момент?
– Что я считаю, уже не имеет значения, ибо время в самом деле упущено. А это ценный ресурс, который можно растратить как на добро, так и во зло.
Но «куртизанки» и «время» сложились в голове Белокурого внезапно в иную картинку:
– Погодите с моралью, ваше преподобие, ведь у меня есть для тебя подарок, дядя.
– Подарок? – удивился Брихин. – К чему эти нежности? Тебя и впрямь испортили итальянцы.
– До некоторой степени, – согласился, ухмыльнувшись, Белокурый и вытянул из-под изголовья постели тонкий том в переплете лучшей флорентийской кожи. – Мне подарил это один мой тамошний друг… ныне, правда, покойный. Книга на тосканском, латинский перевод волею случая уплыл у меня из рук, но я переведу тебе кой-что с листа… А после сам найдешь переводчика, коли захочешь.
Взрывы смеха, возгласы одобрения и отборная гэльская ругань, в волнах которой служки епископа упорно старались не различать также и голос святого человека, раздавались далеко заполночь из шатра графа Босуэлла.
– Мы выиграем у них по числу голов, – пробормотал епископ свое резюме, уже засыпая, почти сквозь сон. – Помяни мое слово… завтра отдохнешь в Босуэлл-Корте, в согретой постели, под сухой крышей.
Так и случилось.
Граф Арран собрал всего лишь три тысячи человек – Гамильтоны и Дугласы – и вышел навстречу устроителям «Мятежного Парламента Перта» к Фалкирку, лорд Ливингстон, его правая рука, выступил переговорщиком. Аргайлу, Хантли и Босуэллу было предложено явиться в Парламент и огласить там перед Тремя сословиями свои обвинения регенту. Весть эту принес Босуэллу Рональд Хей, двигавшийся во главе колонны вместе с волынщиками Аргайла – принес в жестоком разочаровании.
– Говорю же: плетей давно не получали, – и Гиллеспи Рой Арчибальд на мгновение показал капкан волчьей пасти в характерном насмешливом зевке.
Шотландия, Эдинбург, весна 1543
Кабинет, в котором тысячу лет назад Джон Хепберн, епископ Брихин, плел заговор в пользу короля – блистая молодой дерзостью, не сдерживая ни сил, ни властолюбия – ныне был освещен скудно и плохо протоплен, из углов комнаты слабо тянуло сыростью. Босуэлл не был здесь года два с половиной, в столь тщательно восстановленном дядей фамильном гнезде, и теперь его заново предстояло проветривать и обживать: ведь если двор королевы в Линлитгоу, то Арран держал свой в Эдинбурге, в Холируде, а он сам уже в том возрасте, когда спать предпочитаешь в своей постели, не на постоялом дворе.
– Если бы ты позволила помочь тебе…
Женщина смотрела в окно, устало прислонясь к тяжелой резной раме:
– Не стоит, милый мой. Когда дело повернется совсем скверно, ты ведь скажешь мне… и я не стану возвращаться в Карлаверок, а открою здесь Максвелл-хаус, который слишком давно стоит впустую… и потом, я могу уехать к Дженет.
Певучий грудной голос, который он так любил, который помнил прежде всех остальных в своей жизни, и разве что голос покойной кормилицы МакГиллан мог бы соперничать с ним в темных глубинах памяти.
– Не всегда тот момент, когда дело оборачивается скверно, мама, можно назвать вовремя. Тебе не следует возвращаться в Карлаверок теперь, когда лорд Максвелл в Тауэре и всеми его делами заправляет Роберт…
– Всеми, но не крепостями, их мой муж доверил младшему, Джону. Я всегда с ним ладила, и не могу пожаловаться на дурное отношение с его стороны. Тебе не стоит вмешиваться, Патрик.
Босуэлл расхаживал взад и вперед по кабинету – вещи здесь оставались на тех же самых местах, что и были, когда он покинул дом, уезжая в Стерлинг, к первому родоразрешению королевы, а оттуда – уже в Хермитейдж и в изгнание. Бронзовая статуэтка Амура на столе еще удерживала обрывок незаконченного письма… кому бы он ни писал в тот день, теперь это уже не имело значения. Тогда Ролландстон предостерег от посещения Босуэлл-Корта, где Дивного графа караулили люди короля… и два года Джеймс Стюарт боялся не то, что подступиться к опустевшему логову кузена – но хотя бы и подарить его кому-либо. Возвращаясь, Босуэлл предполагал, что придется силой выселять новых владельцев, однако снова запертое на ключ время, застоявшееся, густое, как крепкое вино, поджидало его за дверью. Время – и пустота.
Он остановился за спиной у матери, отвечал ей с плохо скрытым неудовольствием:
– Могу сказать одно – ты слишком независима для женщины.
– О да! Но не беспокойся, – Агнесс Стюарт Хепберн Хоум Максвелл обернулась, отвлекшись от созерцания унылой картины заднего двора, покрытого пятнами черной земли, вынырнувшей из-под снега, мимолетно улыбнулась. – Я всегда помню, что до некоторой степени нахожусь под твоей опекой, мой милый. И эта мысль греет мне сердце. Однако я здесь не для того, чтобы жаловаться. Скажи мне лучше, что ты намерен делать?
– Почему все спрашивают меня об этом – теперь, когда я и сам толком не знаю?
И тут Агнесс Максвелл уловила на лице сына свою собственную улыбку, и это было странное ощущение – казалось, больше ничем они не похожи, да и не могли быть похожими с этим крупным, опасным, сильным мужчиной.
– Потому что ты лжешь, Патрик, когда говоришь «не знаю» – и мне лжешь, и всем остальным. Я знаю тебя лучше, чем ты думаешь, хотя ты рос и мужал вдали от меня. И уж мне-то известно, когда ты задумал что-то, от чего не отступишься… вот я и спрашиваю, что именно?
Он отвечал ей, как отвечал дяде, как отвечал всем, кому не желал открыться. В игре, которую Патрик начинал, есть те, кто попытается уничтожить его, узнав пресловутые планы, и остальные, для кого эти планы могут быть опасны, потому что они – часть уязвимости графа Босуэлла, которую он тщательно скрывал:
– Не знаю, мама. Для начала мне нужно вернуть свое, отобранное. А после… отчего бы не вернуть то, что принадлежало первому графу, моему деду?
Леди Максвелл помолчала, взвешивая прозвучавшие слова, как аптекарь взвешивает дозу яда – или целебного снадобья. Патрик рассматривал мать: медь волос ее светлела с годами, увенчивая золотом прекрасную голову. Грудь Агнесс Максвелл теперь по возрасту целомудренно скрыта сорочкой и партлетом, но вырез густо-кровавого дорожного платья, отделанный жемчугом и мелкой шпинелью, был по-прежнему горделиво низок. Что бы ни случалось в ее жизни, леди шла в бой с открытым забралом, пренебрегая опасностью. И, видит Бог, в этом они родня.
– Что ж, – сказала она наконец, – цель достойная, а о средствах мне, как слабой женщине, лучше не знать, не так ли?
Мать и сын опять обменялись очень похожей улыбкой.
Слабая женщина? Кто угодно, но только не Агнесс Максвелл.
– Но и опасностей ты навлечешь на свою голову довольно. Мое же дело – молиться, чтобы ты ее сберег в целости и сохранности.
– И теперь, когда ты все знаешь, спрошу в свою очередь… что будешь делать ты?
– Уеду на север на некоторое время… паломничество по святым местам не повредит ни моей душе, ни твоей – особенно утруждаемой теми заботами, что ты назвал мне. Стану молиться за Джона… до тех пор, пока не станет понятно, примут ли англичане за него выкуп или оставят в Тауэре. Тогда я приму решение. Как странно, – медленно произнесла леди Максвелл, оглядываясь. – Я не была тут лет тридцать, и не предполагала очутиться в Босуэлл-корте снова… теперь я совсем чужая здесь, и каждый угол комнаты, каждая драпировка на стенах твердит мне об этом.
– Здесь был кабинет отца?
– Нет, здесь была его спальня… – она поправилась. – Наша спальня.
– Дядя Джон все переделал в двадцать восьмом году, когда мы приехали ко двору, камня на камне не оставил от прежнего дома, разве что печные трубы… Это же Брихин!
– Да, это Брихин, – эхом согласилась она.
– Он отправился сразу на юг, не пожелав даже переночевать.
– Его можно понять, – неожиданно веско отвечала леди Агнесс. – Какие бы воспоминания не привязывали его к этому дому нынче, в прошлом Джона Хепберна довольно зла… приобретенного его душой среди этих стен.
Первый раз мать заговорила о епископе открыто – тем удивительней был такой ее первый отзыв.
– Ты считаешь его злым? Отчего же доверила мое отрочество его трудам?
– Я считаю, что ни ты, ни я не можем знать глубин души Джона Хепберна. И я не доверяла тебя ему – хотя это оказались лучшие руки из всех возможных. Кто бы мог подумать, когда… – она осеклась. – Ты забываешь, Патрик, что меня никто не спрашивал. Будь моя воля, я бы не рассталась с тобой никогда.
Прошуршало плотное сукно дорожного платья, две руки обвились вокруг его шеи, и теперь уже она – не он – по разнице в росте могла припасть, спрятать лицо на груди. Долгий вздох Агнесс Максвелл – с закрытыми глазами, в том умиротворении, которое получала она, ощутив достоверно, телесно: вот он, сын, он рядом, он жив, он благополучен. Тот день, когда проснулась лишенной ребенка, до сей поры возвращался к ней в кошмарных снах, и всегда финал был несчастлив: мальчика убивали, или он погибал, или был изведен отравой…
– Я люблю тебя. Помни об этом всегда, и Господь тебя сохранит.
Столько отчаянной любви к нему он не встречал ни у одной из женщин, ни одной женщины ему так не хватало, как матери – когда-то давно, но этот голод, прошлый, утолить уже не придется. Теперь он брал то, что мог, и был благодарен небу за это.
И Босуэлл вышел во двор, не стыдясь на манер грума подсадить мать в седло, охватив ладонями все еще тонкий стан почти пятидесятилетней женщины… все еще красивой – жалкие слова, говорящие только о хрупкости женской жизни и красоты сравнительно со жребием мужчины и воина – вспоминая те дни, когда, приезжавшая к нему в Сент-Эндрюс, она, нынче едва достигающая его плеча, спешиваясь, казалась такой высокой, прекрасной, грозной… Утихла гроза в пылком нраве Агнесс Стюарт, но зрелая красота осени облекала ее, как мантия – королеву.
– Сейчас ты очень похож на своего отца.
Она не сказала – которого.
Но он давно уже и не спрашивал.
Наклонясь с седла, королева запечатлела на лбу его поцелуй, и «Уордлоу! Уордлоу!» – Максвеллы отбыли. На Север или открывать фамильный дом, там будет видно, куда повернется судьба. Он давно вырос и, в отличие от одинокого мальчика в Сент-Эндрюсском замке, знал, что каждая их встреча может стать последней.
В первых числах апреля королевский замок Дамбартон спустил подъемный мост надо рвом и отворил ворота, Дамбартон принял в свои объятия пришлеца. Два корабля под флагом Его величества Франциска пришвартовались в гавани, покорив дурную погоду и северные морские пути, и по сходням на берег сошел, брезгливо оглядываясь и стряхивая с рукава дублета невидимую пыль странствий, молодой человек – высокий красавец в темно-зеленом дорожном костюме, с узкой талией девушки, еще дополнительно перетянутой немецким колетом, с очень белой кожей лица и маленьких рук; волосы под бархатным черным боннетом были того огненного цвета, за который рыжих прозывают поцелованными солнцем. Тонкие, будто удивленно приподнятые брови, маленький яркий рот, темные глаза… и самое неприятное, думал регент, что этот офранцуженный франт холост, хотя ему уже двадцать шесть лет, а королева-мать, по слухам, зазвала его на родину из-за Канала именно надеждой на брак. Кардинал Битон больше двух месяцев находился в заключении, но последствия его прежних подкопов под регента Аррана, тем не менее, выплывали все гаже – с каждым днем. Джеймс Гамильтон мог перекрыть все порты восточного побережья, что он и сделал – чтобы предотвратить сношения королевы-матери с Францией, где стала бы она искать естественной поддержки, и он отдал соответствующий приказ и коменданту Дамбартона, но гарнизон принял иное решение, гарнизон, ранее накрепко стоявший против любого внешнего врага Шотландии, поскольку регент регентом, но присяга лорду первична. Ибо домой вернулся капитан французских гвардейцев – во главе сотни тех самых гвардейцев – Мэтью Стюарт, четвертый граф Леннокс.
Претендент на престол и кровный враг Джеймса Гамильтона, второго графа Аррана.
Соперничество Гамильтонов и Стюартов, основанное на доле королевской крови в каждом роду, тянулось примерно век, и вроде бы завершилось двадцать лет назад, когда Джеймс Гамильтон Финнарт по приказу своего отца, первого графа Аррана, обезглавил пленного третьего графа Леннокса – за изменническую попытку захватить малолетнего короля. И когда двое сыновей казненного, Мэтью и Роберт, бежали во Францию, и когда двое его дочерей, Элизабет и Элеонора, были отправлены в монастырь, а после изгнания Ангуса приняты бесприданницами ко двору молодого короля, тогда, при жизни Джеймса V Стюарта, никому бы и в голову не пришла эта противоестественная и трагическая коллизия: однажды в стране окажется три наследника престола, трехмесячная девчонка Мария Стюарт и двое претендентов по женской линии, ровесники, взрослые мужчины, Арран и Леннокс. Арран, чтоб сбросить со счетов сторонников французской вдовы Аргайла и Хантли, выпустил из тюрьмы потомственного лорда Островов Дональда Ду и заложников горских кланов, но кардинал Битон ответным ходом призвал в страну Леннокса, чтоб тем самым испортить игру Аррану. Что он пообещал ему, пленный канцлер, в своем легендарном письме – письме, написанном под его диктовку Марией де Гиз – брак с престолонаследницей, как морковку, подвешенную перед носом голодного осла на ближайшие пятнадцать лет? Руку королевы-матери в случае, если Леннокс поможет ей завоевать по праву принадлежащее де Гиз регентство? Или, не дай Господь, и сам трон Шотландии в обход девчонки Стюарт? Битон не уставал говорить публично, что из Леннокса получится куда лучший король, чем получился бы из Гамильтона!
Его милость правитель Шотландии Джеймс Гамильтон, хмурясь, читал донесения своих шпионов с западного побережья. Устье Клайда закрыто для регента – теперь, когда Дамбартон взял сторону своего исконного хозяина.
Мэтью Стюарт поднял в седло своих гвардейцев и мчался на крыльях страсти и тщеславия в Линлитгоу.
Патрик Хепберн пробудился в Босуэлл-Корте довольно поздно, отсыпаясь с дороги, и когда Роберт Бернс вбежал в холл, торопясь изложить сплетню, Хепберн и Хей делили хлеб и эль за неспешным разговором и завтраком.
– Ну, вот теперь и начнется… – сладко потягиваясь, сказал Белокурый. – Теперь и начнется, Рон.
Но не уточнил, что.
Конечно, он так и не поднял четыре тысячи, как лихо пообещал кузену, но поднял и содержал две – столько, сколько смог быстро собрать и экипировать на деньги, занятые у Джорджа. Зато эти две тысячи, отощавшие за зиму на скудном пайке вилланов, были свирепы, как волки. Белокурый ни на минуту не забывал теперь о самом простом – о засадах в лощинах, об узких улицах обеих столиц; не меньше полусотни всадников сопровождало графа Босуэлла по всем пустячным делам, и Рональд Хей, негласно ставший в те поры капитаном охраны графа, бдительно следил, чтобы это правило не нарушалось и в мелочах. Сотня рейдеров была при нем при посещении Парламента в Эдинбурге, когда Хантли, Аргайл и Босуэлл явились перед Тремя сословиями дать ответ за свое мятежное поведение, на деле же – так искусно опорочить Аррана в глазах публики, чтоб самим занять место при его особе, для совета и усмирения проанглийских намерений регента. Хантли, невысокий, крепко сбитый, несмотря на свои двадцать восемь лет уже начинающий полнеть, разодетый с роскошью настоящего горца, хотя и облагороженного двором, в цвета своего клана, говорил добрые три четверти часа – резко жестикулируя, не стесняясь в выражениях. Несколько раз речь его прерывали свистом и улюлюканьем, но тотчас в толпу кидались клансмены Сазерленда – и следующие мгновения слуги регента, надрывая горло до хрипа, страдая от перепадавших и им тумаков, возвращали благородных лордов к порядку. Когда Джордж Гордон закончил речь, с лица его капал пот, а черные кудри кольцами налипли на мокрый лоб… и тогда раздались первые аплодисменты и возгласы одобрения. Из Парламента они вышли триумфаторами, Рональд Хей отозвал стрелков-аркебузиров, занимавших посты возле каждого окна, а после Гордон и Хепберн направились в Хантли-хаус, обсудить и обговорить грядущее. Оба молчали весь долгий ритуал ужина, пока мажордом высылал стюардов расстелить скатерть и выложить приборы, пока слуги уставляли снедью два буфета, резали жаркое на куски, разливали по кубкам красное… Хантли, переодевшийся в свежее белье, у себя дома обернутый в тартан, развалился в кресле во главе стола, отдуваясь и мотая головой – вспоминал битву, Босуэлл, откинувшись на спинку кресла, крошил в пальцах хлебный мякиш, мелкими, редкими глотками уговаривал темный эль, смотрел поверх головы хозяина дома, думал, а после внезапно произнес в своей излюбленной манере – как если бы продолжал беседу, прервавшуюся всего лишь на час, не на пару недель:



