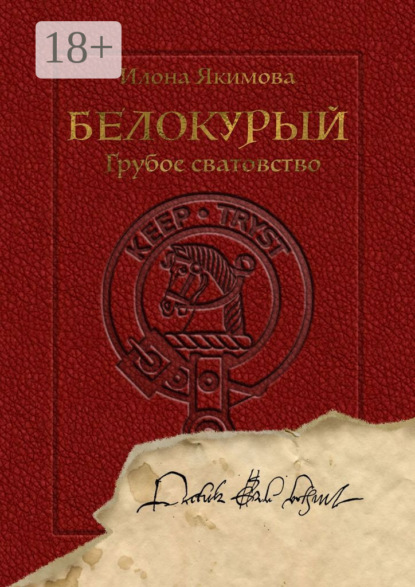
Полная версия:
Белокурый. Грубое сватовство
– Возможно, но почему вы думаете, что я легко поверю вам, граф? Именно теперь, когда я окружена более противниками, чем сторонниками, когда всякий день сулит мне новое разочарование и опасность?
Волнение первой встречи миновало, и не было в нем сейчас темной магии тела, окутавшей ее вначале так люто, так дурманяще. Сейчас она только любовалась стоящим перед ней мужчиной – его красотой, силой, зрелостью, свободой – поневоле, даже не желая прельститься. И всему этому – совершенству Божьего творения, внешне явленного в нем, она и улыбнулась в тот миг, улыбнулась быстро, почти случайно. Но Белокурый поймал эту короткую улыбку и вернул – с лихвой, а когда граф улыбался, казалось, летнее солнце пронзало скудный на радость мартовский день, освещало прохладно протопленный кабинет королевы до последнего сумрачного уголка.
– Потому, – отвечал он бессовестно, – что лишь вам и никому другому ведома тайна моего сердца. И только у вас, и ни у кого другого, есть право на мою верность – большую, чем мог обещать я Джеймсу даже в лучшие годы, помилуй, Господи, его душу, бедняги. Я заслужу ваше доверие, моя прекрасная госпожа…
– Это будет зависеть только от ваших стараний, граф.
Теперь смотрел в пол, скромно не поднимал глаз.
Уж он постарается.
Леди останется довольна.
Шотландия, Пертшир, Перт, весна 1543
Перт кипел.
Люди границы и люди гор, горцы Хантли и островитяне Аргайла, кожаные куртки рейдеров Босуэлла, сто пикинеров Сазерленда и еще сто конных – на лохматых пони, снабженные баклерами, палашами, секирами. С конницей в Шотландии традиционно была беда, потому все очень ждали Хепберна. Конечно, Белокурый не выставил в поле четыре тысячи, но собрал две, и последние две сотни, продравшись в Мидлотиане сквозь земли Дугласов и Гамильтонов, как собака сквозь частый репей, привел ему Хаулетт Хей – на своем огромном гнедом, хрипатый от ветра, задумчивый от предвкушения резни. Ватага голодных и злых оборванцев в потертых джеках, заляпанных грязью сапогах, красующихся «щеколдой» за плечом или пистолем у пояса, с упоением несущих на губах имя Босуэлла, его боевой клич, от которого во времена его деда с почтением припадало на колено пол королевства… и во главе их – сам Патрик Хепберн, злой, веселый, голодный – злой от зрелой бурлящей силы, веселый от опьянения азартом, голодный гладом не тела, но духа, но яростного честолюбия. Наконец Босуэлл был снова в седле, в сваре, в интриге, в Мидлотиане – и жизнь сама текла через его тело, как кровь по жилам, он ощущал ее горячность и горечь в каждом ударе пульса, и был счастлив без меры. Собственно, это даже было не счастьем, но полнотой существования. Перт, город Святого Джона, трещал по швам, и новые, всё прибывающие войска становились на смотр уже вне границы городских стен.
Хантли командовал смотром в поле, а с Аргайлом они столкнулись в виду городских ворот. Рой окружен был пешими островитянами: все огромного роста, как на подбор, обросшие бородами в пол-лица, вооруженные полуторными мечами, попадались, впрочем, у них и двуручники, и крюкастые лохаберские секиры – ими можно размозжить нападающему череп одним движением руки. И шерстяные валяные боннеты, сине-зеленые пледы поверх сорочек, голые голени, гетры – так презираемое Ангусом облачение диких племен. Он орали, как горцы, смердели, как горцы, смотрели на долинных сверху вниз, как настоящие горцы – словом, Босуэлл в момент снова ощутил себя в горах, и на гэльский в разговоре перешел почти безотчетно. Рой был прекрасен – настоящий варварский, архаичный вождь, он был одет ровно так же, как его воины, выделяясь не роскошью костюма, но силой духа и свирепостью нрава. Вороной жеребец под ним тут же попытался укусить в шею кобылу Хепберна, а две огромные белые собаки Аргайла подняли чудовищный лай – и Босуэлл был совершенно заворожен ими.
– Откуда они у тебя, Рой? – спросил он, завидуя мучительно, как мальчишка.
– Скрестил белую волчицу с красноглазым волкодавом, – отвечал Гиллеспи Рой Арчибальд, насмешливо прищурясь.
Злобные демоны рвались с поводка, привязанного к луке седла, они были похожи на тех боевых псов, что Босуэлл видел в Италии, однако почти совершенно белые. Горцы говорили про своего вождя, что в этих тварей переселяется дух его женщин, чтобы служить лорду и после смерти – Аргайл недавно второй раз овдовел, и у обеих жен его был на редкость скверный характер. На подгрудках у зверюг рассыпались мелкие серо-черные пятна, и уши собак на солнце горели розовым.
– Тебя, должно быть, с ними вместе принимают за Дикую Охоту…
– А прокатись со мной как-нибудь в сумерках! – хохотнув, отвечал Рой, и оглушительный лай перекрывал его речь. – Увидишь… да к этому не подходи – залижет насмерть! Тролль, заткнись! Фрейя, сидеть!
– Я заплачу за потомство, сколько скажешь.
– Тебе с ними не справиться, твое дело лошадное. Еще отожрут как-нибудь ночью тебе кой-что важное – королевины фрейлины плакать будут… ты не знаешь меры в своих желаниях, Босуэлл. На кой ляд тебе еще и собаки?!
Белокурый улыбнулся в ответ:
– Рой, да ведь знать меру своим желаниям – это же не про Хепбернов!
Аргайл тем временем, мельком глянув ему через плечо, скинул со своей обритой до блеска, гладкой, как пушечное ядро, головы боннет, замахал им из стороны в сторону и проорал на хайленд-гэльском что-то такое, отчего вороной под ним присел, пара ближних горцев-телохранителей побагровела лицом, а подходящий к городу отряд пехоты покорно начал перестроение… на них были все те же цвета Кемпбеллов – сине-зеленые пледы с белой и желтой полосой, на штандартах в солнечном небе хищно цвел черно-желтый герб Аргайла.
На троих братьев Хепбернов, сыновей первого графа – по одному сыну у каждого, два Патрика, один Джеймс. Мастер Болтон, Патрик, болен с рождения различными хворями, а мастер Ролландстон, Джеймс – именно с ним Белокурый беседовал сейчас на ступенях ратуши – без пяти минут бургомистр Перта. Если Аргайлу было везде поле битвы, если Хантли выбрал город Святого Джона по близости его к предгорьям, то Босуэлл согласился на Перт потому, что и здесь у него была своя рука и подмога. Ведь Джеймс Хепберн за то, чтоб действительно стать бургомистром, подставит плечо своему графу с огромным удовольствием… С Джеймсом они виделись за всю жизнь несколько раз, но, в отличие от мастера Болтона, в обоюдной симпатии. Максвелл по матери – она приходилась дальней родней Джону Максвеллу, отчиму Белокурого – Джеймс был высок и тёмен, однако на диво спокоен нравом, словно горячность, помноженная на горячность, охладила саму себя, а манера говорить приглушенно и не поступать, не обдумав, выдавала в нем – внезапно – еще одного племянника епископа Брихина, удавшегося в дядюшку.
Джеймс, надлежаще приветствовав двоюродного брата, сразу перешел к делу:
– Собрано порядка четырех тысяч, мы готовы кормить эту толпу не больше двух дней, так что я бы поторапливался со сборами.
– А кого еще ждем?
– О! – на худом лице Джеймса Хепберна мелькнула сдержанная усмешка чиновника. – Ты ни за что не догадаешься, Патрик…
Люди шли не только с границы, с севера и из владений Джеймса Стюарта Морэя, который, зеленый от желудочной колики, тем не менее, сел в седло – люди шли, поднятые по слову Божию мирными клириками, воистину святыми людьми, в том числе – епископом Абердина Уильямом Гордоном, епископом Глазго Гэвином Данбаром, епископом Морэя Патриком Хепберном Бинстоном и епископом Брихина Джоном Хепберном – также.
Они встретились на главной площади, когда волны вооруженных людей соприкоснулись и слились – бескровно, перемешиваясь, словно вода, теплая и холодная. Оба сошли с коней и, когда Босуэлл обнял младшего дядю, руки его ощутили жесткие ребра стеганого джека под сутаной – епископ был верен себе. Несколько кратких мгновений потребовалось, чтобы обменяться взглядом, несущим большее, чем многие слова, когда в ближнем переулке чужие волынки нестройно завели очень знакомую тему. Выражение лица Джона Брихина для Босуэлла в пояснениях не нуждалось.
– Он верен себе! Опять украл мой пиброх! – расхохотался граф. – Боже правый, не приказать ли и моим вступить хором…
– С этим собачьим воем? – удивился железный Джон. – Да самые плешивые псы Аргайла имеют голоса приятней, чем волынщики нашего кузена, граф!
Бок о бок, Хепберны старшей ветви ожидали, пока кузен Морэй – в паланкине, как приличествовало духовному лицу, и в кирасе, как подобало воинственному прелату – появится на запруженной народом площади Перта в сопровождении своих солдат. Ныне бастарды его впрямь командовали пехотинцами Сент-Эндрюса, а внуки в должности пажей несли, покраснев от натуги, на отдельных носилках в кипарисовом сундуке парадное облачение и богато украшенный полуторный меч. На штандартах сияла вышитая золотом епископская митра, венчающая пятиконечную звезду Бинстонов – кроме львов и розы. Когда Бинстон Морэй, покрикивая на слуг, отдуваясь, начал выливаться из паланкина на ступени ратуши Перта всеми своими многими фунтами жира, Брихин и граф вновь мельком переглянулись. Все, как тогда, но совсем не так, как тогда… мальчик вырос и уверенно держался в седле, а епископ еще закалился телом и духом, но поседел. И не для свары ожидали они кузена, а для подмоги.
– О, быстротекущее время, – молвил Джон с глубоким сарказмом. – Сегодня Морэй на нашей стороне.
– Стесняюсь представить себе это, – хмыкнул Патрик. – Да и не будет ли нам больше поношения в такой помощи, нежели выгоды?
За минувшие полтора десятка лет Патрик Хепберн Бинстон Морэй репутации своей отнюдь не поправил, разве что дал себе труд узаконить нескольких бастардов, для которых запросил в Риме разрешения пойти по духовной стезе.
– Он – приор Сент-Эндрюса, мой милый, не забывай это. Одно имя святого города придает Бинстону вес, а нам сейчас не до щепетильности. В дни смуты союзники дороже денег.
– Собственно, и я о том же, дорогой дядя. Насколько хватит его союзничества? И не предаст ли, когда Арран пригрозит снять его с приорства, к примеру?
– Арран не сделает этого без Битона, даже если и пригрозит; пока что именно Битон – архиепископ Сент-Эндрюсский, и именно его Арран так удачно упрятал в чулан, а потом потерял от чулана ключи – где-то за пазухой у Дугласа Питтендрейка… Морэй знает, что сейчас со стороны регента ему ничто не грозит. А вот если на Морэя обидимся мы… Он – Хепберн, и прекрасно помнит это. Он никогда бы не стал епископом без поддержки старого Джона, Царствие ему Небесное.
– И почему ж тогда он разевал рот на меня семнадцать лет назад? – забавляясь, спросил Босуэлл. – Тоже из благодарности старому Джону?
– Он – Хепберн, – повторил Брихин с той же усмешкой и интонацией. – А какой Хепберн не попытается урвать того, что плохо лежит?
– Всё определяется кровью, – задумчиво согласился Босуэлл.
– Почти всё… – уточнил епископ. – Я – тоже Хепберн.
– И ты тоже с Божьей помощью везде возьмешь свое, а если надо – то и чужое. Благодарю Бога, что ты у меня в союзниках, а не во врагах, дядя.
– Самое точное выражение благодарности, что я от тебя слышал, – хмыкнул железный Джон. – Мне нравится.
Но был человек в этом восходящем вихре бунта, грубом, жарком и безжалостном, которого влекла не кровь, не страсть, не деньги, а исключительно убеждения.
Джон Гамильтон, приор Пейсли, прибывший в Перт из Франции, но перед тем навестивший королеву-мать в Линлитгоу, был родной брат покойного Гамильтона Финнарта и единокровный – Аррана и Клидсдейла. Тем неожиданней было его присутствие на «Мятежном Парламенте», что по крови он должен был всей душой стоять за регента – и все-таки Джон Гамильтон выбрал королеву. Двести человек пехотинцев, носящих его цвета – красный и синий, расположились лагерем вдоль берега Тея, там курились костры походных кухонь, оттуда несло запахом потажа и копченой свинины. Там сейчас, в шатре приора, обедали Хепберны, дядя и племянник.
Финнарт когда-то сам явился в Босуэлл-корт посмотреть на его молодых хозяев, нынче Патрик Хепберн выбрал ровно тот же способ посмотреть на приора, наскучив выведывать торные дороги через зятя – и напросился к нему на обед. Джон Гамильтон был сух телом, невысок, худ, и здоровая смуглота, которой блистал красавец Финнарт в молодости, в его лице переродилась в почти печеночную желтизну. Кроме того, он с рождения имел сухотку одной ноги – хромота, к которой он приспособился, и которая не мешала ему сидеть в седле, и в обычной жизни была едва заметна, тем не менее, стала причиной для церковной карьеры. Но духом он был воин, достойный покойного брата – Босуэлл поневоле любовался им, как любовался всяким достойным противником.
– Я стою с вами, Босуэлл, не потому, что мне по душе смута против законной власти – ибо власть, признанная Тремя сословиями, законна, даже если речь идет о моем брате, который, видит Бог, не самым лучшим образом пригоден для ее исполнения… Я стою против нарушения свобод Шотландии и попрания прав нашей государыни – что совершается моим братом ежечасно, начиная от богомерзких реформистских проповедников возле него, заканчивая преступным предложением о помолвке нашей королевы и принца Тюдора. И ежели вы, прикрываясь благими целями, тем не менее, ищете не правды, но личного возвышения – я вам не помощник.
Приор Пейсли изрядную часть жизни провел во Франции, оттого его шотландский был мягок, небезошибочен и обильно украшен французскими вставками – должно быть, подумалось Белокурому, сердце Марии де Гиз тает, когда она разговаривает с ним. Этот способ воздействия тоже можно учесть.
– И вы могли предположить, приор, – мягко вступил Брихин, – что нами движут столь низменные устремления?
– Вами? – переспросил Гамильтон, остро взглянув на епископа. – Вами – возможно, нет, но репутация вашего кузена епископа Морэя говорит сама за себя. Если бы не уговоры Хантли и ручательства моего брата Клидсдейла, я бы не встал на одно поле с приором Сент-Эндрюса.
Даже название приорства Морэя он произнес так, словно выплюнул нечто гадкое.
– Я вполне понимаю вас, – сердечно улыбнулся Джон, – но согласитесь и вы: даже самые заблудшие души внимают голосу правды в час раскаяния.
– Положим, для Морэя он не наступит и в Судный день, – отрезал Пейсли. – А вы что скажете, Босуэлл? – обратился он к до сей поры молчавшему Белокурому. – Зачем это дело вам? Особенно вам, известному своей приверженностью к английским кронам?
Тут полагалось возмутиться. Но офранцуженный приор еще не имел дела с бесстыдством настоящего рейдера.
– Моя приверженность английскому золоту, дорогой приор, – отвечал Патрик, ничуть не обидевшись, – известна только со слов Его покойного величества, Джеймса Стюарта, не так ли? Со слов того самого человека, который утверждал, что Джеймс Гамильтон Финнарт – предатель, лжец, убийца, изменник королю и королевству…
Лицо Джона Гамильтона побурело от прилива крови, но он не успел возразить.
– Из всех ваших братьев, приор, – веско продолжил Босуэлл, – не считая моего зятя, я более всего ценил старшего… и, честное слово, мне не по нраву регент. Я в этом деле затем, чтобы граф Арран не забывал, кто он есть – только первый подданный нашей королевы, не более того… на том стоим мы, бароны Приграничья Шотландии!
Церковь Святого Джона возносилась к небу уже почти триста лет к моменту, когда под своды ее вступили, громогласные и бранящиеся, мятежные лорды; отец Мартин, местный священник, полный возмущения, требовал, дабы надменные графы обнажили головы в доме Божьем, но более всего наседал на Аргайла – брызжа слюной ненависти к его гордыне и указывая на белых собак на сворке, вместе с которыми Гиллеспи Рой Арчибальд переступил порог и неторопливо двинулся в первые ряды паствы. Но Аргайл сдвинул брови и взглянул на старика в упор одним из тех прозрачных взглядов, от которых у людей, хорошо его знавших, шел холодок по хребту:
– Собаки – такие же твари Божьи, как мы с вами, спросите-ка об этом Святого Франциска, вы, преподобие! – отрезал он. – Им так же положен рай, как и всем прочим – а то и более, чем некоторым человечьим отребьям… Тролль, Фрейя, вперед, детки мои!
Толпа почтительно расступилась, когда Бурый волк со своими чудовищами проследовал вперед, к алтарной части, где и встал, расставив ноги, руки на поясе, а псы мирно улеглись у его ног, вывалив розовые языки, тяжело дыша. Отец Мартин сыпал проклятьями до тех пор, пока островитяне Аргайла не унесли его прочь, дабы бережно запереть в хлеву соседнего дома.
Первым говорил Уильям Гордон, епископ Абердина – крепкий, как древесный корень, выдубленный ветром предгорий, высушенный виски и внутренней желчью. Желчью он и поливал с амвона изменнические поступки Аррана в адрес Матери-Церкви, вопрошая, может ли быть блудный сын, сын нераскаявшийся – добрым отцом? Тот, кто предал веру свою, может ли быть отцом малютке-королеве и государству? За ним взял слово епископ Морэй, и все прошло вполне удачно, хотя бы потому, что из уважения к большому числу родственников в публике Патрик Хепберн Бинстон вышел на проповедь почти трезвым и говорил мягко, без уничижительных выпадов в сторону паствы, какие он позволял себе дома. Напротив, был похож на доброго дядюшку, взывающего к неразумным детям, и скорбно сетовал на гордыню регента, не позволяющую тому прислушаться к совету стольких достойнейших лордов, ныне собравшихся под мирной кровлей церкви Святого Джона… ибо гордыня ведет грешников в ад, где тело их в вечности пожрут ядовитые змеи, и выпьют их глаза, и пробуравят жалами печень. Гордыня – вот корень всякого зла и порока, изведем же ее! Морэя под белы руки сняли с возвышения двое его незаконнорожденных сыновей от жены сент-эндрюсского кузнеца и под сочувственные возгласы простого люда поместили в паланкин, дожидавшийся снаружи. Но подлинным голосом восстания, его проповедником и пророком, был, конечно же, Джон Хепберн, епископ Брихин… Как он говорил, мой Бог! Пласты небесного пламени слетали с его языка – и тихие голуби умиротворения. Стоя в первых рядах, Босуэлл промокнул глаза манжетой сорочки, чтобы только не рассмеяться в голос.
Джон Брихин выбрал для обращения к пастве стих из Евангелия от Иоанна: «и познаете истину, и истина сделает вас свободными», и возвел на нем стройное здание метафор, и при том был прост и понятен каждому пехотинцу Сазерленда, каждому островитянину Аргайла. Патрику еще не доводилось видеть младшего дядю в таком воодушевлении – если не считать Коугейтской резни. Что есть истина, вопрошал епископ у смущенных прихожан, и слепы ли те, кто не видят ее, или больны духовно? И сам отвечал: свет истины в том, чтобы во дни смуты отделять правых от виноватых, подлинное от ложного, здравое от извращенного. Свет истины в том, чтобы держаться устоев предков, оборонять свободу страны, сколь бы ни было соблазнительно искушение южного соседа, извечного врага. Свет истины в том, чтобы хранить верность – сердцем и душою – тому, кому приносили оммаж, и имени его, и семени его… Истина чиста и доступна каждому, и не прячется в одеждах из украшательств, и не просит снисхождения к своей слабости, и не ищет себе оправданий. Истина торжествует там, где гаснут прочие светильники, где ржа переедает любой меч. Узрите истину – и никто не опутает вас сетями лжи, ведущей к погибели, и станете свободны и в этом мире, и в том…
Как причудливо играет кровь, думал Босуэлл, глядя, как сияют его глаза, как свет озаряет лицо епископа Брихина при этих словах – свет подлинного прозрения, гласа Божьего. Когда инстинкт убийства, и жажда власти, и плотский голод, и железная воля, словом, все, из чего состоит пылкий дух Джона Хепберна, не могут найти себе выхода в границах разрешенной действительности – они куют из человека святого там, где в иных обстоятельствах он был бы сочтен дьяволом. Из чего слагается святость? И что мы понимаем под этим словом? Как точны его жесты, подчеркивающие изящество речи, как волшебно подвижен голос, берущий за душу… он смотрит на толпу так, словно видит каждого, и к каждому обращается лично, сердечно. Когда Джон Хепберн, с быстротой, несвойственной сану, но еще уместной по возрасту, спускался по стоптанным ступеням старой церкви Святого Джона, блаженные благословляли его и женщины целовали руки – как праведнику, как подлинному пророку.
На паперти старой церкви, под сенью голых ветвей спящего по весне пустого сада, лорды также говорили о своем – языком не церковным, но светским. Граф Морэй, морщась и держась за бок, рассуждал долго, ибо по дороге до обвинений Аррану Джеймс Стюарт дважды отвлекся на изложение побочной кровной вражды. Сазерленду, крайне воодушевленному, граф Хантли, тем не менее, предложил придержать язык. Сам Хантли, по деловым ухваткам которого было видно, что покойный король не зря оставлял Джорджа Гордона на регентстве, был занят тактическими и хозяйственными распоряжениями по войску, предоставив выражать чувства тем, кто этого жаждал более всего, а именно – Джону Гамильтону Пейсли. Приора слушали добрый час, и с ним соглашались, несмотря на снег, перешедший в дождь, а после заговорил Бурый волк. Аргайл выступил кратко:
– Сассенахов вон из страны! И Аррана – в шею из Холируда, если в нем духу нет стоять за исконные свободы Шотландии! – и процедил сквозь зубы фразу, которая всегда являлась у него выражением благодушного неодобрения на грани с угрозой. – Плетей давно не получали…
Островитяне и горцы стучали рукоятями мечей по баклерам в знак восторга, хотя граф говорил на нижнешотландском, и добрая половина его клансменов вряд ли поняла, о чем идет речь.
Босуэлл же выразился еще кратче Аргайла:
– За королеву и Шотландию – вперед, ребятки!
Это он проорал уже с седла, подняв гнедую на дыбы, и дружный вой, свист, улюлюканье рейдеров были ему ответом. Мокрый плащ лип к его плечам даже сквозь дублет, противно было до дрожи. Правду сказать, мало кто, как Патрик Хепберн, в этом походе так горячо интересовался королевой и так ничтожно – Шотландией.
Между рыцарем, вступающим в бой за честь своей дамы, и рыцарем, желающим ту честь заполучить, по сути, разницы никакой – ибо тот и другой рассматривают даму как вещь, как приз. Обоим ее чувства безразличны, верней, оба полагают, что ее дело – чувствовать себя польщенной и благодарной. За время похода Босуэлл утвердился в мысли, что королева должна быть счастлива, не иначе, принять его в свою постель – потому только, что он так хочет. Двигаясь из Перта на юг – епископ намеревался за своими делами навестить земли близ Крайтона – дядя и племянник ехали рядом. Давно забытое чувство – быть в седле плечо к плечу с Джоном Хепберном, давно прожитое и напрочь утраченное чувство безопасности, уверенности в напарнике, в родственнике по крови.
Джон Брихин довольно долго мельком поглядывал на племянника, прежде чем заговорил:
– И что ты намерен делать, позволь спросить?
– Вернуть себе свое. А там – как пойдет, – отвечал Белокурый не столь уклончиво, сколь задумчиво.
Четкого плана действий у него до сих пор не было, он, как всегда, шел по наитию, по чутью.
– На первый год задача понятная, – одобрил железный Джон, – но в целом, мелковата. Удивительное время сейчас – каждый может достичь, чего захочет, ибо короля нет… нет короля! Когда у нас последний раз было такое? Во времена Норвежской девы?
– Не помню. Но даю слово, что мне бы подошли любые другие времена попроще, дядя. Ни одного дельного человека при дворе… Рой хорош, но – та еще надежда на оборотня, сам понимаешь. Джорджи прекрасен в своей роли, но и у него есть недостатки. Я, того и гляди, начну жалеть о Джеймсе – как просто и ровно жилось мне у себя на границе, покуда кузен копался в этом дерьме… Но, главное, деньги, дядя… деньги! У меня такой дыры в спорране не было, сколь себя помню – спасибо покойному королю за это, да горит душа его в аду. А, казалось бы, богатство Босуэллов не вдруг пропьешь.
В паузах разговора, когда оступалась на рытвинах дороги гнедая, когда белый жеребец Брихина пробовал чудить, вдохновленный соседством с кобылкой – соприкасались полы плащей всадников, если не плечи их, и краем глаза Босуэлл рассматривал Джона Хепберна, дивясь, когда это успело случиться – середина пятого десятка, чуть впалые щеки, седина на висках, если приглядеться, весьма обильна… только шрам на скуле был на своем месте, загрубевший – повторно – после Коугейта, да серые глаза сияли все тем же ехидным огоньком, что пятнадцать лет назад.
– Не вдруг. Но ты учти, что сундуки не родят кроны сами собой. Пока ты жил здесь, тебе светила счастливая звезда, а последние два года урожай был весьма плох – каждое лето дожди без конца… и никто не водил больших рейдов из Хермитейджа, промышляли мелким разбоем, не пожируешь. Зря ты рассорился с Болтоном…
– Я с ним рассорился?! Помилуй Бог, дядя! Он не простил мне смерти Бинстона, да я и сам себе ее не простил, признаться.
– Как язычники, право слово, будто не христиане, – хмыкнул Брихин. – А Джон Бинстон впервые в жизни наконец-то обрел покой… – было у его преподобия удивительнейшее умение черное вывернуть наизнанку и получить белое. – Дело прошлое. Поезжай в Болтон.



