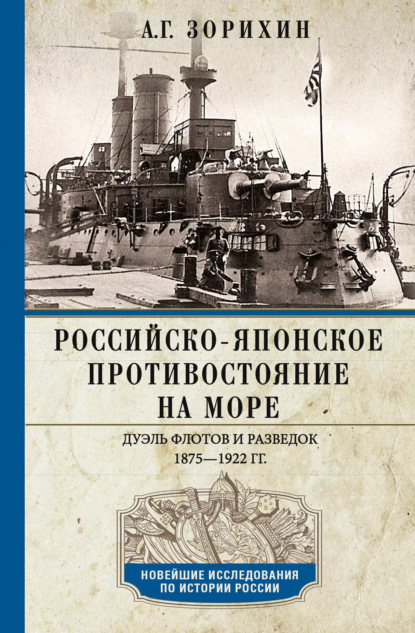
Полная версия:
Российско-японское противостояние на море. Дуэль флотов и разведок. 1875-1922
Следующими резидентами флота стали направленные во Владивосток в апреле 1889 г. капитан-лейтенанты Сакамото Хатирота и Номото Цунаакира. Их появление там только через 13 лет после Куроока можно объяснить тем, что состав Сибирской флотилии до 1887 г. был постоянным, а все корабли Тихоокеанской эскадры изучены японской разведкой во время их тимберовки в осенне-весенний период в Нагасаки, Йокогама, Хакодатэ или Шанхае. Лишь в 1886–1889 гг. на Дальний Восток прибыли новые вымпелы – минный транспорт «Алеут», миноносцы «Янчихе», «Сучена», канонерские лодки «Сивуч», «Бобр» и «Кореец», представлявшие интерес для разведки флота Японии. Кроме того, в 1883–1887 гг. во владивостокском порту были введены в эксплуатацию небольшой плавучий док и механическое (судоремонтное) заведение.
В течение 1889 г. Сакамото и Номото находились во Владивостоке как частные лица и совершенствовали знание русского языка, пока между российскими и японскими властями велись переговоры о прохождении ими стажировки на кораблях Тихоокеанской эскадры. При этом оба офицера в полной мере опирались на помощь учреждённого в 1876 г. во Владивостоке коммерческого агентства, которое не только исполняло обязанности дипломатической миссии, но фактически выступало организатором разведдеятельности МИД, МГШ и ГШ в Приморье. С марта по октябрь 1890 г. Сакамото стажировался на броненосном крейсере «Адмирал Нахимов», временно входившем в Тихоокеанскую эскадру по ротации с Балтийского флота, а Номото присоединился к экипажу клипера «Крейсер», также на время откомандированного из Кронштадта, завершив стажировку в сентябре 1891 г.67
Для замены убывших резидентов в июле 1890 г. во Владивосток был направлен капитан-лейтенант Ясиро Рокуро с документами прикрытия на вымышленное имя. Летом следующего года Япония попыталась добиться согласия российских властей на прохождение им стажировки на крейсере «Адмирал Нахимов» вместо ранее переведённого туда с клипера «Крейсер» Номото, однако получила отказ. В ноябре 1892 г. Ясиро вернулся в Японию, после чего ещё несколько раз вёл разведку с легальных позиций как военно-морской атташе в России (1895–1898) и Германии (1905–1908), а в 1914–1915 гг. возглавлял военно-морское министерство страны68.
Не имея возможности направлять офицеров разведки во Владивосток на постоянной основе в связи с кадровым голодом, в мае 1892 г. военно-морское министерство инициировало принятие специального постановления правительства о передаче напрямую докладов коммерческого агентства Морскому штабному управлению по интересующим его вопросам, и, как минимум, с апреля 1895 г. коммерческие агенты Футахаси Кэн, Номура Мотонобу и Каваками Тосицунэ информировали начальника МГШ о прибытии и убытии боевых кораблей, реорганизации Тихоокеанской эскадры, назначениях по гарнизону крепости и реконструкции порта69. Сотрудники флотской разведки выезжали во Владивосток только в период обострения военно-политической обстановки на Дальневосточном театре, как это было накануне японо-китайской и Русско-японской войн.
В европейской части нашей страны сбором информации о ВМФ Российской империи в целом, его Черноморском, Балтийском флотах, развитии судостроения и военно-морском искусстве с 1880 г. занимался военно-морской атташат при японской дипломатической миссии в Санкт-Петербурге. Как уже отмечалось, на должность атташе назначались, как правило, молодые офицеры с опытом разведывательной деятельности и знанием русского или одного из европейских языков. Практика отправки ВМАТ в Россию возобновилась после трёхлетнего перерыва весной 1886 г., когда в Кронштадт прибыл лейтенант Ядзима Исао (1888–1891), до этого работавший в Корее70. В последующие годы разведаппарат возглавляли владивостокские резиденты капитан-лейтенанты Сакамото Хатирота (1891–1893), Номото Цунаакира (1893–1895, 1898–1901), капитан 2-го ранга Ясиро Рокуро (1895–1898) и не имевший разведывательного опыта капитан 1-го ранга Сакаи Тадатоси (1901–1904)71.
Хотя о наличии у них агентурных источников информации ничего не известно, атташе могли по согласованию с царским правительством совершать ознакомительные поездки по военно-морским базам и важнейшим русским портам72. Правда, в ноябре 1899 г. Номото пожаловался Ямамото Гомбээ, что если раньше царское правительство позволяло осматривать базы, порты и заводы, то теперь разрешение аннулировано в ответ на отказ допускать русского военно-морского агента на объекты японского флота. В беседе с русским посланником в Токио Р.Р. Розеном Ямамото выяснил, что Санкт-Петербург расценил данный отказ как признак проводимых Японией мероприятий по подготовке флота к нападению на Россию. Японский министр возразил, что запрет на посещения касался только учений императорского флота и это была общепринятая практика в отношении всех без исключения иностранных атташе. После таких разъяснений Санкт-Петербург возобновил взаимные посещения военно-морских объектов и 14 декабря 1899 г. начальник Главного морского штаба вице-адмирал Ф.К. Авелан и 9 русских офицеров были награждены японскими орденами за то, что «не только брали на себя труд оказывать всяческое содействие нашему военно-морскому атташе капитану 2-го ранга Номото Цунаакира, что приносило огромную пользу, но и занимались организацией посещений прибывшими в Россию нашими офицерами флота оружейных, судостроительных, прочих заводов и военно-морских баз в случае поступления просьбы об этом с их стороны, участливо сопровождая их в ходе осмотров»73.
Разведывательные органы МГШ задействовали в полном объёме возможности по сбору данных о русском флоте накануне войны с Китаем в 1894 г., что обусловливалось, во-первых, усилением Сибирской флотилии в 1892–1894 гг. миноносцами «Сунгари» и «Уссури», а во-вторых, стремлением иметь достоверные сведения о намерениях и действиях Тихоокеанской эскадры для их учёта при составлении Ставкой оперативных планов кампании74. Во Владивосток в июне 1894 г. с паспортами на вымышленные имена выехали сотрудник 2-го бюро капитан-лейтенант Нисияма Санэтика и редактор этого же бюро Аихара Ситиро, в совершенстве владевший русским языком75.
Уже в первом донесении от 25 июня 1894 г. Нисияма проинформировал МГШ об отсутствии признаков подготовки войск Приамурского военного округа и боевых кораблей Тихоокеанской эскадры к переброске на Корейский полуостров. Вероятно, для Токио вопрос о возможности военного вмешательства России в корейские события представлял значительный интерес, поскольку и во втором донесении от 11 июля Нисияма доложил, что «прилагает все усилия для сбора информации о ситуации с отправкой войск из Владивостока», и сообщил о передислокации в район государственной границы 2 стрелковых батальонов и 1 артиллерийской батареи из Новокиевского (Краскино), а также о составе находившегося на стоянке во Владивостоке отряда боевых кораблей, который, как отмечал резидент, пока не планировалось отправлять к побережью Кореи76.
В последующих донесениях за сентябрь 1894 г.– апрель 1895 г. Нисияма информировал МГШ о составе, мероприятиях учебно-боевой подготовки, выходах в море Тихоокеанской эскадры, перебросках в Приамурский край пополнения из европейской части России, дислокации и вооружении частей сухопутных войск в Южно-Уссурийском крае77.
Несмотря на успешное завершение войны 17 апреля 1895 г., РУ МГШ не стало ликвидировать свою резидентуру во Владивостоке, поскольку через неделю после подписания Токио и Пекином Симоносэкского мирного договора Россия, Германия и Франция потребовали от Японии отказаться от аннексии Ляодунского (Квантунского) полуострова, а для демонстрации серьёзности намерений Санкт-Петербург объявил мобилизацию войск Приамурского военного округа. 2 мая владивостокская резидентура докладывала по этому поводу в МГШ: «Введение во Владивостоке осадного положения и подготовка к отправке войск Приамурского округа проводятся по приказу от 30 апреля. 2 мая начался призыв резервистов первой и второй очереди. Есть признаки того, что несколько дней назад начался поиск шпионов среди японцев, задержанных тщательно допрашивают. На якоре во Владивостоке стоят канонерская лодка „Бобр“, 4 миноносца, 3 парохода Добровольного флота, 4 малых транспортных судна»78. 4 мая кабинет министров Ито Хиробуми под давлением трёх стран принял решение о возвращении Ляодунского полуострова Китаю.
В связи с сохранявшейся военной угрозой Нисияма и Аиха ра находились во Владивостоке до августа 1896 г., регулярно докладывая о мобилизационных мероприятиях командования Приамурского военного округа, перевозках по морю пополнения для него из европейской части России, численности и дислокации линейных, стрелковых батальонов, казачьих сотен и артиллерийских частей во Владивостоке, Никольск-Уссурийском (Уссурийске), Раздольном, Анучино, Барабаше, Атамановском, Новокиевском, Посьете, Камень-Рыболове, Хабаровске, Николаевске-на-Амуре, Благовещенске, корабельном составе, учебно-боевой подготовке и выходах в море Тихоокеанской эскадры. 28 декабря 1895 г. Аихара представил в МГШ итоговый отчёт с подробным описанием корабельного состава Сибирской флотилии, её судоремонтных возможностей, береговой обороны Владивостока, состояния его сухопутного гарнизона, хода строительства Уссурийской железной дороги, деятельности Добровольного флота, социально-экономической обстановки в Южно-Уссурийском крае и отношения местного населения к японским гражданам79. При этом, несмотря на рост напряжённости в российско-японских отношениях после «тройственной интервенции», русская Тихоокеанская эскадра даже в 1895–1897 гг. продолжала зимовать в Нагасаки и Кобэ из-за отсутствия судоремонтных мощностей во Владивостоке и железнодорожного сообщения с европейской частью России.
В марте 1896 г. на смену Нисияма и Аихара прибыл резидент МГШ капитан-лейтенант Ики Содзиро с документами прикрытия на имя стажёра русского языка пароходства «Нихон юсэн кайся» «Адзума (Хигаси) Кэндзи». В июне – сентябре 1896 г. он временно находился на лечении в Японии, после чего до ноября вновь работал с нелегальных позиций во Владивостоке, однако в связи с резким ухудшением здоровья был вынужден вернуться в метрополию, и деятельность флотской резидентуры в Приморье до 1903 г. прекратилась80.
Реакцией военно-морских кругов Японии на рост напряжённости во взаимоотношениях с Россией после японо-китайской войны стало принятие программы радикального усиления флота. Ещё в мае 1895 г. начальник Бюро военно-морских дел Ямамото Гомбээ по инициативе министра Сайго Цугумити подготовил докладную записку о строительстве флота в ближайшее десятилетие, которая спустя два месяца была представлена на рассмотрение правительству.
Ямамото считал, что главную угрозу Японии представляли организаторы «тройственной интервенции» Россия, Франция и Германия: «В ходе [японо-китайской] войны ряд стран заявил о сохранении нейтралитета, однако можно было видеть, что в отношении Японии они нередко занимали недружественную позицию, в то время как для Китая их действия носили дружелюбный характер. И, узрев, что венок победителя достаётся Японии и мы намерены твёрдо ступить на землю Азиатского континента, Россия, Германия и Франция внезапно выпустили свои коготки, потребовали от нас отказаться от по праву принадлежащей победы под красивым предлогом вечного мира на Дальнем Востоке, после чего решительно провели интервенцию».
Поэтому неотложной задачей империи Ямамото считал создание таких ВМС, которые могли бы противостоять флоту одного крупного государства, или его коалиции с флотами 1–2 более слабых государств, предназначенных для отправки на Дальний Восток. В идеале, с точки зрения опыта японо-китайской войны, главные силы ВМФ должны были состоять из броненосной эскадры (6 эскадренных броненосцев) и подчинённой ей эскадры броненосных крейсеров 1-го класса (6 единиц) с приданными вспомогательными силами в виде лёгких крейсеров и кораблей рангом ниже.
Для этого Ямамото предлагал усилить флот ещё 4 эскадренными броненосцами водоизмещением 15 000 тонн в дополнение к уже строившимся 12-тысячным «Фудзи» и «Ясима», 6 (в идеале 12) броненосными крейсерами 1-го класса водоизмещением 9000—10 000 тонн, бронепалубными крейсерами 2-го и 3-го класов, авизо, минно-торпедными канонерскими лодками, плавучими базами миноносцев, судоремонтными судами, эсминцами и миноносцами, расширить инфраструктуру ВМР Йокосука, Курэ, Сасэбо, закончить создание ВМР Майдзуру, укрепить учебную базу Военно-морского штабного колледжа, реформировать Военно-морскую академию и специальные школы81.
В июле 1895 г. военно-морской министр озвучил скорректированные им предложения Ямамото на заседании правительства: построить 4 эскадренных броненосца, 4 броненосных крейсера 1-го класса, 7 бронепалубных крейсеров 2-го и 3-го классов, 5 минно-торпедных канонерских лодок, 1 плавбазу миноносцев, 2 авизо, 11 эсминцев и 64 миноносца. Программа была рассчитана до 1905 г. и делилась на два этапа: 1896–1902 гг. (первый этап) и 1902–1905 гг. (второй этап). Хотя в декабре 9-я сессия парламента одобрила бюджетные расходы на строительство флота с некоторыми поправками по числу спланированных кораблей (5 бронепалубных крейсеров вместо 7, 3 минно-торпедные канлодки вместо 5, 12 эсминцев вместо 11, 63 миноносца вместо 64), в мае 1896 г. Сайго Цугумити обратился к правительству с просьбой выделить средства на закладку ещё 2 броненосных крейсеров 1-го класса в связи с «обстановкой на Дальнем Востоке». Вероятно, под этим подразумевалось произошедшее в 1895 г. наращивание сил Тихоокеанской эскадры. Дополнительные расходы были одобрены на 10-й сессии парламента в декабре82. Впоследствии эта программа несколько раз уточнялась: в январе 1900 г. вместо плавбазы миноносцев было решено построить 8 эсминцев, в феврале 1901 г. количество строившихся минно-торпедных канонерок было сокращено с 3 до 1, а высвободившиеся средства направлены на закладку бронепалубного крейсера 3-го класса «Отова» и канлодки, с малой осадкой, в октябре 1902 г. нашлись средства на постройку ещё 1 такой же канлодки, и, наконец, в декабре 1903 г. Ямамото добился перераспределения средств на строительство 3 эсминцев вместо 6 судов обеспечения83.
В итоге судостроительная программа Японии предусматривала двухэтапный ввод в строй в 1896–1905 гг. 584 кораблей различных классов водоизмещением 159 525 тонн, включая 4 эскадренных броненосца («Сикисима», «Асахи», «Хацусэ», «Микаса»), 6 броненосных крейсеров 1-го класса («Асама», «Якумо», «Адзума», «Токива», «Идзумо», «Иватэ»), 6 бронепалубных крейсеров 2-го и 3-го классов («Титосэ», «Такасаго», «Касаги», «Ниитака», «Цусима», «Отова»), 23 эсминца, 63 миноносца и 1 авизо («Тихая»)84. Таким образом, Япония должна была получить сбалансированный флот, в котором эскадренные броненосцы играли главную ударную роль и обеспечивали господство на море, а крейсеры решали задачи преследования противника и уничтожения вместе с эсминцами и миноносцами вражеских сил в их же портах85.
Первая реакция Санкт-Петербурга на ход и итоги японо-китайской войны говорила об отсутствии у него опасений относительно возможного столкновения с Токио на Дальнем Востоке. Куда большую тревогу у России вызывало усиление германского флота, поэтому принятая в 1895 г. кораблестроительная программа была ориентирована на укрепление Балтийского флота и предусматривала ввод в строй до 1902 г. 5 эскадренных броненосцев, 4 броненосцев береговой обороны, 7 крейсеров 1-го и 2-го ранга, 5 канонерских лодок, 54 миноносцев, 2 минных заградителей и 4 транспортов, из которых для Сибирской флотилии предусматривались только 2 канонерки и 8 миноносцев. Однако уже в ноябре 1895 г. Особое совещание под председательством великого князя Александра Михайловича, с учётом полученной информации о намерениях Японии значительно укрепить свой флот, пришло к выводу о необходимости иметь на Тихом океане сильную эскадру, а также незамерзающий порт в Жёлтом или Японском морях на территории иностранных государств. До приобретения такого порта совещание рекомендовало часть кораблей, предназначенных для Тихого океана, держать в Средиземном море для их переброски при необходимости на Дальний Восток. Цель спланированных мероприятий заключалась в том, чтобы «к окончанию судостроительной программы Японией наш флот на Дальнем Востоке превышал значительно японский»86.
Это потребовало корректировки судостроительной программы 1895 г. в пользу Тихоокеанской эскадры, и на Особом совещании под председательством управляющего Морским министерством вице-адмирала П.П. Тыртова в январе 1898 г. была выработана рекомендация монарху сосредоточить на Дальнем Востоке к 1903 г. 10 эскадренных броненосцев, 5 броненосных крейсеров, 10 крейсеров-разведчиков, 10 крейсеров 3-го ранга, 3–4 минных транспорта и минных заградителя и 36 эсминцев87. Николай II утвердил данный проект, предусматривавший в дополнение к программе 1895 г. постройку для Дальнего Востока до 1905 г. 5 эскадренных броненосцев, 16 крейсеров, 2 минных заградителей, 36 эсминцев и миноносцев. В окончательном варианте боевой состав флота на Тихом океане должен был вырасти к указанной дате до 10 эскадренных броненосцев, 5 броненосных крейсеров, 12 крейсеров, 2 минных заградителей, 20 эсминцев и 24 миноносцев88.
Однако уже в апреле 1899 г. на совещании под председательством П.П. Тыртова программы 1895 и 1898 гг. были фактически объединены в новую, которая предусматривала постройку к 1905 г. для Дальнего Востока 12 эскадренных броненосцев, 1 броненосца береговой обороны, 20 крейсеров 1-го и 2-го рангов, 1 минного крейсера, 1 мореходной канонерской лодки, 3 минных заградителей, 56 эсминцев и 10 миноносцев89.
Одновременно с корректировкой планов строительства новых кораблей высшее руководство Российской империи усиливало Тихоокеанскую эскадру и Сибирскую флотилию уже имевшимися боевыми единицами из состава других флотов: если к началу японо-китайской войны на Дальнем Востоке базировались 6 крейсеров («Адмирал Нахимов», «Адмирал Корнилов», «Рында», «Разбойник», «Крейсер», «Забияка»), 4 канонерские лодки («Манджур», «Бобр», «Сивуч», «Кореец»), 4 миноносца («Сунгари», «Уссури», «Янчхе», «Сучена») и 3 миноноски (№77, 79, 80), то в 1895 г. из Средиземного моря туда прибыли эскадренный броненосец «Император Николай I», крейсеры «Память Азова», «Владимир Мономах», канонерские лодки «Гремящий», «Отважный», минные крейсеры «Всадник», «Гайдамак», миноносцы «Свеаборг», «Ревель», «Борго», а в 1896 г. взамен ушедшего в Средиземноморье «Разбойника» – крейсеры «Рюрик» и «Дмитрий Донской». К 1902 г. группировка эскадренных броненосцев на Тихом океане была доведена до 5 единиц – «Наварин», «Сисой Великий», «Севастополь», «Петропавловск» и «Полтава»90.
Морской Генеральный штаб Японии, в свою очередь, внимательно отслеживал наращивание российского флота после японо-китайской войны, получая информацию по линии МИД и от военно-морского атташе в Санкт-Петербурге. Уже 19 октября 1895 г. капитан-лейтенант Номото Цунаакира проинформировал начальника МГШ о спланированной отправке на Дальний Восток эскадренных броненосцев «Гангут», «Наварин» и мореходной канонерской лодки «Гремящий», однако добавил, что переход первых 2 кораблей из-за достроечных работ мог начаться не раньше весны будущего года. Кроме того, он отметил значительную активизацию российской внешней политики на Дальнем Востоке и усиление сухопутной группировки войск в Сибири, а также сообщил, что все построенные с 1894 г. боевые корабли будут по мере ввода в эксплуатацию направляться на Дальний Восток91.
16 мая 1896 г. Номото подготовил новый доклад о состоянии русской военно-морской программы, согласно которому Россия после японо-китайской войны включилась в европейскую гонку по наращиванию броненосного флота, целиком направляя усилия на укрепление своей мощи на Тихом океане. При этом проводимые царским правительством мероприятия позволили значительно сократить сроки строительства крупного флота: если раньше, по данным Номото, на постройку 1 броненосца водоизмещением до 10 000 тонн уходило 4–5 лет, то заложенный в мае 1895 г. 11-тысячетонный броненосный крейсер «Россия» планировалось сдать уже осенью 1896 г. «В судостроении и в производстве вооружения Россия достигла большого прогресса», – констатировал резидент.
Атташе отмечал, что ранее Санкт-Петербург направил в Средиземное море ударную эскадру, самые современные и боеспособные корабли которой позднее ушли на Дальний Восток. Чтобы обезопасить себя на европейском театре, Санкт-Петербург обеспечил прикрытие балтийских баз броненосцами береговой обороны и минными постановками, а перед Черноморским флотом поставил задачу в случае войны запечатать Босфорский пролив и действовать на юге.
Хотя малочисленность транспортного флота, отсутствие судоремонтных и судостроительных мощностей на Дальнем Востоке оставались наиболее уязвимыми местами русской Тихоокеанской эскадры, Номото докладывал, что в результате проводимых царским правительством мероприятий планировалось в середине 1897 г. открыть верфь во Владивостоке, а в середине 1900 г. сдать в эксплуатацию Сибирскую железную дорогу (кроме участка Иркутск – Хабаровск). «Если Япония желает сохранить гегемонию на Дальнем Востоке, сегодня она должна, невзирая на трудности, взяться за увеличение флота»,– подытоживал доклад японский военно-морской атташе92.
Следует отметить, что резидентура МГШ в Санкт-Петербурге испытывала значительные сложности в получении достоверной информации о состоянии и планах развития царского флота. В цитируемом выше докладе Номото подчёркивал, что «сроки строительства и количество спланированных к постройке 100-тысячетонных боевых кораблей гласности не предавались» и «нет никаких способов выяснить подробности этих планов», поэтому резиденту приходилось опираться на обрывки разговоров российских чиновников93.
Схожие проблемы испытывали зарубежные разведаппараты МГШ в странах Европы, что не могло не сказаться на точности сообщаемых ими сведений.
Например, 24 апреля 1896 г. военно-морской атташе во Франции капитан 1-го ранга Уриу Сотокити представил командованию подробный доклад «Нынешнее состояние программ военного судостроения в странах Европы и Америки», в котором отметил, что «сегодня нет методов узнать реальное состояние планов русского флота». Поэтому почерпнутая им в основном из английских газет информация была точна лишь отчасти.
Уриу сообщил в Токио о строительстве на верфях в Санкт-Петербурге и Николаеве 7 эскадренных броненосцев, 4 броненосцев и 3 броненосных крейсеров, указав степень их готовности и сроки ввода в строй. Если в отношении эскадренных броненосцев «Сисой Великий», «Ростислав», «Три Святителя» и «Севастополь» сведения были достоверными, то по другим кораблям этого класса информация не соответствовала действительности: «Петропавловск» и «Полтава» вышли на ходовые испытания вместо заявленного Уриу 1896 г. только в 1897–1898 гг., в то время как «Георгий Победоносец» вступил в строй тремя годами ранее. Впрочем, данные по кораблям других классов были правильными94.
Сопоставив всю имевшуюся информацию, Морской Генштаб Японии 7 января 1897 г. подготовил «Таблицу боевых кораблей ВМФ стран мира», согласно которой русский флот занимал третье место в мире, уступая только английскому и французскому: 213 боевых кораблей против 362 и 320 соответственно. Россия имела 10 эскадренных броненосцев, 9 броненосных, 2 бронепалубных крейсера, 12 броненосцев береговой обороны и порядка 152 миноносцев. Как пола гала японская военно-морская разведка, в постройке на русских верфях находились 39 боевых кораблей, включая 8 эскадренных броненосцев, 2 броненосных, 3 бронепалубных крейсера, 1 эсминец и 20 миноносцев95
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов



