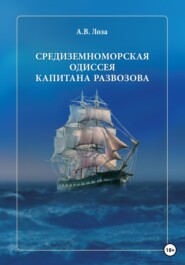 Полная версия
Полная версияСредиземноморская одиссея капитана Развозова
Действительно, на борт фрегата были погружены купеческие товары: железо, полотно, канаты, юфть и, в соответствие с инструкцией, данной от Адмиралтейств-коллегии командиру Плещееву, «идти под торговым флагом», фрегат «Надежда Благополучия» вышел в море под купеческим флагом.
Исходя из того, что вооруженный корабль с военной командой был замаскирован под торговое судно, перевозящее гражданский груз под торговым флагом, следует, что все это было не чем иным, как операцией прикрытия предстоящей разведки Средиземноморья.
Веселаго писал: «В августе 1764 года фрегат… под купеческим флагом… отправился в Ливорно». В декабре того же года фрегат «Надежда Благополучия» прибыл в Ливорно и выгрузил товар. Простояв в порту более полугода, что для коммерческого судна недопустимо, а для разведывательной операции вполне достаточно, приняв на борт груз сандалового дерева, свинца и макарон, фрегат в сентябре 1765 года благополучно возвратился в Кронштадт.
Разведка Средиземного моря была произведена блестяще!
Что это была разведка, подтверждает и тот факт, что многие офицеры, плававшие в первом походе фрегата «Надежда Благополучия» в Средиземное море, позже, в 1768–1769 годах были назначены на корабли эскадр Г. А. Спиридова, Дж. Эльфинстона, И. Н. Арфа, готовившиеся к отправке в Архипелагскую экспедицию. Понятно, что на корабли экспедиции требовались офицеры, имевшие опыт плавания в Средиземноморье, ибо, как писал Веселаго: «Императрица заметила по поводу отправления эскадры в Архипелаг, что «Гибралтар нашим (морякам) казался конец света»».
По возвращению «Надежды Благополучия» в Кронштадт и постановке фрегата в док выяснилось, что подводная часть наружной обшивки корпуса – доски дюймовой толщины – глубоко источены червями, и их пришлось целиком заменить. Во время подготовки кораблей Архипелагской эскадры к переходу в Средиземное море опыт этого первого средиземноморского похода был учтен, и подводные части всех кораблей обшили снаружи дополнительным рядом дубовых досок с прокладкой из овечьей шерсти, чтобы корпуса не источил морской червь. Поэтому эскадру и стали называть «обшивной».
Для лучшей подготовки Архипелагской экспедиции капитана Ф. С. Плещеева назначили цейхмейстером – начальником артиллерии флота. Тогда эта должность приравнивалась к контр-адмиралу.
Забегая вперед, скажу, что Ф. С. Плещеев, назначенный флаг-капитаном на флагманский корабль адмирала Г. А. Спиридова «Святой Евстафий», геройски погибнет в Хиосском сражении с турками при взрыве корабля 24 июня 1770 года.
Изменение политики Российской империи на международной арене, которая стала не только составлять противовес, но даже угрожать Австрии и Франции, привело к тому, что, как писал Ф. Веселаго, анализируя причины войны: «…было желание ослабить Россию посредством войны с Турцией, которая подаваясь внушениям Франции, в 1768 году воспользовалась ничтожным предлогом и объявила России войну».
Сразу после объявления Турцией войны России императрицей были организованы контакты с греческим и славянским населением Османской империи, с целью помощи русскому делу со стороны греков и славян. В рескрипте от 29 января 1769 года Екатерина II писала:
«Мы сами уже… помышляли о учинении неприятелю чувствительной диверсии со стороны Греции, как на твердой земле, так и на островах Архипелага, а теперь получа… известия о действительной тамошних народов склонности к восстанию против Порты, не сомневаемся в успехе».
После этого немедленно были приняты энергичные меры «к подпаливанию Турецкой империи со всех четырех углов». На Государственном Совете, в котором председательствовала сама Екатерина, решено было: «вести войну наступательную и одну армию направить к Днестру для вторжения в неприятельские пределы, а другую в Украину. Конечными целями войны представлено освобождение христианского населения Турции, утверждение России на берегах Азовского и Черного морей и открытие через них свободного торгового пути в Средиземное море». И далее: «Самым смелым морским предприятием этой войны был проект… об отправлении русской эскадры в Средиземное море для действий против Турции со стороны Архипелага».
Понятно, что для ведения таких военных операций, в том числе для обеспечения деятельности флота на отдаленном морском театре, требовались деньги, и немалые. С этой целью Екатерина II увеличила налоги на двадцать процентов, но средств все равно не хватало. Тогда она ввела бумажные деньги – ассигнации, которые сразу стали дешеветь относительно серебра, зато позволяли казне делать закупки внутри страны практически даром. Но для обеспечения длительной деятельности флота за рубежом требовалась полновесная монета и бумажные ассигнации не годились. Чеканка денег из собственных запасов серебра и золота опустошила бы казну, и поэтому было принято решение взять зарубежный заем – впервые за всю российскую историю. В то время центром европейских финансов была Голландия, ее золотой гульден принимался повсюду. В Голландии существовала фондовая биржа, банки и инвестиционные компании. Взятие денег у голландцев организовали в виде облигационного займа, номинал облигации – пятьсот тысяч гульденов. Заем требовал обеспечения, и императрица предоставила довольно необычный залог: таможенные сборы с ряда прибалтийских городов. Объем займа составил семь с половиной миллиона гульденов на десять лет под пять процентов. Этот заем позволил перебросить пять эскадр из Балтийского моря в Средиземное.
Приняв решение о финансировании военных действий в Средиземном море для нанесения оттуда удара по туркам, императрица писала своему послу в Англии графу И. Г. Чернышеву:
«Туркам с французами заблагорассудилось разбудить кота, который спал; я сей кот, который им обещает дать себя знать, дабы память нескоро исчезла. Я нахожу, что мы освободились от большой тяжести, давящей воображение, когда развязались с мирным договором; надобно было тысячи задабриваний, сделок и пустых глупостей, чтобы не дать туркам кричать. Теперь я развязана, могу делать все, что мне позволяют средства, а у России, вы знаете, средства немаленькие».
Читаю эту выдержку из письма Екатерины II еще и еще раз и удивляюсь, насколько написанное ею многослойно, насыщено информацией и вместе с тем саркастически тонкое, и задаюсь вопросом: как успевала Екатерина выполнять все запланированные многообразные государственные дела в столь различных областях, от экономики и финансов, до вопросов войны и мира? Как держала в памяти столь разные вопросы, от церковной реформы до модернизации флота?
Неожиданно для себя ответы на поставленные вопросы нахожу в журнале «История» в статье «Я работаю как лошадь: как Екатерина II успевала выполнять все запланированные на день дела».
Урожденная немка, императрица Екатерина II во всем любила порядок и с педантичностью следовала расписанному по часам режиму дня, который установила сразу же после вступления на престол.
«…Екатерина просыпалась в 5.00, пила крепчайший кофе по-турецки. С момента принятия бодрящего кофе и до 8.00 Екатерина II занималась делами: писала письма своим многочисленным друзьям-философам и европейским монархам, делала записи в дневнике… Она фиксировала на бумаге все свои мысли и поручения, государственные проекты и напоминания и считала, что день, проведенный без пера в руке, прожит впустую.
В 9.00 начиналась государственная служба, встречи с министрами, статс-секретарями и чиновниками высшего ранга. Эта церемония общения с высшим руководством страны длилась три часа. Ознакомившись с последними новостями и предложениями, в полдень Екатерина Великая посвящала церкви. По пути на обед участвовала в ритуале “царского выхода” и разговаривала с вельможами. За обедом, не изобиловавшем разносолами, вела задушевные разносторонние беседы. Ужин она не практиковала. Особую любовь Екатерина II питала к чтению. Вечер в Зимнем дворце начинался в 18.00 театральной постановкой… В 23.00 Екатерина Великая отправлялась спать».
Она не позволяла себе лениться все тридцать четыре года, проведенных на Российском троне. Теперь понятна фраза из ее дневника: «Я работаю как лошадь». Фантастическая собранность, аккуратность и работоспособность! Сейчас человек с такими качествами называется трудоголик. Это многое объясняет.
Действительно, Екатерина Великая – велика делами своими во славу Отечества!
Императрица Екатерина II, являясь видной представительницей просвещенного абсолютизма, поддерживала свой образ просвещенной государыни, состоя в переписке с известными просветителями, в том числе с философом Вольтером. Вольтер, слывший непримиримым врагом любой деспотии, к русской императрице относился с симпатией и называл ее «Самой блестящей звездой Севера». Оно и понятно, современники отмечали привлекательность императрицы, ее ярко выраженную женственность. Несмотря на то что Екатерина имела вспыльчивый характер, она была очень отходчива и не принимала решения в порыве гнева. И в молодости и в зрелом возрасте ее назвали невероятной женщиной, с утонченными чертами лица, ибо она была очень сдержана в еде и всегда следила за фигурой, обладающей не только редкой красотой, но и начитанностью и сообразительностью.
Еще одним ее собеседником был французский философ-просветитель Дени Дидро, уверявший, что Екатерина II – образцовая просвещенная правительница.
Важным элементом идеологии Просвещения было преклонение перед античностью, особенно перед культурой Древней Греции. В переписке с Екатериной II Вольтер неоднократно высказывал надежду, что она покончит с турецким господством в Европе.
Но Екатерина понимала, что время радикального решения Восточного вопроса и освобождения Греции еще не пришло. Самым смелым морским предприятием было отправление русской эскадры в Средиземное море для действий против османов со стороны Архипелага, ибо турки даже представить себе не могли, что русские военные корабли смогут обойти вокруг Европы и оказаться в Средиземном море, хотя план удара по Турции со стороны Средиземного моря был очень рискованным.
Нужно сказать, что даже с точки зрения современной военно-морской стратегии действия эскадры без операционных баз – необоснованный риск, если не авантюра.
Из истории известно, что Екатерина II не боялась риска, но и в явные авантюры не пускалась. В данном случае она рассчитывала на помощь греков-повстанцев, как мы сейчас говорим – борцов за свободу, а проще выражаясь, на греческих сухопутных и морских разбойников, не признававших турок, не подчинявшихся туркам и даже воевавших с ними.
Как пишет исследователь и историк А. Широкорад в книге «Русские пираты»:
«Екатерина знала из донесений, что спартанский народ христианского закона и греческого исповедания, а хотя живет в турецких владениях, но туркам не подчиняется и их не боится, а даже воюет с ними». «…Отправить в Средиземное море против турок 10 российских военных кораблей, а на них нагрузить пушек довольное число; завидев их, греки бросились бы на соединение с русскими; у греков есть свои немалые суда, но их надобно снабдить пушками…»
Кроме того, еще в 1736 году русский посол в Константинополе утверждал, что восстание балканских христиан и русская помощь им оружием – самый надежный путь для победы над Турцией.
Понимая это, императрица 19 января 1769 года открыто обратилась к единоверцам – балканским христианам в «Манифесте к славянским народам Балканского полуострова», с призывом к восстанию:
«Порта Оттоманская по обыкновенной злобе ко православной церкви нашей, видя старания употребляемые за веру и закон… за то только одно, по свойственному вероломству разрушая заключенный с нашею империей вечный мир, начала несправедливейшую, ибо безо всякой законной причины, противу нас войну, и тем убедила и нас ныне употребить дарованное нам от Бога оружие…
Мы по ревности к православному нашему христианскому закону и по сожалению к страждущим в турецком порабощении единоверным нам народам, увещеваем всех их вообще и каждый особенно полезными для них обстоятельствам настоящей войны воспользоваться ко свержению ига, и ко приведению себя по-прежнему независисмость, ополчась где и когда будет удобно, против общего всего христианства врага, и стараясь возможный вред ему причинять».
Манифест призывал славян свергнуть турецкое иго, и Екатерина II очень рассчитывала на помощь греков в войне. И дальше:
«Наше удовольствие будет величайшее видеть христианские области из поносного порабощения избавляемые и народы, руководством нашим вступающие в следы своих предков, к чему мы и впредь все средства подавать не отречемся, дозволяя им наше покровительство и милость для сохранения всех тех выгодностей, которые они своим храбрым подвигом в сей нашей войне с вероломным неприятелем одержат».
Именно об этом писал Ф. Ф. Веселаго в «Краткой истории русского флота»: «В случае войны (с Турцией. – А.Л.) воспользоваться недовольством христианских подданных Турции, организовать между ними общее одновременное восстание против турок и помочь им возвратить себе свободу и самостоятельность. Предполагалось, что во время войны подобное восстание будет весьма важной диверсией для отвлечения части турецких войск от нашей главной армии». Екатерина призывала:
«Ударяйте уже на общего нашего врага согласными сердцами и совокупными силами, продолжая и простирая ополчение и победы ваши до самого Константинополя… Изгоните оттуда остатки агарян со всем их злочестием и возобновите православие в сем ему посвященном граде!»
И далее:
«Настал к тому час удобный, ибо вся громада неверных будет в удалении в нашей стороне и там совершенно упражняемая дарованными нам от Бога силами. Кроме того, что число благочестивых обывателей как на твердой земле, так и на островах Архипелага несравненно везде превосходит число неверных и что они, без сомнения, с охотою и радостию к подвигу вашемуприобщась, силы ваши собою и имуществом своим гораздо умножать будут, обещаем мы вам всем всякое от нас по дальности мест возможное подкрепление и вспомоществование…»
Недовольство христиан-греков было связано не только с попытками исламизации. Хотя, в отличие от Албании, в Греции исламизация населения не приняла массового характера, и большая часть греков оставались православными. Налоги, взимаемые турками, разоряли народ, и греки, трудясь от зари до зари, едва выживали. Ненависть к туркам и бедность были основными причинами, по которым греки брались за оружие и уходили в горы, образовывая отряды разбойников – клефтов. Клефт – в переводе с греческого – вор. Командиры отрядов клефтов назывались капитанами. Их вооруженные отряды скрывались в основном в горах Пелопоннеса. Османы так и не смогли взять эти горные районы под свой контроль. Турецкие власти безуспешно боролись с клефтами, пытаясь поручать отдельным отрядам клефтов охрану районов, в которых они действовали. Такие отряды получили название арматолы (от итальянского armato – вооруженный). Но, не поладив с турками, арматолы тут же снова становились клефтами.
Действия повстанцев-клефтов охватывали и сушу, и острова, подавляющее большинство населения которых составляли православные, и море, где они разбойничали на своих судах, скрываясь в укромных бухтах.
Историк А. Широкорад, ссылаясь на английские источники 1699 года, пишет: «…греческие пираты зимовали обычно от середины декабря до первых дней марта на островах Эгейского моря, охотнее всего на Паросе, Антипаросе, Мелосе и Иосе. Затем они перебирались на обрывистый и изобилующий удобными и укромными бухтами остров Фурни, расположенный между Самосой и Икарией. На холме выставлялся часовой, он подавал сигнал при появлении в море какого-нибудь паруса. Тогда пиратские суда выскакивали из узкого выхода из бухты на востоке острова Фурни и устремлялись к Самосу на перехват купца. Точно так же пираты действовали всю весну и первую половину лета у островов Некария, Гайдарокиси и Липса. В июле они, как правило, перебирались к Кипру, Родосу – поближе к Сирии – и там занимались ремонтом своих судов и сбытом награбленного. Осень пираты снова проводили в засадах, а зимой разбредались по своим семьям к женам и детишкам, с тем, чтобы весной начать все сначала».
«Пираты… заполонили своими гребными лодками все уголки Кеклад и Мореи и превращали в свою законную добычу любой корабль, не способный к защите, или входили ночью в селения и жилища на ближайшем турецком побережье, забирая все, что они могли найти».
Именно на использовании клефтов и всех недовольных османским игом греков, албанцев и других славянских народов, всего того «горючего материала», скопившегося на берегах Адриатического, Ионического и Эгейского морей, и рассчитывала Екатерина II, посылая в Средиземное море свои военные эскадры в качестве бикфордова шнура к этому «горючему материалу», понимая, что любое восстание в Греции и на Балканах не только заведомо обречено на поражение, но и даже не способно оттянуть на себя значительное число османских войск, если не будет поддержки русских регулярных сил.
Делая ставку на привлечение греческих повстанцев на сторону России, Екатерина II опасалась в злоупотреблении каперством, которое так лихо сбивается на морской разбой.
Поэтому императрица, как пишет Е. Тарле: «…запрещает выдавать грамоты на корсарство, если греческие корсары будут нападать на торговые суда европейских держав или же народов христианских вероисповеданий, живущих под властью турок и числящихся турецкими подданными. Она… стремилась выступать в качестве покровительницы утесняемых турками христиан».
И вновь поразительно, как Екатерина ориентируется в тонких вопросах о праве воюющих правительств выдавать частным лицам (капитанам, судовым дельцам) лицензий – патентов для узаконения нападения (каперства) на торговые суда противника. Действительно, в XVIII веке этот вопрос был одним из острых в международном праве.
По представлению Адмиралтейств-коллегии командование Первой Архипелагской экспедицией императрица Екатерина II поручила с присвоением звания полного адмирала Григорию Андреевичу Спиридову.
Историческая справка
Григорий Андреевич Спиридов родился в Москве 18 января 1713 года. Дворянский род Спиридовых известен с XVI века. Волонтер на кораблях Балтийского флота. После сдачи в 1728 году экзаменов по навигацким наукам произведен в гардемарины и направлен на Каспийскую флотилию. Командир гекботов «Св. Екатерина» и «Шах-дай». В 1732 году переведен на Балтийский флот. Участник русско-турецкой войны 1735–1739 годов. Адъютант у вице-адмирала П. П. Бредаля. Проходил службу в 1741–1742 годах на Белом море. Во главе отряда кораблей в 1743 году совершил переход из Архангельска в Кронштадт, затем плавал на кораблях Балтийского флота, командовал придворными яхтами и кораблями. С 1756 года по 1757 год ротный командир Морского шляхетского кадетского корпуса. Участник семилетней войны (1756–1763). Командовал кораблями «Астрахань», «Св. Николай», «Св. Дмитрий Ростовский». Отличился в августе 1761 года в Кольбергской операции, возглавив двухтысячный десантный отряд, увлек за собой атакующих и захватил Вуншевую батарею, что способствовало капитуляции крепости. Командовал Ревельской эскадрой. Член Адмиралтейств-коллегии с 1762 года. Главный командир Кронштадтского и Ревельского портов. Командовал Балтийским флотом.
В рескрипте адмиралу Г. А. Спиридову, подписанном Екатериной, указывалось:
«…Провезти сухопутные войска с парком артиллерии и другими военными снарядами… образовать целый корпус из христиан к учинению Турции диверсии в чувствительнейшем месте; содействовать восставшим против Турции грекам и славянам, а так же способствовать пресечению провоза в Турцию морем контрабанды».
17 июля 1769 года императрица посетила корабли Архипелагской эскадры, стоявшие на Кронштадтском рейде. Екатерина II вручила адмиралу Г. А. Спиридову орден, выдала всем назначенным в Первую Архипелагскую экспедицию четырехмесячное жалование «не в зачет» и приказала эскадре немедленно выходить в плавание.
Выполняя волю императрицы, эскадра поставила паруса, вышла из Кронштадта, и… перейдя в район Красной Горки, откуда ее нельзя было видеть из Петергофа, продолжила подготовку к переходу в Средиземное море.
Лишь 26 июля 1769 года «обшивная» эскадра адмирала Спиридова ушла в свое длительное плавание «за три моря» – за восемь тысяч верст от Петербурга, в Восточное Средиземноморье, куда еще не заплывали русские военные корабли.
Как отмечал историк флота Веселаго: «К отправлению в Средиземное море назначено две эскадры из которых одна, под начальством Григория Андреевича Спиридова, должна была содействовать восстанию против турок подвластных им греков и славян, а другая, под начальством “принятого” в нашу службу англичанина контр-адмирала Эльфинстона, предназначалась для уничтожения морской торговли Турции в Архипелаге и особенно для подвоза в Константинополь съестных припасов через Дарданеллы».
Весть о походе русской эскадры для борьбы с Турцией быстро разлетелась по Европе, вызвав угрозу со стороны Франции и Испании не пустить нашу эскадру в Средиземное море. Франция имела сильный флот и могла направить его на Балтику. В то время Англия была союзником России, и английские послы в Париже и Мадриде официально заявили: «Отказ в разрешении русским войти в Средиземное море будет рассматриваться как враждебный акт, направленный против Англии», хотя Восточное Средиземноморье, куда шли наши корабли, ни англичанами, ни французами никогда «европейскими водами» и не считалось.
Конечно, походу предшествовала большая дипломатическая работа России с Англией, герцогством Тосканским, Венецианской республикой, с руководством Мальтийского ордена о местах базирования, пополнения запасов и ремонта русских кораблей по пути в Средиземное море. Так, Англия предоставила свои порты для снабжения и ремонта наших кораблей не только в метрополии, но и на острове Менорка. Наша эскадра свободно базировалась в «вольном городе» Ливорно, принадлежавшем герцогству Тосканскому, и на острове Мальта.
По прибытию наших кораблей на Мальту по поручению императрицы Екатерины II наш представитель на Мальте обеспечил моряков картами Средиземноморья, также были наняты лоцманы и переводчики с греческого и итальянского языков.
Екатерина II в своих письмах подталкивала адмирала Спиридова ускорить движение эскадры:
«…Вся Европа на вас и вашу экспедицию смотрит… Бога для, не останавливайтесь и не вздумайте зимовать, о кроме вам определенного места».
Императрица понимая, что подготовка эскадры проводилась в большой спешке, что доставшееся ей состояние флота в целом было плачевным, в своих письмах выражала уверенность в успехе, вселяя эту уверенность и в командование эскадры:
«…Ничто на свете нашему флоту столько добра не сделает, как сей поход».
Екатерина II оказалась права в своих стратегических решениях. Как писал Веселаго: «Флот наш приобрел опыт продолжительного плавания и боевых действий в отдаленных морях, что послужило для русских моряков превосходной практической школой, возвысившей силу нашего флота».
Конечно, в ходе этой русско-турецкой войны Екатерина II не ставила целью решение Восточного вопроса. Цель, к которой она стремилась, была более скромной и вполне реалистичной: обеспечить для России надежный выход к Черному морю.
Как говорила Екатерина II, радость от успехов России выразили лишь английские и датские дипломаты. Все остальные, по ее меткому выражению, «ужаснулись, опечалились и не могли ни спать, ни есть».
В неприметной болгарской деревушке Кючук-Кайнарджи был подписан мирный договор, который в Константинополе назвали «дерзостью неверных» и который стал для России невероятно значимым достижением. Екатерина II обменивала свои завоевания на Дунае на более важные приобретения на Черном море. Балканские провинции, Молдавия, Валахия, были возвращены Турции. Взамен Екатерина получили выход к Азовскому морю, Таганрог и Керчь, которые обеспечивали ей доступ к Черному морю. Далее на западе она получила дельту реки Днепр и устье самой реки, дававшие императрице еще один важный доступ к Черному морю.
Завершившаяся в 1774 году русско-турецкая война не привела к крушению Османской империи, но, как и планировала Екатерина II, дала России значительные приобретения. Эта успешная война позволила России захватить огромные территории Северного Причерноморья и ликвидировать угрозу разорительных набегов из Крыма. Закрепила за Россией обладание Азовским морем, представила свободный проход русским коммерческим судам в Черное море и обратно. Закончилось политическое владычество турецкого султана на Крымском полуострове, где татарское ханство под протекторатом Османской империи существовало веками. Турция признала независимость крымского хана.
Не пройдет и девяти лет, как Екатерина II окончательно присоединит полуостров Крым к России.
Историческая справка
Испокон веку Крымский полуостров населяли не только татары, но и греки, армяне, готы, аланы, караимы и славяне. Историки утверждают, что еще задолго до образования Крымского ханства на территории полуострова существовало независимое православное княжество Феодоро. Княжество делилось на одиннадцать административных округов, а население в период расцвета составляло примерно двести тысяч жителей. Государственной религией княжества было православие, религиозные обряды велись на греческом языке, а разговорным был местный диалект старогерманского готского языка. Феодориты выращивали виноград, занимались виноделием и торговали через черноморские порты.



