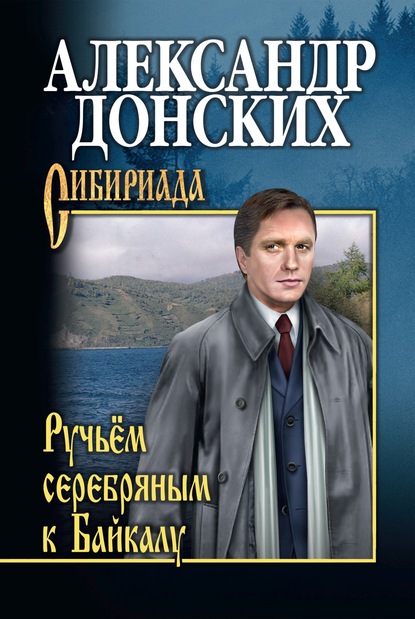
Полная версия:
Ручьём серебряным к Байкалу
– Мамочка! Ты меня убьёшь? Не убивай! Не убивай, пожалуйста, Лёвочка! Я же просто баба, баба-дура! Понимаешь?
Лев не двигался, но из него наконец вытолкнулось, хрустом камушков, скрипом:
– Люба.
И ему почудилось, что гортань его разодрало, что она клочками и сгустками застряла. Слова не сказать ещё, а надо бы. Выдрать бы пальцами, но руки занемели, не шевелятся. А может, им и не надо сейчас двигаться – ведь такое махонькое беззащитное создание перед ним: смахнёт шутя, раздавит случайно.
Лев, преодолевая, казалось, сплотнившийся стеной, воздух, вязко шагнул ещё раз, но теперь уже определённее – к выходу, к воле, на воздух, к сосновому духу.
Любовь хотя и крепилась, но не совладала с собой: вдруг юркнула под стол, затаилась, прижимаясь к стене. Она помнила, что Лев может быть ураганом, грозой, зверем. В случае чего отсюда легко можно будет шмыгнуть за диван; а если он будет тащить, так снова можно забиться под стол.
Он постоял – нет никого перед ним. А может, и не было никого. Была Любовь и – нет как нет её. А может, он ослеп как-нибудь по-особенному: способен отныне видеть только лишь то, что надо и позволительно ему видеть. Но, может быть, какие-нибудь высшие силы позаботились, чтобы он ничего этого мерзкого не видел и не понимал по-настоящему, а иначе натворит чего-нибудь ужасного, окончательного, гибельного для себя и для неё.
Любовь потихоньку сидела под столом, вдыхая пыль, глотая слёзы. Он же просто стоял – ни ураган, ни гроза, ни зверь. Кто же он теперь? Зачем он в этой казённой дежурке со спёртым шоколадным воздухом, когда на улице столько свежести, смолистого духа сосен, самого утра, раздолья, высокого неба, любимого им города – всего-всего, чтобы жить и легко дышать?
Он услышал чих под столом, очнулся, вошёл в жизнь. Его душу завертело нехорошее, удушливое чувство. Казалось, что-то невидимое, но жёсткое ломая и раздвигая перед собой, порывом вышел на улицу, с минуту постоял на крыльце, вбирая свежего морозящего воздуха. Сбежал по ступенькам и стремительно пошёл, ускоряясь, но и нажимая на подошвы, будто побаивался, что ноги сами собой повернут назад, вспять. Небо застыло над городом обвислым прогибом и было забито по всему окоёму корковатыми, выжатыми, бесплодными облаками, и нынешний день задавался давящим и бесцветным. Лев изредка вскидывал глаза к небу и чувствовал себя погребённым заживо. Но перед ним был его любимый город, и не надо, наверное, смотреть в небо, когда оно не готово поддержать тебя.
Перед ним его Иркутск – ветхий, с изломистыми улицами деревянных малоэтажек, а то и обычных деревенских усадеб, пришедших в наше время из каких-то веков со своими избами, банями, сараюшками, с покосившимися, вычерненными заплотами, с огородами, с необузданными кущами тополей и сосен. Иркутск всегда представлялся Льву старозаветным, нескладным, и он как строитель и инженер не считал его ни городом, ни деревней, но преданно любил и ценил – такого бесхитростного, некичливого, в чём-то наивного сибирского старичину. Он видел, что город одновременно и курьёзен и торжественен, и велик и жалок – чудная мешанина, в которой Лев угадывал что-то сродственное себе.
Шёл сначала прямо, потом свернул направо, потом – налево, потом ещё как-то, но куда шёл, зачем – понимал ли отчётливо. Быть может, неосознанно запутывал следы, запутывал самого себя, чтобы не вернуться, не повторить.
Теперь остаётся просто жить, просто жить, просто жить, прислушивался он к звучавшим в нём словам, которые показались ему новыми и в чём-то необычными.
А почему просто? Если же не просто – то как? – пробивались и другие слова.
22В своё гостиничное общежитие он больше не вернулся, даже не забрал вещей; ему потом вместе с документами передали их на работе. И в общежитиях, даже будучи в командировках, он больше никогда не жил, обходил их. Если, случалось, ругал жизнь, то зачастую у него выскакивало, что не жизнь кругом, а «общага тотальная».
Какое-то время пожил прямо на стройке – в бригадном вагончике.
Однажды вечером, уже зимой, к нему пришла Любовь. Она, выхуданная, цыплячьи-жёлтая, заплакала тоненько, по-детски шморгая зарумянившимся носом. Припала завитой головкой к его плечу и говорила, что любит, что хочет с ним жить и верной быть ему, и детей ему родить, и что-то ещё обещала. Он выслушал, ни словом не отозвался, не посмотрел в её глаза, а когда она замолчала и только всхлипывала, легонечко взял её за локоток, вывел за дверь вагончика, подвёл к воротам стройки.
– Ты ни в чём не виновата: живёшь как можешь. Именно живёшь. Так, наверное, и надо. Вот и живи. А виноват только я: виноват, что потянул и тебя, и себя…
Не договорил, наверное, усомнившись, то ли нужно сказать. Зачем-то мотнул головой вниз-вверх, сморщился:
– Прощай, Любовь. Не поминай лихом. Ты ещё найдёшь, что ищешь.
Распахнул ржавую, утробно гудящую под напором ветра калитку, сваренную из труб.
Люба ушла в сумерки зимы, оглядываясь, но он не смотрел ей вслед. И больше он Любу не видел и ничего о ней не слышал и не узнавал. Но вспоминал. Ласково, благодарно вспоминал. И грустил. Всё же грустил. Он не мог от себя скрыть, что она была первой в его жизни девушкой, которую он хотел и должен был любить по-настоящему – на всю жизнь и больше.
23Потом поселился у матери. Она настояла:
– Да ты что же, сынок, как бич, при живой-то матери мотаешься то по общагам, то по каким-то прокуренным конурам?!
Она и не спросила его ни тогда, ни после, отчего с ним теперь нет рядом Любы. Оба, казалось, притворились, что и не было никакой Любови, не было никаких разговоров о свадьбе. Видимо, матери знают, как никакой другой человек в целом мире, какая жена нужна их сыновьям.
Но с матерью ему не хотелось жить: она по-прежнему ждала невестку, ждала внуков, ждала, когда же её такой замечательный сын станет просто счастливым человеком.
Жилось Льву плохо: одиноко, неприютно. Только и хорошо было, что умел деньги зарабатывать, и зарабатывал столько сколько хотел. Но и деньги не радовали. Радовало и тянуло дальше идти по жизни, что работы было по маковку: втянешься – и потянул воз, некогда унывать и умствовать. Но чуть какое затишье в его жизни – чуял порой, что сердце начинало тяжелеть и нахолаживаться, «льдилось». Подолгу лежало опущенно, не на своём месте. Как приподнять его, вернуть в грудь, согреть?
Напросился на северную стройку: ярко и томяще помнил, что Север когда-то живил и бодрил его душу, что нравилась ему муравейная, согласная жизнь сорванных со всей страны молодых и молодцеватых строителей, что немедля и радостно втягиваешься в общие дела и забываешь о своих нудящих и горчащих, хотя бы до ночи. Возводился горно-обогатительный комбинат – гора и бездна металла, железобетона и алюминиевых панелей взгромоздившаяся и вбурившаяся в землю здесь, в жуткой лесотундре, в необжитых, диких краях, в которых лишь только несколько недель в году тепло и зелено, а остальное время – беспросвет морозов и снегов. Ещё кровли не было, всё в кранах, лесах, опутано кабелями и шлангами. Ночь озаряется беспрерывными всполохами электрической сварки. Ни днём, ни ночью тишины – рёв автотехники и сирен. Люди обретались в вагончиках и работали трёхсменно: вздремнул в бытовке, протёр глаза, перекусил и тут же выходишь на смену. Все жили работой, стройкой, заработками. Гитары и магнитофоны, вино и спирт, карты и шашки, драки и бурные замирения, бравые пачки денег и похмельное безденежье, хрипатый мужичий гогот и кокетливый женский писк, пропахшие потом и табаком бытовки, спальные аскетичные балки и шикарное убранство целых трёх (на крохотный посёлок) ресторанов – необыкновенная обыкновенная жизнь алмазного Севера, северянина-перекати-поле. Но такая жизнь очаровывала людей, надолго забирала из семей, из безветрия и скуки большой земли – материка, и кому-то позднее приносила счастливое обеспеченное бытьё, а кому-то – развалины, болезни, пустоту.
Раньше, в молодости, Север восхищал и дивил Льва, тянул к себе нежно и романтично. Но теперь что-то странное, неподвластное Льву творилось в его сердце, что-то сломалось внутри. Ему стало казаться, что жизнь вокруг противоестественная, ненормальная, чуждая ему. «Что я здесь делаю, зачем?»
Полгода пожил на Севере; ещё месяц-другой минул. Не выдержал. Чуть не с первого дня мутило его от ненавистной ему общежитской жизни, хотя как инженер, начальник участка размещался он в отдельном балке и в компаниях почти что не бывал. Раздражала его людская запанибратская перемешанность, «театральная», как он теперь считал, приподнятость в людях. Хотелось простого – тепла и немудрёности в отношениях, хотелось рядом родной, родственной души. Не радовало его и то, что он причастен к столь грандиозному строительству, созвавшему к себе тысячи сильных, несомненно, замечательных людей. Не утешали и зарплаты, выше в пять-шесть раз материковских.
«Зачем мне этот размах, этот героизм, если истинное счастье способно уместиться только лишь в сердце?»
Даже лесотундра становилась ненавистной и чувствовалась им какой-то никчемной на этой планете, бесполезной со своими лютыми морозами, не менее лютым гнусом, чахлыми деревцами, вечно серым, прогнутым, омертвелым небом.
«Старею, что ли? Сердце стягивается книзу и, чую, разбухает, не может удержаться на своём месте. Что со мной, что со мной? – И сам же отвечал порой: – Да та же волынка, братишка!»
Не втянулся, как ни старался, в коллективную, «муравейную» жизнь и уже не верил, что, как полагал, уезжая из Иркутска, Север «выморозит» в нём хандру, обвеет, освежит всего, направит к чему-то новому, созидающему.
Неожиданно, можно сказать, бегством, в спешке передав дела изумлённому помощнику, ночным рейсом улетел в Иркутск, сам не зная хорошенько, зачем. И уже не вернулся.
«Не от себя ли снова бегу?»
Ощущал и размышлял, что судьба, подобно слепой и глухой лошади, тянет его за собой в какой-то скрипучей повозке. Он же только лишь может лежать на её жёстком днище, обездвиженный, безвольный и даже равнодушный. И единственно что видит – сменяющееся, но однообразное небо да свисающие кусты знакомых или неведомых деревьев, которые так и норовят царапнуть по лицу.
24Снова стал жить в Иркутске и долго никуда не выезжал.
Город, его таёжные окрестности, Чинновидово, Ангара и Байкал по-настоящему притягивали Льва, особенно после квёлости лесотундры, технологически и прагматически до последнего гвоздика устроенных северных рабочих посёлков. Может, и вернулся к тому, что роднее, родственнее, нужнее сейчас. В припылённых, скособоченных, прошлого века домах Иркутска, в его облике, который изрезан морщинами заулков и улочек, в его живых или разваленных церквях, в его зеленовато-бирюзовом ожерелье – Ангаре, в его новостройках и воссозданных купеческих усадьбах, – во всём этом по преимуществу старом, неухоженном, но тянущемся к нови и красоте городе он так же, как раньше и как всегда, находил успокоение. Иркутск ему виделся живым, естественным, природным: одно в нём отмирает – другое начинает жизнь, одно прекрасно – другое уродливо, одно пора снести, спрятать с глаз – другое восстановить и лелеять, потому что оно прекрасно, потому что оно нужно людям, только, видимо, не все это понимают пока что.
Любил иркутян и всегда угадывал точно, что перед ним именно коренной житель Иркутска. Особенным в иркутянах ему представлялось то, что они похожи на деревенских жителей: угадывались в них остатки старой неторопливой сибирской жизни. И себя Лев, со странной горделивостью, не считал городским. Представлялось ему, что он старомодный с головы до пят, и хотелось считать себя деревенским человеком. Его всегда тянуло к природе и жить естественным, извечным её ходом; чувства и помыслы звали к иным формам жизнеустройства и жизнестроительства.
Приезжал в Чинновидово, на свой забурьяневший, одичалый участок. А кругом уже поднимались дома, исключительно роскошные усадьбы состоятельных людей. Лев сиживал на почерневших, когда-то ошкуренных и приготовленных для беседки, брёвнах, рассеянно смотрел своими большими грустными глазами по сторонам, дышал сосновым воздухом, слушал тишину леса и поля. Строиться не начинал, но чувствовал, что не выдержит – возьмётся. И возьмётся по-настоящему, потому что как можно строить дом, а значит, и свою душу по-другому, иначе? Временами бывало немножко завидно, что люди вокруг застраиваются, обустраиваются, оседают со степенностью; сосед иногда уже ночует в своём недостроенном доме.
Но не приступал, тянул, раскачивался. Зачем-то купил крупногабаритную пятикомнатную квартиру, хотя и двух комнат одному хватило бы. Теперь особняком зажил. Избегал матери, уставал от её стареющих, но ждущих глаз и ласкового до заискивания ворчания. И, кажется, снова забывал называть её мамой. Жил один, одиноко и уныло, но не позволял себе ни лишней рюмки спиртного, ни, тем более, какого бы то ни было разгула и безалаберщины. Женщины, правда, появлялись в квартире, но только тогда, когда одиночество совсем уже становилось невыносимым, давящим. Лишь на работе, в делах, в суете людской и спасался.
Не выдержал – взялся строиться в Чинновидове. Какое-никакое, но дело, к тому же «пользительное» развеяние нелёгких чувств и мыслей. Однако не понимал ясно, зачем ему одному огромная квартира и выходивший шестикомнатным и двухэтажным да с цоколем и с надворными постройками загородный дом.
Однажды Лев задумался, и ему неожиданно и обидно открылось: всё, что он строил, дома, цеха, гаражи, ещё ничего ни разу не достроил до конца, не загнал, как говорят строители, под кровлю. Всегда куда-то срывался, находил что-то интереснее, денежнее, а то и бестолково метался, откровенно чудачествовал. Выходит, что другие заполняли за него пустоту мира, а он, точно бы с торбой, носился по свету со своей «калекой-душой», искал для неё прибежище. И она, был уверен, потому, может, и оказалась недостроенной, даже в чём-то, можно предположить, неполноценной, что сам он не привнёс в этот мир ничего завершённого, настоящего.
Строил дом неутомимо, отчаянно, будто бы убегал от кого-то или отчего-то. День ото дня быстрее, все выходные и отпуска, и больше сам, один. А умел многое что: и проект разработать со всеми технологическими привязками, и сотку, гвоздь, двумя ударами молотка вогнать в брус, и малярной кистью заправски орудовал. Лишь на тяжёлые, неподъёмные работы нанимал из местных мужиков да столярку заказал у доброго мастера. А так – одиночкой, в размышлениях о том, как из лучшего лучшее применить.
Вспоминалась, случалось, Любовь, та Любовь его нежданная. До сей поры не смог вытравить и выскоблить её из памяти. Сердило: любил Любу, да ничего путного не вышло. Представится её маленькая, кокетливая фигурка, её сверкающие детскостью, но глубоко чёрные глаза, её задорный голосок прилежной ученицы, вся увидится ему этакой внешне уютной, райской птичкой, усмехнётся:
– Чего уж теперь!.. Одно слово: дура-баба.
Себя вообразит: стоит одеревеневший бугай перед трепещущей птахой, бывало, даже захохочет.
25Так несколько лет и протянул – тихо, придавленно, отгороженно. И от матери отъединился – молчанием и преувеличенной вежливостью, когда раз-два в месяц наведывался к ней из смутного чувства сыновнего долга. Ото всех как-то отходил, заслонялся. Душой убредал в какие-то свои дали и земли. Даже собственных мыслей и чувств не любил: отодвигал их, сминал, запрятывал, но в себя же, в самую тёмную, в самую холодную глубь. Надо, чтобы молчало внутри, не разжигалось, не точило. Говорил себе: чтобы огонь не расходился, надо его от кислорода беречь. Друзей и раньше не было настоящих, а теперь, после тридцати, разве можно найти друга по сердцу? Партнёров, компаньонов всевозможных водилось в избытке. И возле Льва, уже владельца торгово-посреднической и проектно-строительной фирм, акционера нескольких предприятий, партнёрский деловой люд мушиным роем вился, точно возле чего-то сладкого и сытного. Лев умел и любил править делами, он был успешен и ярок, нежаден, рассудочен, а к таким липнут, едва учуют их вблизи себя. Появлялись и женщины, красивые и разные, но не приглянулась, не полюбилась ни одна. Две-три встречи – и полно. Душой с ними отягчался, скучал.
Жизнь, и вместе с ним, и рядом с ним, и по планете целой, понемногу перекатывалась куда-то и зачем-то, потому что нужно же куда-то и зачем-то двигаться. Но его дни, представлялось ему, в этом движении скрипели ржавью, застарелостью, однообразием: работа – дом, дом – работа. А если не работа и не дом, то какие-то сумерки, неопределённость, даже никчемность норовили возобладать вовне и внутри.
Порой Льву представлялось, что живёт он за высоким прозрачным, но передвигающимся вместе с ним ограждением, за которым много людей. И он с ними общается, решает что-то деловое, живое, но истинно слышит и чувствует не людей, а только лишь своё одиночество, свою невнятную тоску. И говорит с ними не потому, что хочется ему, а чтобы размягчить в себе вредный комок настылости. С людьми, уверен был, потому получаются дела, что автоматом поступал, по какой-то схеме, по какому-то всемирному всеядному софту.
А может, и не он живёт на свете, а какая-то очень умная программа вместо него? – тревожился Лев. Кто ответит ему?
Люди тяготили его, в квартире и в доме у него редко кто бывал. Он, можно было подумать, перестал доверять жизни и людям.
«Я живу неправильно, те, те, те тоже живут неправильно, но что же тогда в этом мире правильность, правда, истина? Почему я не понимаю и не надеюсь, что жизнь может быть ещё и просто прекрасной – прекрасной духом и разумом, прекрасной людьми и отношениями? Запутался я, бедолага, вконец одеревенел мозгами и сердцем!»
Однажды, достраивая гараж в Чинновидове, Лев понял, что вместо традиционного подвала для хранения овощей, банок и скарба у него стала получаться комната – довольно просторная жилая комната. Это обстоятельство озадачило и насторожило Льва. Но он не остановился: не стал оборудовать помещение под обычное хранилище, а всячески улучшал и украшал его. Подвёл к комнате водопровод, вырыл яму для канализационных стоков, установил насос, ванну, душ, унитаз. Усложнил в гараже электрическую часть – поставил в комнате холодильник, телевизор, компьютер, подключил обогреватели и даже электробойлер. Лаз зачем-то замаскировал, тщательно, с выдумкой, – даже присмотревшись, не обнаружишь. Потом выполнил отделку, любовно, умело, даже качественнее, чем в самом доме. Все наилучшие материалы, какие знал и нашёл, использовал, особенно утеплители. Денег не жалел. Тайком, украдкой, только что не ночами корпел.
Вышла роскошная комната, нашпигованная технологиями и удобствами. Но зачем она Льву, при его-то доме и квартире, – не мог внятно объяснить он даже себе. Нервно и мрачно посмеивался, что не бомбоубежище ли приготовил. И сам гараж располагался как-то противоестественно: далеко за домом, в глубине участка, хотя разумнее было бы построить рядом с домом, с выгодным подъездом от дороги. При такой планировке получилось, что добрых пять-шесть соток земли отчуждалось, потому что нужен был этот длинный, с коленцем проезд для машины.
Недоумевал, искренно, но напряжённо: зачем ему подвал в гараже, когда на участке избыточно земельных наделов под застройку хозяйственными помещениями? Но погодя осознал отчётливо: заехал в гараж, закрыл двери и сразу – в комнату свою потайную можно нырнуть. Однако зачем, в чём резон? Непонятно! Какой-то бред подсознания! Что с ним происходит? Где логика в его поступках и действиях?
Раз переночевал в комнате, другой раз – понравилось. Неделю, две, три прожил, порой и в дом не заходил совсем. Загнав в гараж машину, спускался в комнату, задраивал люк.
Что же понравилось ему в этих ночёвках – не мог разгадать сразу.
Наконец, понял явственно – тихо здесь, очень тихо, людей нет, не видно и не слышно никого. Ничего постороннего и раздражающего. Но одновременно Льву стало тревожно и даже страшно: а вдруг сойдёт с ума или, может быть, уже! Станет никчемным человеком, в лучшем случае – чудаком, сумасбродом.
И неспроста подкрался однажды вопрос: не пора ли провериться у психиатра?
Оборвал поночёвья в этой комнате. Обходил гараж, даже старался не смотреть в его сторону. Машину оставлял во дворе. Случалось, что неделями не приезжал в Чинновидово.
Яснее, высветленнее становилось осознание – как ни затыкай щели от жизни, ни перехитряй её, ни отгораживайся или ни хоронись в подвалы и ямы, ни закрывайся стенами и заборами, ни убеждай себя и других людей, что многое, многое оборачивается когда-нибудь мерзостью, разложением, прахом, жизнь всюду просочится, потому что она – сущее мира сего. Жизнь – и движение движений, и механизм механизмов, и мысль мыслей, и бог богов. И если человек по сию пору ещё живёт, то живёт единственно для того, чтобы стать лучше, стать нужнее людям. Но не все об этом вовремя и правильно узнают. Когда же открывается для них суть – бывает, что уже поздно.
Вторая часть
Дом
26Как-то раз Лев случайно повстречался на улице Иркутска со своим приятелем однокурсником – Павлом Родимцевым, Пашкой-Рубашкой с ласковой насмешливостью величали его в той, студенческой, молодости. Он, симпатичный, рослый, здравый, был успешен у девушек, лёгок с ними в обращении, и тяжёлый в завязывании знакомств Лев слегка тогда завидовал ему. Кто-кто, а Родимцев всегда будет доволен жизнью, полагал в те годы Лев.
Наступили после дождливого, но тёплого бабьего лета заморозковые, льдистые дни сентября. Лев остановил свой джип и вышел из салона, поражённый внезапно и жутко открывшимся перед ним из-за поворота закатом: западное полотнище неба красно-яростно, с нарастающим раскалом пылало. Рдяные набухшие лучи, точно капли, стекали в жухлую, но сырую листву, расползались по застывшим лужам и, представлялось, обагряли окрестность.
Закат и восхитил, и насторожил Льва. Пытливо всматривался он в горящее небо, однако не понимал, что же нужно ему увидеть ещё, разглядеть глубже, до каких таких подробностей, а может, и смыслов.
Задумался настолько, что не услышал и не заметил – невдалеке с хрустом и взвизгом затормозил заезженный, вылинялый жигулёнок. Из него вылез молодой, но до неопрятности располневший мужчина и, устало покачиваясь, ссутуленно направился к подъезду жилого дома – неказистой малиново-серой (и не малиновой, и не серой, а показавшейся Льву грязноватой, запылённой) железобетонной хрущёвки, иссечённой щелями на блочных стыках, с оборванными водосточными трубами, а потому в уродливых, заплесневелых подтёках.
– Лёва, ты ли?!
Слова прозвучали для Льва странно и вроде бы как издали и из глубины. Издали и из глубины какой-то другой жизни, несоизмеримой с величием и трагедийностью небесного зрелища. Душа Льва полыхала вместе с этим закатом и ему трудно было отвернуться от неба: оно стремительно багровело, наливалось, и мнилось, что свет кроваво липок и густ.
«К чему бы всё это?»
Лев слабо, но не растерянно улыбнулся Павлу.
– Здорово, здорово, дружище, – с невольной и перехватывающей голос хрипотцой произнёс он.
Пожали друг другу руки, слегка приобнялись, можно было подумать, что с недоверием, даже с опаской. Они отличались друг от друга разительно. Лев – сбит, прям, свеж; был одет неброско, но добротно, влито. Павел – сжатый, пригнутый, серый; скорее, подсгорбленный, чем сутулый, к тому же плешивый и седой. На нём, точно бы на подростке, мешком висла линялая синтетическая куртка. «Уже старик», – подумалось Льву.
Павел не сразу догадался, чей стоит рядом с ними этот роскошный, вальяжно густо-синий, но тоже багрово отливающий джип. А когда понял, то изменился вмиг: Льву показалось, что он пониже склонил голову, приосел весь, сконфузился.
– Наслышан: размахнулся ты, Лё… Лев. Не думал, что до такой степени. Твой «коняга»? – с нарочитой небрежностью махнул он головой на автомобиль.
Лев не ответил, прикусил губу. Спросил, неохотно отводя свои глаза от страшного закатного солнца:
– Как ты живёшь, Паша?
– Да так. Живу, хлеб жую. Как все. А ты, вижу, – ого-го: на таких-то тачках разъезживаешь…
Но Лев, поморщившись, с досадой прервал его:
– Давай, Паша, посидим в том баре. Вспомним молодость, что ли.
Ему хотелось поговорить с Павлом: узнать, или, наверное, скорее всего, выведать, как он, что он. Они одногодки, даже почти что, кажется, день в день родились, один и тот же вуз закончили, выходит, должно быть что-то похожее, однолинейное в их судьбах. Может, и Павел тоже какой-нибудь несчастливый, вывернутый человек. Если же доволен вполне жизнью и судьбой – что сделал, важно понять Льву, так, как надо было.
Лев по сотовому позвонил в офис – отменил встречу; в трубке стали возмущённо урчать, но он, не дослушав, отключил телефон вовсе.

