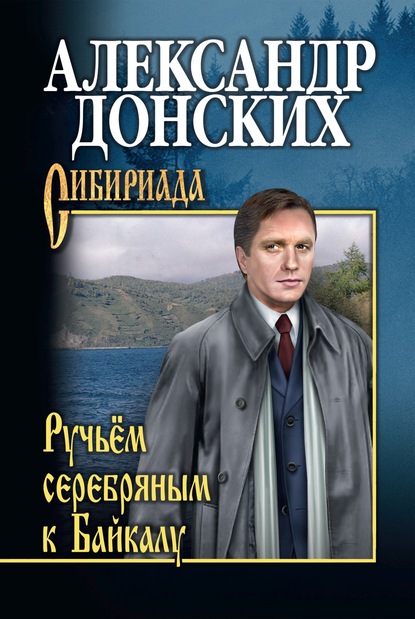
Полная версия:
Ручьём серебряным к Байкалу
– «Что»? О-о-о, «что»! Теперь правильно, мой учитель? Ещё повторить?
Дерзостна, а слёзы обиды сдержать уже нет сил. Он промолчал, покосился на её высоко открывшиеся из-под края подола точёные ножки, заброшенные на одеяло. Перевалился лицом к стенке.
– Ты думаешь, что я какая-то особенная, не такая, как все? Что я, сказал ты, дева? – по-особенному – с ласковой язвительностью – произнесла она «дева», морщась от досады на недогадливость кавалера. – Да ты что: я баба бабой! Забыл, бедненький? Уж и родила! Мозги тебе зашибли, что ли? – хотя и на вызове, но придавленно засмеялась она.
– Ты станешь девой. Если захочешь.
– Стану девой?! Если захочу?! – на полдыхании переспросила она и порывисто заглянула в его лицо: подтрунивает, издевается? Что за человек такой! Вроде бы не дурак, при деньгах, разодет весь, начальник большой.
– А к чёрту мне девой становиться, объясни-кась, Лёвушка? Да к тому же какой-то там чистой да святой. Мне и просто бабой, рожавшей бабой, бабой-дурой, нехило живётся.
Он молчал. Ей надоело ждать – снова к нему прильнула, но он опять никак не откликнулся. Лежал с закрытыми глазами и, слышала она, дышал в стенку.
– Сопишь, барсук?
Она встала:
– Дурак ты, вижу. И бесчувственный. Чурбан чурбаном!
Хлопнула его по спине и в плаче выбежала, хлобыстнув дверью.
Она не знала, не понимала, что он страдал. Он страдал, потому что не мог, потому что наверняка знал – не сможет, не сумеет как-нибудь доходчиво, начистоту, как самому близкому, родному человеку, объяснить Любе, почему ему сейчас не хочется затягивать её в извечное, тривиальное действо, неминучим водоворотом затеивающееся между мужчиной и женщиной. Всё это было, было у него, и сколько раз. Но никогда ещё не занималось, огнём ли, сиянием ли, высокое, но живое, настоящее чувство, не вмещающееся ни в его сердце, ни в его разум. Как ей, молодой женщине, ждущей от жизни немудрёных, без всевозможных замысловатостей тропок к личному счастью и благополучию, сказать, чего он хочет на самом деле? Не мог и не хотел Лев сказать вот так сразу, с ходу, что хочется, что надо бы продлить, растянуть это сосущее, горько-сладкое состояние неопределённости, неотгаданности – неотгаданности её, этой самой Любы, его Любви желанной. Как ей сказать о выстраданном, чтобы не обидеть её, чтобы было красиво и свято для обоих? И чтобы она не засмеялась, не усомнилась, не сникла в сомнении, недоверии, а то и отчаянии.
Вечером Люба всё же пришла к нему. Она была отходчивой девушкой и хотела счастья. Глаза красные и тусклые, – ему понятно: переживала. Благодарный и повинный, легонечко прижал её к себе, долго гладил по маленькой тёплой голове и тоненькой, с хрупкими косточками шее, вдыхал запах её вьющихся волос. «Ладно, попробуем: пусть будет моей женой. Если, конечно, захочет». Он знал, что так, именно так надо было подумать и сделать, чтобы жить стало хотя бы немного легче, чтобы путь мало-помалу выпрямился и разъяснился.
Вся привилась к нему и целовала «искусно», «опытно». «Такая же, как все», – становилось невыносимо одиноко и печально Льву.
– Не любишь целоваться? – маленькими шаловливыми пальчиками пробегала она по его мускулистой руке. – Или ещё больно губы?
– Больно, – с очевидным неудовольствием едва слышно произнёс он и всмотрелся в её задорно засверкавшие, замечательные своей чёрной глубокостью глаза.
Но впервые разглядел в них какие-то рябинки, да в желтоватой ржавчинке. «Нечистая глубина».
Разозлился на себя:
– И чего надо человеку по имени Лев?
– Что?
– Правильно – «что»! – заставил он себя улыбнуться.
19Пересиливая великие сомнения, через месяц Лев сделал предложение, и Люба сразу согласилась.
Это случилось светлым и свежим, как утро, вечером конца августа. Они прогуливались по бульвару набережной Ангары. Было ни жарко, ни прохладно – благостно. Уравновешенно и тихо было и на земле, и в небе. С реки заботливо надувало влажно и пресно. На днях установилось ясное тёплое предосенье, довершающее недолгое сибирское лето, а потом всевозможная непогодь покатится по земле, с дождями, с заморозками, с непременным густым тяжёлым снегом кануна октября. Сегодня же – и роскошное сияние Ангары, и проглаженное, искрасна высветленное зашедшим солнцем высокое небо, и бодрый речной воздух, и шелест увядающих трав и листвы располагали к здоровому лёгкому дыханию, к течению и освежению чувств, к ожиданиям приятных волнений, к началу какой-то хорошей, правильной в долгости своей жизни. Река течёт, и жизнь течёт. Нужна ли остановка, возможна ли? – чувствовал выводами и вопросами Лев всем своим напряжённым и ждущим существом. И ему показалось – окружающее подталкивало, подзывало его, такого неустойчивого, осмотрительного, сказать то главное, над чем он тревожно и пугливо думал последнее время, как познакомился с Любой.
Нужно, наконец, что-то менять в своей жизни, не вечно сычом и неврастеником жить. И он торопливо перебирал в руке маленькие влажноватые пальчики своей нежданной Любови.
Они медленно и молчаливо шли вдоль длинного, замысловато изгибистого парапета, с преувеличенным интересом заглядывали через него на реку, на курлыкающих ненасытных чаек, на оборвавшиеся с деревьев сверкающие паутины. И снова, как когда-то в ресторане, оба примечали, что прохожие заглядываются в их сторону: интересной, наверное, находят парой.
Лев украдкой любовался Любой. А она тайком, с терпеливым поджиданием поглядывала на него, зачем-то мурлыча песенку.
Лев, представлялось ему, уже и кожей чувствовал, что она ждёт. Зачем-то покашливал в кулак. Что ж, пора бы и сказать, кажется.
Не сказал.
Да, пора! – через десять – пятнадцать шагов взбодрился он и даже зачем-то поправил галстук.
Но смолчал. Вздохнул.
– Что, опять болит, Лёвушка? – спросила Люба, дотронувшись до его непроходящего правого бока.
– А? Что? Да, да.
Лев не сразу понял её вопрос. Усмехнулся, в сморщенности поведя щекой:
– Болит, болит. Сил нету терпеть.
Она что-то хотела сказать. Быть может, посочувствовать. Не успела.
Лев развернулся и резко остановился перед ней, положил руки на её низкие, чуть не по пояс ему приходившиеся, плечи и сказал насиленно просто, буднично, сверху глядя на темечко с завитком, стоявшим гребешком, а не в глаза её:
– Выходи-ка за меня замуж, Любовь ты моя маленькая, дева ты моя чистая и святая.
Она улыбчиво сморщила нос, мотнула головой, неловко, кутёнком, ткнулась лицом в его грудь. Он обнял её и с нежной покровительственностью погладил по спине. Ему стало легко и просветлённо, но печально. Просторнее сделалось в груди, точно бы махом отсёк разросшуюся опухоль или нарыв. Ему даже почудилось, что снова взошло и прыснулось калёно-бело, по-дневному, солнце. Прижмурился на небо: жить так жить! Он такой же человек, как все. Не правда ли? – спросила его душа у кого-то неведомого и невидимого, но, быть может, подслушивающего и подглядывающего.
– Маленькая? – спросила Люба, уже со строгой улыбкой взглянув на него и зачем-то приподнявшись на носочках. – Кто маленькая? Твоя любовь?
– Ты, ты маленькая, – понял он свою обмолвку, и ему стало досадно, что так получилось в такие минуты.
– А-а-а.
– А ты что подумала?
– Ты мужик – ты и думай, – скороговоркой ответила она, но крепче привилась рукой к его руке, чуть не повиснув на ней. – А за чистую и святую – на этот раз спасибочки. Только в девы меня не записывай: кто услышит из моих знакомых – обхохочется.
«Вот и всё, что надо человеку, – подумалось или почувствовалось механически, – но о ком: о себе, о ней или вообще?»
Познакомил с матерью. Полине Николаевне Люба, кажется, понравилась. По крайней мере мать была любезна и учтива с девушкой. Только погодя наедине сказала сыну:
– Дюймовочка, куколка. Таких только на руках и носить… в прямом смысле. Но-о-о, Лёвушка, родненький, как же без образования она? Прямо чудно в наше-то время. Пристроим в лицей, а потом – не поздно и в институт поступить. На заочное. Правильно?
Сын нахмурился, сдавленно закипел:
– Мне её образованность не нужна. Мне она нужна, – диктующе и строго произнёс он, но тут же осознал и смутился, что снова почему-то не называет мать мамой.
– Ты со мной странно разговариваешь, – повлажнело в глазах Полины Николаевны.
– М… м-мама… прости.
– Ты действительно любишь её?
– Любишь, не любишь – слова, слова!..
Оборвался, замолчал, не свил мысль, то ли не зная, то ли не желая уточнений. Смотрел в окно, густо-чёрное, заполночное, забрызганное дождём и затянутое туманистой пеленой. Ничего не разглядишь, только чахло, жёлтенько дрогнут в глуби города огни.
– Я хочу, Лёвушка, чтобы ты был счастливым.
Помолчав, мать прибавила, но ни вопросом, ни утверждением прозвучало:
– Может быть, слюбитесь.
Лев не отозвался, стоял, сутулясь, покусывая губу, и она прибавила ещё, невольно сорвавшись голосом:
– Стерпитесь.
Он повернулся к матери, взглянул в её глаза, забитые этой отражённой осенней сырой заоконной тьмой с бьющимися за жизнь огнями, и понял, что она ничуть не верит в его любовь, но страстно и необоримо верит во что-то другое в нём.
И они разобрали друг у друга в глазах:
– А он стерпелся когда-то с тобой?
– Ты меня не укоряй, сынок: я-то любила, и как! А ты? Ты не её любишь, а свою мечту о ней или о какой-то другой женщине. О принцессе, видимо.
– Но разве мечта – это хуже, чем человек? Ведь и ты теперь зачастую живёшь мыслями о том, что могло бы быть у тебя с отцом или с другим хорошим, любимым человеком. И эта мечта ведёт тебя и поддерживает. Может быть, и мне подсобит когда-нибудь и как-нибудь.
– Мечта, не спорю, бывает лучше человека, но человеку всё-таки нужен реальный, а не выдуманный человек, чтобы расти, а не опускаться ниже и ниже в своём самообмане, что, грезя, летаешь и возносишься. Падаешь, только падаешь, поверь!
– Но чтобы падать, нужно уже находиться где-то высоко.
– Подожди, сынок: мы этак запутаемся во всей нашей софистике.
– Понимаю: боишься, что снова заговорим об отце?
– Нет. О твоём отце я люблю и думать, и говорить, в том числе и с тобой. Разве не замечал? А боюсь вот чего: что не смогу в какой-то тяжёлый для тебя час помочь тебе, притянуть тебя поближе к земле. Оторвёшься – улетишь. И высоко, и далеко. Не дотянусь, не докричусь. Страшно. Пойми меня – мать.
– Улечу – так, возможно, быстрее найду то, что ищу и жду?
– Ты сердцем на земле найдёшь то, что ищешь и ждёшь. Обязательно найдёшь, потому что у тебя здоровое, умное, чуткое сердце. Оно твой проводник и помощник. Плохо, что ты иногда мешаешь своему сердцу: подсказываешь ему, не слушаешься его, своевольничаешь, как мальчишка. Но я верю, что ты, сынок, научишься жить сердцем и найдёшь, отыщешь, несмотря ни на что, свою настоящую, самую что ни на есть настоящую большую любовь.
Мать слабо улыбнулась сыну, утомлённо призакрывая веки и покачивая головой. Он разглядел, до чего тонка и «изношена» кожа её век, окологлазья, всего лица и в особенности шеи: дрябла, сера, паутиниста.
– Прости, что напомнил тебе об отце, что упрекнул…
Но не досказалось: тепла сердца не достало.
Первым отвернул глаза. Разговор душ оборвался.
Было жалко мать, стареющую, одинокую, в сущности, несчастную, «непонадобившуюся единственному её мужчине». Но не умел утешить мать, поблагодарить, быть может.
Он снова почувствовал, что они друг другу не совсем родные. Стало обидно и одиноко.
А вслух они сказали просто, безлично, так, как удобнее, чтобы дальше жить каждому своей жизнью:
– Уже поздно. Пора спать. Спокойной ночи.
Сын понял, что мать очень недовольна его Любовью; раздражало и сердило, что она не отговаривала. И он словно бы надломил свои недавние, вздрогнувшие нежностью к матери чувства, как порой надламывают мешающие при движении ветки. Ему стало представляться – мать потому не отговаривает, что желает своему сыну судьбы его отца – как, возможно, отмщение бывшему мужу и как неоспоримое, веское доказательство, что она права была, когда упрекала того. Спать надо, уже ночь глухая, рано на стройку, но назойливо переливалась, казалось ему, из пустоты в пустоту, мысль, что женщины, мол, слепы и глухи и в ненависти, и в любви своей.
– Да спи ты наконец-то, душевед и мыслитель великий!
Вскоре познакомился с родителями Любы – людьми простыми, неприметными. Они растерялись, занемели перед солидным, начальнического обличья Львом. Квартирка хрущёвская тесная, потолок давил. Подержал на руках её сынишку, глазастого, баловного, но окоченело оторопевшего, не привычного к мужской участливости и силе рук. Льву стало всех их жалко. А почему жалко – не мог разобраться. И не смолчал его внутренний голос: а может быть, если приглядеться попристальнее, не их, а себя более всего жалел, что не по любви – по уму, по надумке какой-то брал Любу в жёны?
Поторапливаясь и отчего-то краснея, сговорился о свадьбе и ушёл. Но может, это было бегство? Но от кого, от чего – от себя, от судьбы?
Деньги водились, а потому решили с Любой: если гулять – так с размахом. Народу пусть будет много. Всего пусть будет много, в избытке, в щедротах. Лев нагнетал в свою душу жизнерадостность и бодрость. А если во что-то ещё не влюбился в невесте, недопонял её в чём-то и сам чем-то не глянулся ей, что ж – жизнь впереди. Разве не так?
Лев знал, что внешне он породистый, умный, сильный, успешный. Но хорошо знал и другое – внутри он часто рассыпан, неустойчив, зол и, наверное, слаб и квёл, как старик. И ему страстно хотелось, чтобы его внутреннее и внешнее в конце концов срослось, спаялось, сроднилось навек, подпитывая и развивая друг друга. Рядом с любимой женщиной так и должно выйти. А как иначе? А иначе ему и не надо было.
Льву хотелось шумной свадьбы ещё и потому, а возможно, прежде всего, чтобы Любе было приятно. Чтобы её любовь к нему разгорелась, засияла, вызрела до всех яркостей и размахов душевных. Чтобы она была царицей среди приглашённого народа. Чтобы она была лучшей невестой города, лучшей невестой страны, мира всего! Лучшей, потому что она его невеста – его, Льва. И Льва не только по имени, но и по сущности своей.
20Деньги были прикоплены даже на то, чтобы безотлагательно, в самые непродолжительные сроки отстроить в пригороде дом. Уже и земля года два-три назад была куплена – пятьдесят соток, не иначе для поместья. Это много и никчемно, если ты не садовод-огородник, а Льву нужны были не столько сады и грядки; ему нужна была земля – своя земля, как твердь наинадёжная. И он непременно станет таким человеком, который вполне и полностью доволен собой и теми, кто рядом с ним. Возможно, со временем заделается крепким домоседствующим хозяином. Почему бы и нет?
Кое-что из материалов уже было завезено, сарай и баня срублены, для возведения гаража с большим подвальным помещением даже залит фундамент. Строил и сам, и людей нанимал, но не спешил, удерживался и замедлялся как мог. Пока один – торопиться, ясно, особо некуда и незачем, не обустраивался как должно бы, лишь изредка, урывками наезжал на участок. Женится – вмиг, конечно же, появиться и дому.
Чаще нагрянет один, на своём великолепном джипе; плохие, дешёвые, к слову, автомобили не любил: он же Лев! Не спеша выберется из салона, постоит, помнётся на кромке перед ещё неогороженным участком, посмотрит туда-сюда, вверх-вниз, побродит по голой бурьянистой земле и уедет, поглядывая в зеркала заднего вида на удалявшуюся землю, которая мнилась ему сиротливой, одинокой, просящей его защиты. Не сразу понял, зачем наезживал: место ему крепко и душевно полюбилось. А название-то какое – Чинновидово! Где ещё такое найдёшь во всём свете?
Начинается здесь предтаёжье, предбайкалье. Скрытно-диковатые, поистине чинные виды. В немереных далях – тайга, тайга. Малохоженные мелкосопочники горбатыми заросшими спинами неведомых животных уползают в глухомань, в дебри, будто прячутся, порой пугая человека неожиданно являющимися содранными боками – буро-серыми скальниками. А там где-то, но недалеко отсюда, и великий Байкал живёт, как сосед, – хороший, надёжный сосед. Лев любит не столько бывать на Байкале, сколько просто думать о нём, для него важно, что озеро где-то неподалёку. В Иркутске – рядом, а тут, в Чинновидове, на три-четыре километра ближе. Ближе, какая подмога и опора!
И, бывает, зачем-то вспомянутся нечаянные и ничейные слова, рождённые, возможно, из воздуха и брызг прибоя:
Ручьём серебряным к БайкалуЛечу с вершин моих мечтаний.Несомненно, славно чинновидовское место, и оно, убеждён и верит Лев, только для настоящей жизни. Иркутск поблизости, отменная шоссейная дорога на Байкал всего-то в полукилометре. А какие вокруг сосновые рощи: деревья с кронами-облаками, стволы мощные, великаньи. По опушкам лесов молодняковые заросли сосёнок и берёз. Воздух чистый, лесной. Всё устойное, всё живёт, всё тянется к выси. Лесов много, но и полей, еланей в избытке. Раскатываются они зыбями на все четыре стороны света, вливаются в леса, в тенистые, болотистые дрёмы. Одно перетекает в другое. А три ближайшие запруды среди полей – драгоценные камни: блещут, голубятся, когда смотришь на них в тёплое время года с высокого холма за Чинновидовым.
Лев уже всю округу исходил. Сначала искал родники, питавшие запруды, ему сказали, что вода в них с серебром, целебная, что бабушки даже из города едут за ней на Пасху. Отыскал с полсотни и каждому радовался по-ребячьи. Воду всплёскивал кверху, чтобы радуги заблестели, пил и омывал лицо, в ладонях разглядывал студёную чистейшую воду. Серебра вживе не обнаружил, но уже был уверен – благодатная водица, чистейшая, может быть, и святая. Бродил и радовался, что красиво, тихо, просторно повсюду. Мечтал о хорошей, устойчивой жизни на этой земле.
Под боком этих недавно размеченных, мало застроенных участков ещё и деревня жительствовала. Она с мычащими коровами и крикливыми петухами, с мужиками в кирзовых сапогах и бабами в широких платках. Трактора по утрам «чихают» во дворах: какая-то сельхозартель объединяет местных жителей. Уже прикидывал: дети пойдут – вот им и воздух смолистый, здоровый, труд на земле, свежее молоко и много чего ещё для них. Да, хочется пожить неподдельно, вовсю грудь.
Для него, для строителя, возвести настоящий дом – месяц-два работы. Было бы для кого и во имя чего.
– Пусть и тебе повезёт. Главное, не трусь, не юли по жизни, загребай обеими руками. Не жди, когда рак на горе свистнет, – сам действуй, и тебе обязательно повезёт… как и мне, – вспоминалось ему и слышалось сердцем давнее отцово напутствие.
На отца он уже не злился, но и не узнавал, как он теперь и что с ним. Так, видимо, удобнее для обоих.
К ноябрю – стоять фундаменту под дом. За зиму подвезти стройматериалов, подыскать толковых работников, а весной уже быть и дому. Летом – отделка, разное обустройство. Пока же можно прибиться с Любой к матери или перетерпеться на съёмной квартире. Лучше, конечно же, на съёмной, чтобы уже сразу по-своему, особо.
21Но не вышло.
«Жизнь переворотило, беспардонно, даже чудовищно и дико. Так переворотило, перелицевало, – после думал Лев, – как если бы шёл ты по улице, а у тебя вдруг отхватили пилой-невидимкой ноги. Боли не успел почувствовать, крови ещё нет, а сам ещё смотришь вперёд и рукой взмахиваешь, точно при ходьбе. А потом только и остаётся думать, если выживешь: может, не туда шёл? А куда оно – туда? И кто постановляет: туда тебе надо было идти или не туда?»
Льва на неделю отправили в командировку, близко, в соседний район, – заурядное, обыкновенное дело. Его стройфирма размахнулась на всю область, возводила дома и котельные, школы и больницы – многое, что подворачивалось, срасталось и поднималось в деловой жизни. Попутно приторговывала материалами, пиловочником, инструментами и оборудованием. Для всех сотрудников, от рабочего и до самого генерального, привычно командировочное покочевье. Заработки и дела дожидались повсюду. Непозволительно упускать, когда от неспешной плановой экономики Россия ринулась в затуманенное нечто, которое и пугало, но и раззуживало людей. Лев ездил с удовольствием, даже с азартом. Любил новые земли, новые лица, любил глухоманьи деревни и тайгу. Где-то можно было на досуге поохотиться, порыбачить, в баньке попариться, с мужиками у костра посидеть, послушать байки, потягивая здешнюю брагу или настойку. Иногда возвращаться в Иркутск не хотелось, как бы ни любил он свой славный город. А иной раз так глянется сторона, что подумает: «Эх, не зацепиться ли здесь, да навсегда?»
Но теперь – Люба у него появилась, Любовь его нежданная. Кажется, есть куда и к кому тянуться.
Отбыл он в командировку, но не выдержал – приехал через три дня на побывку: переночевать, посмотреть в её недоразгаданные – «глубокие, не глубокие, не совсем глубокие, совсем неглубокие?», но «чарующе чёрные, отчаянно ночные» глаза, ещё раз сказать себе, что – та, не сомневайся, та она. А потом с полегчавшим сердцем – назад, в любимые дела с головой. Он уже тянулся к Любе, хотелось оберегать её, такую беззащитно маленькую, трогательно миниатюрную, но порой неосторожно своевольную, «брыкливую» «мою» «женщинку». Что-то, однако, в ней было, без чего ему дальше жилось бы, видимо, хуже, скучно или однообразно. Порой раздумается о ней, растревожится весь, и захочется ещё раз поспорить с матерью, что любит он Любу, свою Любовь, а не только лишь свою мечту о ней, свою грёзу о чём-то несбыточном, не совсем взаправдашнем. Как, однако, матери бывают неправы! И женщины все или многие всё же – слепы и глухи и в ненависти, и в любви своей!
Ранним утром, с пассажирского поезда, разгоревшийся от скорой ходьбы, щедро опахнутый октябрьской волглой моросью, свежий, бодрый, вошёл, вернее, ворвался в дежурку.
И – как взрыв. Как обвал. Как чей-то разбойный наскок.
Он застал её с парнем, уже с другим парнем, не с тем, у которого когда-то отбил её. Парень бережно держал её маленькую, кукольную ручку в своей, а она в благосклонной, сладкой улыбчивости смотрела на него. Два красивых, молодых и, возможно, влюблённых друг в друга человека сидят рядышком – ничего, конечно же, предосудительного, обычная и вполне приличная история, если бы она была не его Любовью.
Лев пошатнулся. Что за анекдот, вечный и тупой, с уехавшим в командировку мужем? Что за такие тайные силы ловко и глумливо обошлись со Львом? Чтобы только посмеяться над ним или ещё и остеречь, отвести от опасной черты?
Лев почти что осязаемо почувствовал, что вмиг почернел, но не внешне – внутри, кровью, воздухом вдохнутым и застрявшим. На мгновение ему почудилось, что и глаза залепило чем-то чёрным – не проморгаться.
Если не осознал, то ощутил – жизнь сорвалась. И яма ли, могила ли, хлябь ли перед ним услужливо распахнулась? Или пока только в нём самом? Неужели жизнь снова обманула, вывернулась самой дурной стороной?
Парень бочком, без дыхания, даже не смаргивая, выскользнул за дверь, трусцой чуть не на цыпочках убежал по тёмному сонному коридору.
Любовь шатко привстала, утянула шею глубоко, цыплячьими крылышками встопорщились её плечики. Ужатая, наморщенная, стала к тому же какой-то серовато-желтоватой, и можно было подумать, притворилась, что старая, что никому ненужная, кто на неё посмотрит? Лепетала; даже шепелявить стала, по-старушечьи. Она ли та самая перед ним? Или уже так много лет минуло, что она постарела? Не понимал её лопотания и не вслушивался. Кажется, уже и не видел её вовсе, не осознавал рядом с собой. В его глазах нагущивалась, натвердевалась слой за слоем тьма. Но глаза были открыты. Стало быть, что-то другое оказалось тьмой и беспросветом.
Он чуть шагнул – не совсем к ней, как-то наискось, но не совсем к выходу. Зачем, куда, к чему, к кому? Или искал выход, ход, пролаз какой-нибудь. Или же искал настоящую свою Любовь, отчаянно, безумно уповая, что не так вышло только что, а остаётся всё по-прежнему, только бы вот отвязаться от этого гнусного наваждения, от этой пошлой бредятины жизни. Но, быть может, он и впрямь ослеп – ослеп глазами, душой, памятью, и теперь остаётся тыкаться, обжигаясь, укалываясь и всегда страдая.
Ещё переместил ноги, но опять – зачем, куда, к кому? Ответил бы, спроси его кто-нибудь? Он и она уже стояли вплоть. Но он – окаменело безразличный, безжизненный или отживший своё, а она – вся живая, вся в жизни, вся – обычный человек: подгибается, трепещет, ладошкой заслоняется. Шевельнись он ещё хотя бы чуть-чуть – и, точно, умерла бы от страха. Но надо жить – кому это может быть непонятно! И, не дожидаясь, когда он ещё раз шевельнётся, чтобы, конечно же, размозжить кулачищем-молотом её маленькую голову, она безысходно, на самых высоких чувствах заголосила:

