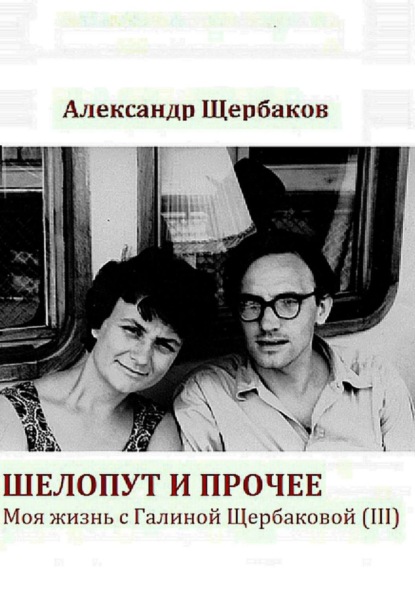 Полная версия
Полная версияШелопут и прочее
Да, неблагосклонная обыденность то и дело норовит заместить (вытеснить?) смысл существования. Но когда «день становится похож на день» своей пустотой, слова, мои слова, как отзывчивые друзья, заполоняют и голову, и, кажется, дом. Возникает новый старый смысл – мои писания: но уже не привычно-желанные – газетные и журнальные, а вроде бы как примеряющиеся к книжному переплету; и не о мире вокруг, а в основном о том, что всегда жило только внутри. Кто у меня может отнять это? Меня смущает невольно возникающая мысль о еще одной книге – я все-таки не писатель. Но надеюсь, это не пошлое честолюбие, а издержки все той же любимой профессии (как это у Володи Глотова – «мы казались себе пупами земли»). И твердо знаю: главное – чтобы было написано. Написанное – прочтут.
Вот что мне самому представляется необычным. Мои личные переживания и впечатления, оказывается, способны сами собой, ни у кого не спросясь, превращаться… в текст. Он как бы самообразовывается в голове. (И это что-то иное по сравнению с редакционной работой, исток которой – в заказе, начальственном или общественном.)
Впрочем, со мной уже было так примерно в 14 лет. Я тогда впервые увидел электроиллюминацию. На новогодней елке, которую впервые за всю историю нашего городка установили прямо на улице. Я замер в онемении перед ниспадающими разноцветными волнами, меняющими окраску и вновь восходящими к верхушке с густо-красной звездой. Мое великое эстетическое потрясение тогда вылилось на бумагу, можно сказать, в поэму в прозе. Хотя я ее и отнес в редакцию «Красноуральского рабочего», поскольку уже задумывался о журналистике, она была не плодом «ума холодных наблюдений» грядущего репортера, а безыскусным откликом душевного волнения. В газете была напечатана примерно одна восьмая часть моего сказа, и это уже был урок профессионализма.
За всю жизнь у меня, наверное, было еще 2–3 текста, воспроизводящих мое чисто внутреннее состояние, но ни один из них не стал достижением в работе. Полагаю, и данная рукопись вряд ли привлечет читательское внимание (предчувствие этого наделяет меня легким ощущением… свободы). Она по своей природе – дневниковая журналистика. Если повезет с настроением и если счастливо встанут звезды, может сложиться в добротный текст. Но – не в писательский по самому характеру.
Писатель – вообще существо иного рода. Хотя известно, есть люди, одновременно обладающие двумя талантами – писательским и журналистским.
«Автору этих строк в 2004 году посчастливилось взять интервью у Галины Щербаковой, – рассказывала в одной из московских газет Екатерина Слюсарь. – В этом интервью Галина Николаевна произнесла поразившую меня, тогда еще начинающую журналистку, мысль…»
Однако прежде чем обнародовать эту мысль, я должен, по заведенным мною правилам, представить газетчицу, которая провела беседу с писательницей.
…Это было в пору моего второго пришествия в «Огонек», после того, как я сбежал из еженедельной газеты «Век». Журнал стал совсем другой и внешне, и по существу. Я пришел туда в качестве шефа по тематике личной жизни. Поначалу мой отдел был многочисленным и с хорошим выходом на страницы. Мне нужен был дельный помощник (в то время как раз входило в моду словечко «референт») по различным редакционным заботам и надобностям. Тут я узнаю, что референт соседнего отдела, очень милая девушка Катя, по каким-то неизвестным мне причинам не хочет больше там работать. И мне без особых хлопот удалось переманить ее к себе.
Это была находка. С ее приходом я мог выбросить из головы всю рутинную сторону производства. «Все под контролем!» – как порою переводят двухсложное «o'key» редакторы субтитров зарубежных фильмов.
Когда я в 1999 году стал главой второй (общественно-политической) тетрадки «Литгазеты», увел туда и Катю. Она же, между тем, исправно училась на редактора в Университете печати (бывший Полиграфический), а окончив его, стала работать в издательском центре, выпускающем несколько газет на северо-западе Москвы. Оттуда и позвонила мне с просьбой помочь устроить интервью с писательницей Щербаковой. Конечно, она могла обойтись и без меня, если бы знала, что Галина никогда в жизни не отказывала во встрече ни одному журналисту.
Уж не знаю, чем подкупила Катерина автора «Вам и не снилось», но Галя поведала ей многое такое, о чем не рассказывала другим. И вот что всего более поразило молодую корреспондентку.
«Самые первые шаги к писательству я сделала в детстве, когда организовала своего рода «литературный кружок», собирая вокруг себя мальчишек и девчонок с нашей улицы. Я пересказывала им все прочитанные книги, при этом довольно смело трактуя литературные сюжеты. Один роман у меня плавно перетекал в другой, иногда казалось, что в книге написано не совсем правильно, и тогда я «исправляла» фабулы, добавляла что-то от себя. Где-то глубоко внутри сидело желание при помощи слов создавать какой-то другой, новый мир, как сказали бы теперь – другую реальность.
<…> Сама по себе школа была мне отвратительна воспитательной работой, собраниями… Мне было 22 года, естественно, хотелось одеваться и выглядеть соответственно своему возрасту, например, носить модные тогда укороченные платья. Но мне говорили, что так нельзя. И тогда я решила перейти в журналистику, стала корреспондентом молодежной газеты. Вот тут мне уже все нравилось, это был совсем иной мир. Постепенно, как и раньше в своих рассказах детям-сверстникам, я начинала добавлять в журналистские заметки то, чего никогда не было на самом деле. И вдруг поняла, что самое интересное, что есть в журналистике, – это привирать. Я всегда чего-нибудь привирала и очень боялась, что когда-нибудь меня «схватят за хвост». А людям, о которых я писала, мое вранье безумно нравилось. Я приподнимала их над обыденным, создавая иной мир, в котором все у них было красиво. Это уже начиналась литература.
Однажды я все же попалась. Когда стало известно, что я добавляю в свои публикации сведения, мягко говоря, не соответствующие действительности, мне чуть было не указали на дверь. С тех пор я поняла, что журналистика – не литература, и что мух от котлет надо отделять».
«Я до сих пор помню это высказывание Галины Николаевны, но «привирать» так и не научилась, – вспоминала позднее Катя. – Видимо, нужен для этого какой-то особый талант, а вернее, писательский дар, которым обладают немногие».
…«Я вся такая внезапная, такая несуразная, противоречивая»… натура. Эти лукавые самоопределения студентки Анны Адамовны из пьесы Леонида Зорина «Покровские ворота» я не без ехидства примеряю к себе. Относясь с большим недоверием, да что там говорить – с подозрительностью к любым мемуарам, сам я сейчас нечто вроде них и кропаю. От этого противоречия рождаются размышлизмы о коварстве так называемой правды в non-fiction, о свойствах документальности и об эффекте подлинности в художественных текстах.
Галина всегда с неподдельным интересом поддерживала разговор с любыми собеседниками о житейском, злободневном, смешном или страшном, но неизменно уходила в себя при пожеланиях типа – «это же готовый рассказ». Она была убеждена, что подлинная правда рождается и существует во всей полноте исключительно в воображении, а чужеродный ей голый документализм по-любому обедняет ее. Он для набирания жизненности должен быть обогащен творческой фантазией. «Продукты этой фантазирующей деятельности… приноравливаются к переменчивым житейским потрясениям», – писал Зигмунд Фрейд, – то есть становятся стопроцентно правдивыми.
Но то, что в писательском волшебстве служит живой водой образности, начисто хоронит саму суть рукоделия мемуариста. Поскольку воспоминания, «свидетельствующие» о правде, проходят через тот же невольный фильтр – чистилище представлений: как должно быть. Это умозрительное долженствование податливо замещает в голове былую реальность. И вот результат – «как сейчас помню»! Можно ли объехать на какой-нибудь кривой это обстоятельство едва ли не органического свойства? Вряд ли. Потому-то я, не доверяя самому жанру, стараюсь сопоставить картинки памяти с сохранившимися датами, документами, всяческими бумажками и другими доступными свидетельствами.
В большой мере именно поэтому же силюсь разломать принятые рамки книг о былом с их неумолимой последовательностью, а значит, невольным потаканием той же коварной логически-естественной силе – как должно быть. Перемешивая по наитию и как бы в беспорядке кадры различной хронологии, я еще и разбавляю их «посторонними» сюжетами… Все в надежде на святую правду-истину. Которая вообще-то вряд ли кому необходима, кроме… меня самого.
Говорю то, что давно должен был сказать: «Шелопут и Королева», «Шелопут и фортуна», «Шелопут и прочее» – это не мемуары, а что-то другое. Многочисленные любители мемуарной литературы должны это знать. Парадокс, но при этом повторяю как Отче наш: «Тот, кто описывает, как было, лжет. Не лжет тот, кто сочиняет» (Хьелль Аскильдсен).
(Это чрезвычайно глубокое и многозначное наблюдение очень хорошего норвежского автора тот приписал одному из героев своего романа «Окружение», писателю Альберту Крафту. Весьма примечательного сочинения, написанного в форме киношного сценария.)
Так что я пытаюсь исполнить головоломный психологический трюк: максимально приблизиться к тому, как было, и при этом, исключив малейшую невольную возможность сочинительства, не солгать. Главное, повторю, – не наврать самому себе. Может быть, это недостижимо. Однако стремиться-то можно?..
Вернусь к размышлению Екатерины Слюсарь об особом писательском даре «привирания». Раз уж, дорогая Катя, наша судьба быть журналистами, то нам, действительно, совершенно не дано привирать. Скрупулезная, абсолютная точность – наше кредо, нельзя в работе «подправлять» действительность. Бесспорно, когда-то именно с таких «уступок» начинали ныне презираемые порядочными людьми «звезды» пропаганды российского телеящика, без зазрения совести называющие себя журналистами.
А Галя… Стремясь быть как можно правдивей перед корреспонденткой, она как раз и не позволила себе скрыть подробности своей молодой жизни, то ли… приукрашивающие ее образ, то ли, напротив, пятнающие его. Прикрыв их при этом легкой иронией, но с четкой недвусмысленностью в заключение: «мух от котлет надо отделять». Она хорошо усвоила эту истину и еще до своего писательства стала отменной журналисткой.
Словарь русских синонимов приводит тридцать разновидностей смысла «привирания». Среди них есть два таких: извращать факты; шлифовать. Так вот, первое относится к журналистике, а второе – к писательству. «Шлифовать» это – от «желания при помощи слов создавать какой-то другой, новый мир». Собственный – и подлинный. Подлинность как раз и шлифуется в творческой фантазии писателя.
Мое же графоманничанье, подоспевшее ко мне на 75-м году, часто кажется мне несолидным, ребячливым. «Шелопутным». Но что поделать, оно расцвечивает мои дни. А главное, занимаясь им, иногда чувствую касательство к нему… самой Гали. И хочется не отрываться от монитора и клавиатуры, чтобы продлить эфемерное, мгновенное ощущение: она здесь, она есть…
В 2012 году я готовил к печати книгу Галины «Печалясь и смеясь». Уж не помню зачем, перебирал на тумбочке справа от ее рабочего кресла стопочку из шести книг, для какой-то надобности ею отложенных. Наугад раскрыв томик стихов Юрия Левитанского, наткнулся на восемнадцатистрочную миниатюру.
Собирались наскоро,обнимались ласково,пели, балагурили,пили и курили.День прошел – как не было.Не поговорили.В следующих десяти строках отражен весь скоротечный человеческий век. И вот его итог:
Жизнь прошла – как не было.Не поговорили.Возникшее сочувствие к простодушным ласковым балагурам вдруг перешло в жалость к собственной судьбине. Она и побудила сесть и зачем-то перепечатать стихотворение. А потом, можно сказать, не задумываясь, написать: «Так бесхитростно обрисовал наше бытие один из моих любимых поэтов Юрий Левитанский. Повторяя мысль какого-то приметливого англичанина – жизнь человека состоит из потерь (human life is made up of losses), я ныне полагаю, что главная потеря как раз и заключается в том, что «не поговорили», не договорили – ни в дне, ни в году, ни в жизни. Просек я эту истину, когда ушла из жизни моя жена Галя. …Мне повезло главным человеком своей жизни избрать сочинительницу, рассказчицу, которая оставила в виде букв на белых бумажных листах большую, бо́льшую часть своей души, своих сомнений, страхов, надежд… И получилось – можно говорить, можно вести диалог, беседу».
И… она пошла сама собой, беседа и с Галей, и с невидимым читателем, словно кто-то диктовал текст… Никогда так просто и легко не писалось, как в тот день. Это был какой-то сигнал. Пять книжных страниц выдохнулись непроизвольно. Я, боясь себе поверить, старался удержать настройку, состояние духа, посетившее меня, в чем-то горестное, но в то же время легкое, свободное… И, как потом оказалось, нашел способ «включать» его в себе. Для этого нужно перелистать то, что было написано ранее именно в таком состоянии. А вот все, что потом придумывалось «подневольно» («надо, Федя, надо», работа есть работа), было лишено магического эффекта.
Точно то же происходит с выстраиванием сочинения. Загодя задуманные толковые продолжения, логичные и перспективные, как правило приводят меня к какой-то… скуке, а главное, к необходимости дальнейшего трудозатратного «планирования». В голове теснятся размышления не по существу, а, как говорится, по повестке дня.
Мне по душе иное. Открыть поутру компьютер, как посылку с неожиданным подарком, с любопытством, не спеша, «шевеля губами» прочесть написанное накануне, опять же неторопливо поменять неудачные слова, даже кое-что переписать… Порой это делаю еще, а потом и еще раз. Жду. И, чаще всего, дожидаюсь желанного, неизвестно откуда взявшегося, но внятного продолжения. Иногда подхватывающего вчерашнюю фабулу, но нередко выводящего на первый план что-то новое. Меня своеволие текста не обескураживает. Главное – сохранить тональность, строй. И тогда только и требуется – не противиться, отдаться воле волн, направляемых кем-то (чем-то) более искушенным, чем я, в писании, в складывании слов, в фонетических благозвучиях и т. д., и т. п. Это драйв и кайф – следовать ему (кому-то?/чему-то?)…
III
Мои бумаги, как любил я вас.Как вам служил, как вас боготворил,Надеялся на то, что вы продлитеЕще немного жизнь мою в потомках,В их интересе к старому архиву:Газетам, книгам, письмам, дневникам.В бумагах закопал свои глаза,Теперь из этих высохших бутоновРастет густой и призрачный туман,А может, дым сгоревших ожиданийНадежно устилает темный путь?Затменье жизни книгой омертвелой,Ее ревнивая слепая власть…Еще звенит призывно колокольчик.Но слух иные пробует пределыНевидимых тропинок паутину,Простых эмоций безыскусный вкус.Придется неминуемо менятьСоблазн иллюзий, райский сад словесныйНа колкие шипы реалий жизни.Открыть все шлюзы алчущего бытаИ затопить все прежние мечтаньяИ сдаться, наконец, предметам в плен.Но все-таки, обманщица-бумага,Я не отрекся от тебя пока.Это стихотворение появилось здесь для меня внезапно, но, как оказалось, с точностью детали пазла мозаичной картины. Для продолжения повествования, так мне показалось, понадобилась одна моя давняя публикация. Я нашел ее в самом первом номере еженедельника «Большой город». Извлекая его с гарнитурной полки мебельного набора «Лович» (поклон социализму и Польской народной республике), даже не заметил, как с нее упала махонькая, 10×7 см., книжечка под названием «Владения скарабея». Но не на пол, а на тонкий радиатор электрообогревателя, зацепившись на нем разворотом с приведенным выше стихотворением.
Хоть под ним и обозначено место сочинения – Каир, Музей папируса, – я понял, что все сказанное относится к автору, Владиславу Смирнову, нашему давнишнему другу. Профессор, доктор исторических наук, страстный летописец города Ростова-на-Дону, он был действительно вернейшим рыцарем Бумаги. Документа. Однако в равной степени написанное им подходит и ко мне, к моему профессиональному поклонению бумажным свидетельствам (в отличие от любых других).
Едва успев переварить эту мысль, я был буквально поражен, прочтя дарственную надпись: «Дорогим моим Щербаковым. «Исхождение» своей души – слово. 11.07.98». А я как раз только что написал в этой рукописи абзац о своих взаимоотношениях с моими словами как отзывчивыми друзьями… Я несколько раз перечитал Славино стихотворение, находя в нем все новые смыслы. Особенно меня интриговали слова: Придется неминуемо менять/Соблазн иллюзий, райский сад словесный/На колкие шипы реалий жизни.
Знал бы я, как скоро, буквально через день, меня кольнут эти шипы.
Переехав в 1960 году из Челябинска, из областной молодежной газеты, в Ростов-на-Дону, я поначалу 19 месяцев проработал на тамошнем телевидении и радио. «Пока все, что я здесь делаю, мне не больно-то нравится, почему-то кажется довольно халтурным занятием, – отчитывался я в письме к родителям. – В газету обычно такая муть не идет, какую здесь выдают в эфир отделы общественно-политической редакции. …Я напишу ерунду, а зав. отделом правит. Смотрю – а от правки ничего не улучшилось и не ухудшилось, ерунда так и осталась ерундой. Зачем правит – ума не приложу».
«Жалкое, по преимуществу, словесное качество эфирной публицистики по сравнению с печатной – дело обычное и привычное, – размышлял я в своей книге «Шелопут и Королева». – Но ведь у работников микрофона и экрана есть множество исключительно заманчивых «цацек». И в те времена они тоже были… Разве не круто с утра монтировать радиорепортаж с ярмарки, записанный вчера, а вечером – быть «в кадре» с обзором откликов телезрителей… А ПТС (передвижная телевизионная станция) – разве не забавная игрушка, если прирулить ее, скажем, в городской парк?.. А ни с чем несравнимое чувство ответственности при дежурстве по Комитету, когда у тебя под началом и контролем все показываемое и звучащее в эфире для миллионов людей!
Так что я, убеленный сединами заслуженный работник культуры, вовсе не бросаю камень в того, 23-летнего юношу…»
Да и сейчас на спешу его бросить, если речь о технологии, словесных приспособлениях к ней. Они же не смысловые, а чисто вспомогательные и прилегающие скорей к устной речи, чем к литературной.
Однако если бы речь шла только об этом…
Из переписки в Фейсбуке.
«Саша, что случилось? Из обрывков комментариев я понял, что телевидение тебя обдурило. Пригласили в эфир и оттоптались на памяти Гали? Вот уроды! Ну, ты тоже хорош. Ну, куда тебя понесло? Да их надо стороной обходить за три квартала».
«…Гораздо дальше, чем за три. Но зато я получил неведомый мне до того опыт. Несмотря на древние годы, я все же наивный человек. Смотрю: люди как люди, не похожи на какую-то думскую шпану или звезд телепропаганды, говорят членораздельно. А вышло-то как… Так что, действительно, я, получается, хорош. Набираюсь мудрости».
Вот что случилось. Меня разыскало по телефону телевидение «Россия 1» и прислало ко мне двух корреспондентов. Цель – подготовка к программе, посвященной 35-летию повести и фильма «Вам и не снилось». Так называемый «Прямой эфир». Пока один пришелец отснимал большое количество фотографий Галины в разных ракурсах и с различными людьми, в основном с членами семьи, мы с его сообщником на кухне за чаем обсуждали предстоящую передачу. Корреспондент обнаружил неплохое знание предмета. К примеру, когда в разговоре мелькнуло, что Галина ушла из жизни 23 марта, он начал рыться в памяти смартфона и вскоре показал мне дату: оказывается, именно 23 марта состоялась премьера популярной картины. Ничего не значащее совпадение, пустячок? Но и он располагал к благодарному доверию к устроителям передачи… Так славно все и шло, пока мои гости вдруг не стали тормошить меня настоянием поехать с ними в студию.
– Зачем? – отвечал я. – Я все выложил, ведущий может взять из рассказанного что ему угодно. Если мало – вот только что вышедшая моя книга. А еще можно использовать сохранившиеся телеинтервью Галины…
– Это не заменит свидетельство живого человека.
– Дорогие, я не смогу публично ничего свидетельствовать просто физически, вы же видите – после инсульта у меня по-настоящему не восстановилась речь.
– Не важно. Вас посадят в первый ряд, а в конце передачи ведущий скажет: «И вот среди нас находится человек, который всегда, даже в самые трудные дни поддерживал Галину Щербакову». Вы же сможете ответить словом «спасибо»?
– Кроме этого, смогу еще и надувать щеки.
– Ну, вот. Встанете и поклонитесь публике… Давайте одевайтесь, мы вас подождем.
…И вот я уже считаю часы в гримерке. Время от времени ко мне заглядывают то редакторша, то гримерша, то охранник (видимо, чтобы убедиться, на месте ли я). Наконец за мной пришли двое и повели в закулисье. Да, перед этим женщина-редактор и мужчина-технарь поместили на меня микрофонную гарнитуру.
– Зачем? – удивился я. – Мы же договорились, что мое дело – только вежливо поклониться.
– Да пусть будет, на всякий случай…
За кулисами было слышно, как актриса Ирина Мирошниченко рассказывает о своем участии в съемках фильма «Вам и не снилось». Потом что-то сказал ведущий, ступил за кулисы и, взяв меня за руку, вывел на арену. Тут-то и началось самое интересное. Подведя меня к скамье, где сидели две участницы действа, он спросил:
– Вы узнаете эту девушку, эту красавицу?
– Что красавица, вижу. А узнать не могу.
– Вы не знаете, кто это?
Я чуть было не сказал, что она похожа на особу с картины Андре де Тулуз-Лотрека «Японский диван», репродукция с которой много лет украшает мою комнату. Правда, у той еще есть сложенный черный веер в правой руке. У этой – нет.
– Она, действительно, никого вам не напоминает?
И я опять чуть было не признался, что напоминает – певицу Иветт Гильбер, изображенную все тем же мастером.
– Это невероятно! Всмотритесь как следует, может, она изменилась за те шесть лет, которые вы не виделись?..
Цифра «6» развернула в моей постинсультной голове в обратную сторону ленту времени, и, сосредоточив в отчаянном брейнсторминге (!) когнитивные (!!) силы, я несмело, но с надеждой предположил:
– Это случайно не Алиса?
– Правильно!! Это ваша внучка Алиса.
Взрыв аплодисментов благодарной публики приветствовал мою (или ведущего?) викторию в этой физиономической головоломке.
Кстати. Разрази меня гром, если я уразумел, в чем был смысл рукоплесканий, которые возникали в студии едва ли не каждую минуту. В большинстве случаев – вне всякой связи со смыслом звучащего или визуального содержания. Как перфоратор при ремонте в квартире сверху, который то и дело включается и выключается, а почему – неизвестно.
…Да, конечно, это была наша Ляся. С каждой долей секунды я все больше узнавал ее черты. Дело в том, что в моей памяти сохранился образ смешливого, в чем-то еще даже полудетского существа. Тут же была серьезная тётечка с неудачно раскрашенным (загримированным?) лицом, и вот теперь я из-под него мысленно вытаскивал милый облик когда-то бесконечно любимого человечка.
Однако дорогое телевизионное время отсчитывало секунды, ведущий не мог их даром терять и взял быка за рога. И тут-то я понял, что попал на удочку любо-мило организованной шайки-лейки. Хорошо разъяснил в своем словаре Даль понятие «шайка»: скопище дурных людей, …мошенническое товарищество. Да, именно товарищество: ни один из этого скопища даже намеком не выдал умысел славно сорганизованной кодлы. Один за всех, все за одного.
Надо ли говорить, что передача была вовсе не о годовщине фильма? Ее туманная программа была в титрах, время от времени появлявшихся на экранах в студии: «Успей сказать «прости»: «звездные» дети в семейных войнах». Меня-то зачем сюда приволокли? Я не звездный ребенок и за все мои 78 лет не участвовал ни в одной семейной войне. И никак не могу быть «экспертом» в теме – нет по ней ни знания, ни собственного опыта. Мои родители прожили в мире и согласии до гробовой доски. Мы с женой Галей – точно так же. Как и они, благополучно вырастили двоих детей и с богом выпустили их в самостоятельное плавание. Или, как еще красиво говорят, в свободный полет.
…Надо полагать, ведущий сейчас все разъяснит. И действительно, он начинает:
– Я перечитываю строки повести «Мама, не читай», которую написала ваша дочь и посвятила ее своей матери, вашей жене. Вот сцена, в которой она описывает, как пыталась покончить с собой. «Помню, как держала в руках смертельную горсть снотворных, вода в стакан уже была налита, до этого момента я пролежала не вставая три дня, я поняла, что уже больше не могу». Она пишет, что до этого ее довела Галина Щербакова. Это правда?
О чем он?
Я давно знаю о существовании книги «Мама, не читай» и, в общем, представляю, о чем она. Но я ее, как и порожденная авторской прихотью «мама», не читал. И не имею ни малейшего представления о попытке самоубийства. Где, как, почему?..

