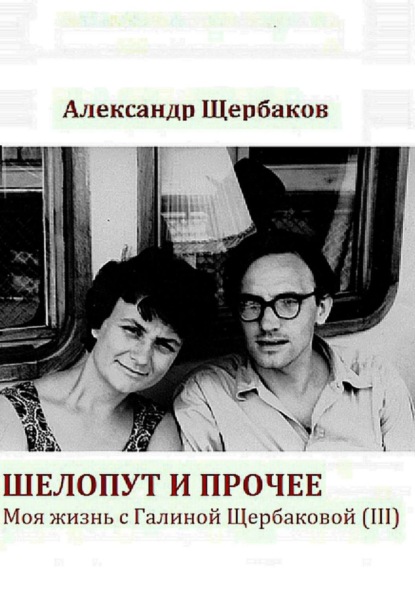 Полная версия
Полная версияШелопут и прочее
Я невольно наблюдал, как эмоционально Галина переживает свое пребывание в этом сердце мира, как ее «бездонные» глаза то черно-матово уходят в себя, то загораются чуть ли не младенческим любопытством. А уж в самом храме…
Когда мы медленно продвигались в очереди от Голгофы к Кувуклии, в которой и находится сам Гроб Господень, к нам вдруг неожиданно подошел тот самый мусульманин, примерно час назад отворивший дверь во Храм, положил Гале руку на плечо и то ли спросил, то ли торжествующе объявил:
– Ортодокс?!
После чего провел ее в расположенное рядом служебное помещение (я, конечно, пошел туда следом) и одарил ее щедрой жменей нашейных крестиков – и чисто деревянных, и особо изящных, отделанных тонким металлом. Галя много лет раздавала их близким родственникам и друзьям, и я по сию пору завершаю это богоугодное дело.
У нее поступок храмового ключника не вызвал ни малейшего удивления. По-видимому, в те мгновения она действительно ощущала себя (а значит, и была) «ортодоксом». Разве можно угадать, в какой момент она в полной мере «включала в себе» писателя и вдруг «становилась» кем-то не самой собой, а чем-то фантомным, из будущей новой, авторской реальности… Всегда ли сама сознавала эти моменты? «…Как достоверно написать о чем-то, не пропустив ситуацию «через себя»? – говорила писательница в одном интервью. – Иначе тебе не поверит читатель. А когда ты становишься – пусть на время – тем, о ком пишешь, что-то выходит»…
Конечно, попав в Иерусалим, Галина не могла оставить без внимания Базилику Святой Анны. По преданию, на этом самом месте Анна, бабушка Христа, родила дочь Марию, Богородицу. Почему «конечно не могла»? Потому что по неизвестной мне причине (так и не удосужился спросить) именно этот образ из святого семейства был всего ближе душе моей жены. Испытывала какое-то живое чувство, сходное с любовью. Могу предположить, это связано с не иссякавшим обожанием и почтением к ее бабушке Екатерине Николаевне и дедушке Федору Николаевичу. А может быть, и с тем, что сочинительнице реалистических сюжетов был понятней и милей персонаж, так сказать, «от сохи», более отдаленный от непостижимых человечьему уму сакральных чудес. Разве не любопытно было бы воспроизвести какую-нибудь незатейливую историю, случившуюся в первом веке до н. э. между бабушкой и внуком (задолго до того, как в народе пошли пересуды: Мессия ли этот внук или нет)? Или хотя бы просто представить себе такую историю?..
Но это – мои нескромные домыслы.
На почетном месте на книжном стеллаже позади рабочего места писательницы многие годы красовалась репродукция картины Альбрехта Дюрера «Богородица с Христом и святой Анной». И вдруг я обнаружил ее отсутствие. Это случилось, когда Гали уже не стало. Я нашел такую же репродукцию и восстановил статус-кво. На этом полотне у большеглазой Анны запечатлено такое многозначащее выражение лица… Грусть тысячелетнего Ветхого завета, устаревшего и в каком-то смысле отторгаемого временем, словно отработавшая ступень ракеты? Что впереди? Таящееся во мгле, никому не известное, но неизбежное… Что сулит Завет этого времени?..
Восстанавливая былой интерьер позади Галиного кресла, тяжестью книг придавливая кромку цветной репродукции, я невольно думал вот о чем. Когда Альбрехт Дюрер писал свою по жанру чисто семейную картину, его всего менее заботило то тривиальное обстоятельство, что по жизни Анна не могла быть на земле в одно время со своим внуком-младенцем, ибо покинула ее, когда еще даже не прозвучало Благовещение Марии, ее дочери, о грядущем рождении Спасителя. Дюрер однажды написал: «Не имея возможности судить о наивысшей красоте живых созданий, мы все же находим в видимых существах столько прекрасного, что это превосходит наш разум, и ни один из нас не может в совершенстве перенести все это в свое произведение. Так обнаруживаются в новых творениях тайно накопленные сокровища сердца…»
Да, разве не сокровище – «в тайне» от разума явившееся художнику знание? Он как Бог: свел на одном холсте три разных поколения и ничтоже сумняшеся сместил времена. Марии и младенцу еще предстоит длительный земной срок, а бабушка Анна, как явственно ведает художник, уже в ином измерении, где время цельное, единое, не убегающее секундами безвозвратно, и она знает, через что́ предстоит пройти через тридцать с лишним лет и Марии, и Христу. И это все – тоже в ее невероятных по внутренней силе взгляда глазах, открытых сиюминутному миру и в то же время обращенных внутрь, к картинам зримого ею их грядущего. Ее рука на плече дочери – жест поддержки и тепла неизмеримой материнской любви.
Такая она, Святая бабушка Анна, столь любимая моей Галиной.
Вот отрывок из Галиного романа «Восхождение на холм царя Соломона с коляской и велосипедом», воспроизводящий с дневниковой точностью обстоятельства нашего посещения Храма святой Анны. Автор поместила туда одну из своих героинь – Марию, приехавшую в гости в Израиль немолодую лаборантку киевской больницы.
«…Дальше начиналось странное, чудно́е, хотя странным и чудным это все-таки не было. Все было естественным, как согревание после мороза.
Она узнавала Иерусалим нутром. И еще она его угадывала. Так она признала сразу храм святой Анны, бабушки Христа.
Хотя смешно сказать – признала. Что, она подозревала о его существовании? Что, она хоть раз подумала о том, что у Божьей матери, к которой она всегда тайно обращалась, – а к кому же еще? – была своя мама? И существовала какая-то их человеческая жизнь, и была она, видимо, бедная, видимо, с болезнями – а какая же еще?
Оказалось, есть храм Бабушки. Мария еще не была бабушкой, хотя все ее сверстницы уже имели совсем взрослых внуков. Ее это не беспокоило. Значит, не время, думала она. Но, переступая порог Храма, знала, о чем будет просить, – о внуках.
Случилось же странное. Их попросили тихонечко попеть, в четверть голоса, чтобы убедиться в огромной силе резонанса этого храма. Тихая песня, сказала гид, будет слышна всюду, такова особенность сводов. Экскурсия засмущалась: как это взять и запеть? Но одна дама из Нижнего Тагила, которая все время задавала гораздо больше вопросов, чем существовало ответов, вызвалась спеть. Потому что, сказала она, всегда все надо проверять самой. Пизанская башня – объясняла она свое желание пенья – никогда не упадет, это только реклама. Она там была и колупала пальцем стену – такая кладка! А самого наклона – чуть! Подняв храбрый, экспериментаторски настроенный подбородок, дама запела во всю силу открытого рта, видимо, считая именно такое пение более годным для проверки.
Пусть бегут неуклюже
Пешеходы по лужам
И вода по асфальту рекой, —
взревел храм. Пешеходы просто рухнули им на головы. Вместе с лужами и асфальтом. Ах, это пение утробой из всех физических сил! Что бы подумать и привлечь голову как резонатор, или сообразить о возможностях свода нёба и тайности носовых пазух? Может, тогда и не надо бы так надрывать глотку? Но мы именно так распрягаем коней.
Потом от смущения и неловкости много смеялись. Но никто их не одернул – нельзя, мол, смеяться в храме, низ-з-зя. И тогда к ним стал возвращаться их собственный смех. Но возвращался он другим. Он был отмытым и легким, как детские слезы.
Расправив ладошки к солнцу, по-восточному сидели вокруг Храма японки-христианки и что-то шептали бабушке Христа. Это было так ей знакомо, будто она сто раз уже была японкой или кем там еще, и будто это ее узенькие руки были повернуты сейчас к солнцу. Она посмотрела на свои – широкие и, что там говорить, достаточно мощные, с шершавыми от медицинской химии пальцами. В них тут же упало солнце. Хотелось так и идти вперед с распахнутыми руками и солнцем в них».
Время от времени Галина, смирив непокорные, пружинистые волосы полуажурным коричнево-черным платком (он по сию пору висит на коридорном одежном крючочке), ходила в церковь, которая казалась ближайшей от дома. После нашего переезда из Останкино на Бутырскую улицу долгое время это был Храм Тихвинской иконы Божией Матери возле метростанции Новослободская. Когда же ушли из жизни и упокоились на Миусском кладбище Ируся, тетя Галины, и ее муж Николай Лаврентьевич, выяснилось, что в «шаговой доступности» от нас находится расположенный там Храм мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
В него однажды я и вошел. Просто сопровождал жену. Смотрел, как сосредоточенно она составляет список треб богослужений – сначала на упокоение своих и моих умерших родственников, потом за здравие живущих. После этого зажигала свечки перед иконами Богоматери, Христа и Николая Угодника (я вслед за ней делал то же самое), явно проговаривая про себя какие-то к ним обращения. Потом какое-то небольшое время была в состоянии отрешенности. А далее, как бы отряхнув с себя нечто, легко, глубоко вздыхала и быстро шла к выходу.
Все это вошло в ее обычаи, по моим наблюдениям, с 1968 года, когда она приехала в Москву. А в 1989-м приняла таинство Крещения в Храме Иоанна Воина.
Я перенял от нее образ этих и некоторых других церковных действий. Когда пришла пора чрезвычайно пугавших меня новых Галиных болезней, я уже без смущения и с надеждой просил подмоги и у Богородицы, и у Христа, и у Николая Угодника. И вошло в привычку бывать в Храме у Миусского кладбища. Когда Галя ушла из жизни, у меня не было сомнений, где будет ее последний покой. На Миуссах, рядом с Храмом Веры, Надежды, Любови и Софии.
Все так и сделал.
Но мое дальнейшее вхождение в церковь вдруг и сразу прекратилось. Вместе с нашумевшей, если кто помнит, историей с Pussy Riot.
Российская женская протестная панк-группа. В 2012 году в храме Христа Спасителя ее участницы поднялись на амвон, где в течение 18 секунд, пока их не удалили охранники, пытались произнести слова песни «Богородица, Путина прогони!» Их арестовали и осудили к лишению свободы. «…Процесс над ними войдет в историю как пример средневекового мракобесия» (писатель Владимир Войнович). «Власть отреагировала на инцидент настолько неадекватно, настолько бездарно, настолько бюрократически тупо, что …вызвала отвращение к себе и к нашей доблестной юстиции» (писатель Борис Стругацкий).
Вот уж кого-кого, а меня ничуть не удивила власть с ее протухшими старорежимно-просоветскими понятиями и соответствующим образом действий. А вот церковь… Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев тогда сказал: «Сегодня ещё десятки тысяч людей отвернутся от церкви. …Множество людей повернётся в обратную сторону».
Нет, я не повернул «в обратную сторону» – от веры. А вот от церковников – да. Кинорежиссер Артур Аристакисян говорил о своих впечатлениях от судебного процесса над девушками: «Палачи, выдающие себя за жертв, бессовестные мужики и бабы, выдающие себя за потерпевших, лающие лагерные собаки в зале суда…» Этот абсурд и издевку над правосудием я в подробностях видел по телеку. Всего больше угнетали потрясающие крестами бессовестные мужики и бабы с искаженными ненавистью… даже не лицами, а (как это у драматурга Островского) «песьими головами». Будто их привели из Первого канала, прямо от Андрея Малахова из самых нашумевших его передач. Кружок точно таких же неистовых, возбужденных физиономий я несколько раньше увидел возле церкви у кладбища как раз после того, как клирики высокого сана призвали паству повсеместно провести то ли собрания, то ли служения, то ли еще какие-то бдения, дабы побудить власти к наиболее суровому наказанию злокозненных супостаток.
В те дни плебс со сладострастием выплеснул свою накопившуюся злобу. Различные мотивы порождали ее, но тут уж она гангренозной чернотой расползлась по всей матушке России – с молчаливого одобрения кремлевской верхушки. Во взвинченном опьянении ее тлеющие головешки раздували православные. Не знаю, какая их часть была действительно в «оскорблении чувств верующих», но то, что выходило наружу – по явному наущению церковного начальства – было бездарной театральщиной и тошнотворным набожным празднословием. Все настолько противоречило религиозной нравственности, как я ее понимаю, что открылось ясно, холодно и безусловно: это – не христиане! Или, скажем, не совсем они (как тут не вспомнить про «осетрину второй свежести»). Вдруг подумалось: а ведь они и сами-то почти никогда не называют себя христианами, а только – православными. То есть прилагательным сугубо профессионально-богословским, по существу термином, определяющим лишь одну единственную ветвь религии.
На беду, за полгода до того умер настоятель Церкви Веры, Надежды, Любови и Софии отец Борис, мой ровесник. Я не был с ним знаком, но своими проповедями, отношением к людям и просто образом своим он вызывал доверие и почтение. И мне было еще не известно, кто вместо него. Вдруг это будет чаплиноподобный служитель?.. Оговорюсь, это определение не имеет никакого отношения к великому комику Чарли Чаплину. А имеет – к Всеволоду Чаплину, бывшему тогда заметному чину Московского Патриархата. Тот, судя по всему, взял на себя миссию предводителя, заводилы «оскорбленных в чувствах» и идеолога «оскорбленности». Он мелькал всюду: в газетах, на радиостанциях, на телеэкранах.
«…Православные христиане имеют все основания на то, чтобы требовать у государства наказать это преступление, и изобличить это преступление. Более того, нужно выявить тех, кто его организовывал… Если будет доказано что это экстремистская деятельность, оправдание экстремистской деятельности, это тоже нарушение закона».
«Я убежден, что Господь осуждает то, что они совершили. Я убежден, что этот грех и в этой жизни, и в будущей жизни будет наказан», – вещал Чаплин.
На вопрос журналистов о том, откуда ему это известно, ответил: «Я знаю, я считаю, что Бог мне это открыл». «Господь не только милует, но и карает болезнями, наказывает войнами, лишает разума». Христу «могут быть свойственны гнев и ярость».
И т. д., и т. п.
Нет нужды продолжать цитирование, но из всего произнесенного и написанного следовало: важнейшее в учении и заветах Христа – месть и ненависть. Самые нелюбимые мной свойства. Многие, я знаю, так и думают о Христе и поэтому испытывают к нему неприязнь. Но меня было не переубедить: Он – милосерден. Чаплин же был непреклонен: «…Бог это мне открыл, как и всей церкви открыл Евангелие. Он там обещает предельно жесткое воздаяние за любой грех. Почитайте Нагорную проповедь».
Я сильно удивился, но… почитал еще раз. Как всегда, с удовольствием и пользой. И, естественно, не нашел и полсловечка ни про какое, в том числе «предельно жесткое», воздаяние за любой грех. Ох, Чаплин, Чаплин, православный ты наш… Так что мое опасение наткнуться на служителя культа с похожими умонастроениями возникло не на пустом месте. А когда воображение дорисовало его ликом Чаплина в окружении ошалелых православных «бессовестных мужиков и баб» с песьими головами (вдруг вспомнился Франсиско Гойя с его Капричос!), эта апокалиптическая картина перекрыла дорогу в церковный дом.
Не буду скрывать, завидую священникам: их хорошей речи, умению общаться с собеседниками, находчивости, а прежде всего, образованности. Не то, что мы (я только о своем окружении): «все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь». Возможно, духовные академии не чета нашим университетам. Но вот что меня смущает: отсутствие всякой предположительности в суждениях, крутая безапелляционность (видимо, их так учат – быть всегда «наставником»). Впрочем, даже не это. А то, что под любое соображение способны подвести как бы неоспоримое подтверждение. Священное Писание тут – неистощимый кладезь.
Я не знаток Евангелия, а тем более Ветхого завета. Но знакомство с ними на досуге плюс нередкое обращение к ним при работе выработали убежденность: там при желании можно найти обоснование почти… чего угодно. Так что Чаплин без большого риска, не глядя в святцы, мог запросто в своих филиппиках взывать к многоуважаемым человечеством текстам. Что он и делал («Мы это прекрасно знаем не только из истории, но и из того, как историю интерпретирует православная традиция. Мы это знаем из Священного Писания, из Ветхого и Нового Завета»). С Нагорной проповедью, правда, вышел конфуз, ее-то (она ведь маленькая!) все же следовало на всякий случай почитать. Это не метафизика, а конкретный факт. А уж если не имеешь о нем представления – так молчи в тряпочку.
Однако глупо было бы сетовать на Библию из-за «всеядности». Она создавалась (не важно кем и когда) веками – на тысячелетия. Для человека. А он с одной стороны не слишком далеко ушел от Адама с Евой, однако, с другой, все же потихоньку изменялся. И прилагать в 21-м веке к сиюминутным московским происшествиям истины, открывшиеся за три с лишним тысячи лет назад в откровении Моисея, надо бы, скажем так, с осмотрением. Это ясно и без Духовной академии.
…Как легко, можно сказать, дуновением – раз, и все – перенаправить мой легковесный ум в иную колею. На последних написанных словах вдруг захватила небанальная, мне кажется, затея: проследить по Священному Писанию, как менялись человеческие воззрения. Во всяком случае, кто мне в этом может помешать?.. И надо же, в какие-то секунды всплыли и конкретная тема, и даже некое подобие плана. Видимо, я давно исподволь, не отмечая зарубками памяти, как бы факультативно думал об этом.
Это – любовь. А план простой: сопоставить «Песнь Песней Соломона» и тринадцатую главу Первого послания к коринфянам апостола Павла.
И вот…
«…Да лобзает он меня лобзанием уст своих! Ибо ласки твои лучше вина.
От благовония мастей твоих имя твое – как разлитое миро; поэтому девицы любят тебя.
Влеки меня, мы побежим за тобою; – царь ввел меня в чертоги свои, – будем восхищаться и радоваться тобою, превозносить ласки твои больше, нежели вино; достойно любят тебя!
…О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! глаза твои голубиные под кудрями твоими; волосы твои – как стадо коз, сходящих с горы Галаадской;
зубы твои – как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пара ягнят, и бесплодной нет между ними;
как лента алая губы твои, и уста твои любезны; как половинки гранатового яблока – ланиты твои под кудрями твоими;
шея твоя – как столп Давидов, сооруженный для оружий, тысяча щитов висит на нем – все щиты сильных;
два сосца твои – как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями.
Доколе день дышит прохладою, и убегают тени, пойду я на гору мирровую и на холм фимиама.
Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе!
…Я сплю, а сердце мое бодрствует; вот, голос моего возлюбленного, который стучится: "отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя! потому что голова моя вся покрыта росою, кудри мои – ночною влагою".
Я скинула хитон мой; как же мне опять надевать его? Я вымыла ноги мои; как же мне марать их?
Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась от него.
Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему, и с рук моих капала мирра, и с перстов моих мирра капала на ручки замка.
Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел. Души во мне не стало, когда он говорил; я искала его и не находила его; звала его, и он не отзывался мне.
…Заклинаю вас, дщери Иерусалимские: если вы встретите возлюбленного моего, что скажете вы ему? что я изнемогаю от любви.
"Чем возлюбленный твой лучше других возлюбленных, прекраснейшая из женщин? Чем возлюбленный твой лучше других, что ты так заклинаешь нас?"
Возлюбленный мой бел и румян, лучше десяти тысяч других:
голова его – чистое золото; кудри его волнистые, черные, как ворон;
глаза его – как голуби при потоках вод, купающиеся в молоке, сидящие в довольстве;
щеки его – цветник ароматный, гряды благовонных растений; губы его – лилии, источают текучую мирру;
руки его – золотые кругляки, усаженные топазами; живот его – как изваяние из слоновой кости, обложенное сапфирами;
голени его – мраморные столбы, поставленные на золотых подножиях; вид его подобен Ливану, величествен, как кедры;
уста его – сладость, и весь он – любезность. Вот кто возлюбленный мой, и вот кто друг мой, дщери Иерусалимские!
…Уклони очи твои от меня, потому что они волнуют меня.
…О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, дщерь именитая! Округление бедр твоих, как ожерелье, дело рук искусного художника;
живот твой – круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино; чрево твое – ворох пшеницы, обставленный лилиями;
два сосца твои – как два козленка, двойни серны;
шея твоя – как столп из слоновой кости; глаза твои – озерки Есевонские, что у ворот Батраббима; нос твой – башня Ливанская, обращенная к Дамаску;
голова твоя на тебе, как Кармил, и волосы на голове твоей, как пурпур; царь увлечен твоими кудрями.
Как ты прекрасна, как привлекательна, возлюбленная, твоею миловидностью!
Этот стан твой похож на пальму, и груди твои на виноградные кисти.
Подумал я: влез бы я на пальму, ухватился бы за ветви ее; и груди твои были бы вместо кистей винограда, и запах от ноздрей твоих, как от яблоков;
уста твои – как отличное вино.
…Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в селах;
поутру пойдем в виноградники, посмотрим, распустилась ли виноградная лоза, раскрылись ли почки, расцвели ли гранатовые яблоки; там я окажу ласки мои тебе.
Мандрагоры уже пустили благовоние, и у дверей наших всякие превосходные плоды, новые и старые: это сберегла я для тебя, мой возлюбленный!
…О, если бы ты был мне брат, сосавший груди матери моей! тогда я, встретив тебя на улице, целовала бы тебя, и меня не осуждали бы.
Повела бы я тебя, привела бы тебя в дом матери моей. Ты учил бы меня, а я поила бы тебя ароматным вином, соком гранатовых яблоков моих.
Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня.
…Есть у нас сестра, которая еще мала, и сосцов нет у нее; что нам будет делать с сестрою нашею, когда будут свататься за нее?
Если бы она была стена, то мы построили бы на ней палаты из серебра; если бы она была дверь, то мы обложили бы ее кедровыми досками.
Я – стена, и сосцы у меня, как башни; потому я буду в глазах его, как достигшая полноты.
Виноградник был у Соломона в Ваал-Гамоне; он отдал этот виноградник сторожам; каждый должен был доставлять за плоды его тысячу сребреников.
А мой виноградник у меня при себе. Тысяча пусть тебе, Соломон, а двести – стерегущим плоды его».
Выписанные фрагменты – чуть более трети знаменитой «Песни Песен», малюсенькой (по величине) части книжищи Ветхого завета. Но как не поражаться проницательности древних евреев, включивших ее в канон основополагающих уложений человеческого бытия! Царь Соломон славился не только Богом данной мудростью. Он еще построил Первый Иерусалимский храм, сочинил «Книгу Екклесиаста», притчи и псалмы. Не стоит упускать и того, что у него было 700 жен и 300 наложниц. И, несмотря на это последнее обстоятельство, у автора хватило сублимированной энергии (во Фрейдовском понимании) и просто мужской мощи написать еще и свою «Песнь Песней» – панегирик, да нет – настоящий гимн эротизму. Может быть, первый такой на земле (не знаю, что было в этом жанре, к примеру, в священных книгах Китая, Индии, Японии).
Пытаюсь представить, как были ошеломлены люди тем, что можно словами, в основном сравнениями (по-гречески – метафорами), выразить то, что до тех пор казалось невыразимым, не поддающимся пониманию, скрытым внутри «я», часто очень-очень важным, а то и мучительным, но не способным в чем-то запечатлеться вовне. И вот – запечатлено! Стал публичным, доступным осознанию живущий в каждом туманный клубок непостижимого желания, обладания, странно родственного насилию, но почему-то сладостного и непреодолимого.
Так, мне кажется, переходил инстинкт, дикий, как любой из них, в человечье чувство. Ветхозаветная литература в самом ее начале сочленила эротизм всякого смертного со скрытым в нем до поры, но заложенным в основе эстетизмом. Не сочетание ли, по большому счету, этих двух начал отличает нас, грешных, от всего прочего живого на земле?
Именно такого рода понимание (или ощущение), мне представляется, и побудило древних включить «Песнь Песней» в основополагающий текст Библии. В одном из трактатов Мишны (часть Талмуда) сказано: «Весь мир не стоит того дня, в который дана была Израилю Песнь Песней, ибо все книги святое, а Песнь Песней – святое святых».
Но вот что нельзя обойти вниманием. Церковные толкователи наделяют это фундаментальное сочинение дополнительными, иносказательными смыслами. Более того, считают их главными, а то и единственно верными. Древнегреческий христианский теолог Ориген прямо сказал: «Если бы это («Да лобзает он меня лобзанием уст своих») не имело духовного смысла, то не было ли бы пустым рассказом? Если бы не имело в себе чего-либо таинственного, то не было ли бы недостойно Бога?»
Опять же все началось с древних евреев. Служители культа популярно объяснили им (и нынешние делают то же самое), что основное содержание «Песни Песней» – отношения Бога и еврейского народа. Туда же и славные православные мудрецы. Они утверждают, что Соломон в этом сюжете подробно описал любовь между Богом и человеческой душой. Существует постановление пятого Вселенского Собора, которое предает анафеме тех, кто считает, будто «Песнь Песней» говорит о любви между мужчиной и женщиной. Даже апостол Павел, сам прекрасный писатель своего времени, заявил, что в ней говорится о браке Христа и Церкви. И только папа Бенедикт XVI, пользуясь правом верховного первосвященника, просто и ясно сказал, что страсть и самопожертвование любящего в «Песне Песней» – это две половины истинной любви, желающей получать и дарующей.

