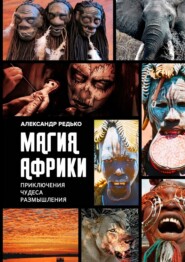
Полная версия:
Магия Африки. Приключения. Чудеса. Размышления
В 1849 году им была предпринята первая серьезная экспедиция: пройдя всю пустыню Калахари с юга на север, молодой ученый описал природу и ландшафт данной местности, жизнь и культуру населявших ее бушменов и тсванов. Основав на границе пустыни миссию Колобенга, он предпринял из нее несколько путешествий вглубь континента. В ходе их Ливингстон открыл и описал озеро Нгами и первым из европейцев обнаружил в центральной Африке реку Замбези. Затем опираясь на помощь вождей племени макололо, в 1853—1854 годах ему удалось исследовать верхнее течение этой великой реки и далее, перейдя водораздел, выйти в бассейн реки Конго. Дальнейший свой путь, обессиленный голодом и измученный малярией его отряд проделал по суше, достигнув, в конце концов, побережья Атлантического океана…
Уже на следующий год Ливингстон предпринял новую экспедицию, теперь уже вниз по течению Замбези. Тогда-то он первым из европейцев и увидел могучий водопад «Мосио-Тунья», назвав его в честь английской королевы именем Виктория. Спустившись затем вниз по реке и пройдя далее ее бассейном по суше, путешественник в 1856 году вышел к Индийскому океану. В итоге двух походов Д. Ливингстон стал первым европейцем, который пересек весь африканский континент по параллели. Интересно, что профинансировал эти экспедиции белого человека вождь чернокожего племени макалоло – Секелету.
После своего триумфального возвращения в Британию Ливингстон издал книгу «Путешествия и исследования миссионера в южной Африке». Королевское географическое общество наградило его золотой медалью, а королева Виктория – аудиенцией…
В 1858 году Ливингстон, уже в качестве британского консула в Мозамбике, вновь возвращается в Африку. Вместе со всей своей семьей он отправляется вверх по Замбези от ее устья. Исследуя северный приток этой реки – Шире, ученый открывает водопады Мерчисона, озеро Ширва и в 1859 году выходит на южный берег озера Ньяса…
В течение последующих пяти лет Д. Ливингстон предпринял несколько экспедиций с целью изучения побережья и окрестностей озера Ньяса. Он провел подробнейшие топографические съемки этой местности, составил достаточно подробные ее карты и похоронил там свою жену Мэри, умершую от тропической лихорадки. Вернувшись на родину, он издает очередную книгу о своих путешествиях…
Но Африка магнитом протягивает к себе ученого, и в 1866 году Д. Ливингстон вновь возвращается туда. На этот раз его отряд берет направление на северо-запад. Исследователя континента давно занимала идея найти источник великого Нила. В ходе чрезвычайно тяжелой экспедиции он достиг побережья озера Танганьика и затем вышел к реке Луалабе, открыв крупнейшую водную артерию центральной Африки в бассейне верхнего течения реки Конго.
Страдая малярией в течение многих лет, Ливингстон настолько ослаб, что в конце концов слег в деревне Уджиджи на озере Танганьика, Тем временем в Европе уже несколько лет считали Ливингстона пропавшим без вести. На его поиски было направлена несколько экспедиций и наконец Генри Стенли в 1871 году отыскал его там. Несмотря на тяжелую болезнь, Д. Ливингстон нашел в себе силы отправиться вместе со Стенли исследовать север озера Танганьика. После завершения этого похода он отказался вернуться для лечения в Европу, отправив туда с оказией лишь свои дневники и многочисленные коллекции. Чувствуя, как силы покидают измученное тело, он боялся не успеть сделать все задуманное…
Дэвид Ливингстон умер первого мая 1873 года в деревне Читамбо, что неподалеку от озера Бангвеулу. Преданные слуги-африканцы Чума и Сузи похоронили сердце великого путешественника под высоким деревом, а тело обработали солью и высушили на солнце. Девять месяцев через всю центральную и восточную Африку они, вместе с другими слугами, несли тело Ливингстона на руках, пройдя 2 500 км до Индийского океана. Затем – переправа на остров Занзибар и долгий путь в Лондон. Похоронен Дэвид Ливингстон был только через год после смерти в апреле 1874 года. Погребение состоялось в Вестминстерском аббатстве – усыпальнице английских королей. Достойный конец достойного человека!
После знакомства с биографией Дэвида Ливингстона, невольно думаешь: как жаль, что на нашей Земле практически не осталось белых пятен. Но еще большее сожаление вызывает тот факт, что практически не рождаются на ней теперь такие люди. Не моден теперь в обществе дух романтики и авантюризма. Он не укладывается в современные стандарты жизни, где главное – материальное благополучие и беспроблемное существование.
Отчаянных путешественников сменили скучающие туристы, требующие сервиса и комфорта, цель поездок которых по миру сводится только к тому, чтобы похвастать при случае: «Я там был». Но, право, стоит ли забираться так далеко и страдать от сухомятки, чтобы почти всю дорогу спать или играть в карты?..
Это я уже говорю о некоторых из моих попутчиков на данном маршруте. И чего люди маются? Ведь и без бинокля видно, что им все вокруг чуждо и неинтересно. Ну да Бог с ними, а я буду с другими – буду продолжать беседовать с вами, уважаемые читатели – искатели приключений!..
А трак наш, тем временем, продолжает наматывать африканские километры на свои, видавшие виды, колеса. За окнами – редкие замбийские деревеньки с небогатой придорожной торговлей. Прямо «а земле разложены местные овощи и фрукты. На жердях-вешалках представлена на продажу ношеная одежда и обувь, разнообразные хозяйственные и бытовые товары. Мальчишки гурьбой подскакивают к нашим окнам при всякой остановке, держа на головах большие полосатые арбузы. У них всегда можно купить и пластиковые бутылки с водой. Правда, они же все время клянчат у нас пустую тару, подозреваю, что их нехитрый бизнес сводится к тому, чтобы залить в бутылку обычную воду, запаять пластик и дождаться туристов. Ну а дальнейшая судьба вашего организма – в руках Всевышнего…
Видимо, очень большим спросом в Африке пользуется древесный уголь. То там, то тут вдоль дороги стоят большие сетчатые мешки с ним. Мы, кстати, тоже часто приобретаем это топливо, ведь найти достаточное количество дров здесь нелегко. Иногда на каком-нибудь придорожном столбе видим тушу освежеванного домашнего животного – это тоже на продажу, так как самим местным жителям мясо не по карману.
Когда мы остановились в довольно безлюдном месте на ланч, уже через десять минут неподалеку от нас появились несколько взрослых мужчин. Они уселись на край дороги и терпеливо ждали окончания нашей трапезы. Стоило нам отъехать, как наблюдатели кинулись на наше место и стали искать остатки еды. Заранее предупрежденные Брендоном, мы оставили для них немного съестного. Должен сказать, что после каждой стоянки мы все, самым тщательным образом прочесываем территорию и убираем за собой даже мельчайший мусор. Мешки с ним у нас с удовольствием забирают в деревнях. Думаю, что там ничего из них не пропадает.
Кстати, немного расскажу о Замбии, по которой мы едем. Раньше эта страна называлась Северной Родезией. Столицей ее до 1936 года был уже известный вам город Ливингстон, ну а ныне это город Лусака. На этих землях прежде жили бушмены, затем пришли народы банту, а еще позднее – племена лози, бемба, лунда, нгони и макалоло. Живут они все в традиционных круглых хижинах из жердей и тростника, с крышей из кукурузной соломы. Основные сельскохозяйственные культуры – маис, маниока, табак земляной орех, сахарный тростник. Жители деревень также занимаются овцеводством и ловят рыбу на озерах.
Основная часть территории страны – холмистое плоскогорье, с высотами от 600 до 1 300 м. В климатической карте выделяют три сезона: сухой и прохладный в мае – июле, сухой и жаркий в августе – октябре и дождьливый и теплый в ноябре – апреле. В сезон дождей широкие разливы рек Замбези, Кафуе, Луангва приводят к образованию больших заболоченных территорий и размыванию местных красно-коричневых и красно- бурых почв. На саванных редколесьях с акациями и баобабами расположены три обширных заповедника. Все они лежат в долинах рек Кафуе и Луангвы, а потому дороги туда большую часть года залиты водой. Здесь раздолье для мухи це-це и шистоматоза. Но ведь чем недоступнее места, тем естественней природа, а потому тысячи людей стремятся побывать здесь, не считаясь с трудностями и опасностями…
С 1890 года Замбия являлась протекторатом Великобритании и получила независимость только в 1964 году. Эта страна известна как крупнейший в мире производитель и экспортер меди. Даже цоколь здания Национальной ассамблеи в миллионной Лусаке облицован большими листами этого металла – как символ основы экономики страны. Кроме меди, в горах добываются также цинк, свинец, кобальт, серебро, золото, марганцевая и железная руда.
Однако несмотря на природные богатства подавляющая часть населения чрезвычайно бедна, так как вынуждена довольствоваться нехитрыми плодами, выращенными на клочках своей земли. К тому же местные крестьяне, как и жители деревень ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, нередко становятся жертвами еще одного страшного африканского бича – саранчи.
В этих местах встречается несколько видов данного насекомого. «Спрингам» – прыгунки, как голландцы когда-то прозвали перелетную саранчу, своей родиной выбрали пустыню Калахари. Именно там в сухой сезон они откладывают свои яички в пыль и песок. Пойдут дожди, и из земли полезет сочная зеленая трава. Из яичек тут же вылупливаются личинки. От взрослых насекомых они отличаются только отсутствием крыльев. С неимоверной жадностью пешая саранча набрасывается на молодую траву, сжирая все под корень. Когда корм заканчивается, миллионы личинок плотными рядами выступают в поход на поиски еды…
Они идут на своих тоненьких лапках или прыгают, как кузнечики, сотни километров строго выдерживая изначально выбранное направление. Непонятно почему, но эта армада никогда и никуда не сворачивает с пути и ничего не обходит. Саранча влезает на дома и заборы попавшихся на ее пути деревень, а спустившись, вновь продолжает движение прежним курсом, уничтожая все съестное на своем пути. А не ест она только камень, железо и синтетику. Остановить это неукротимое движение может только большая водная преграда – река или море. Небольшие реки саранча легко переплывает, а в больших тонет в неисчислимых количествах и сносится в море. Даже если попытаться остановить ее стеной огня, то миллионы насекомых бесстрашно поползут в пекло, погибнут и своими мертвыми телами погасят пламя. Остальные неумолимо ползут по трупам, наводя ужас на каждого, кто видел эту жуткую картину…
Но если движение полчищ личинок происходит не так уж быстро и направление его известно, то стоит саранче подняться на крыло, как опасность от нее резко возрастает. В воздухе она летит по направлению ветра, и только одному Богу известно, где эта туча окажется завтра. Стая крылатой саранчи издали действительно напоминает рыжее облако, похожее то ли на дым большого пожара, то ли на огромные клубы пыли. Приближаясь, она даже может заслонить собой солнце, зловеще знаменуя гибель всего растительного мира. Как будто почетным эскортом туча насекомых сопровождается множеством птиц разнообразных пород. Расправив большие крылья, рядом с ней реют бурые Орику – самые крупные африканские грифы; между ними парят бородатые коршуны; молниями проносятся желтые стервятники-ястребы Кольбе и всевозможные соколы; клекочут большие кафрские орлы, разгоняя воронов и ворон. В передвижной воздушной столовой на лету идет пир на весь птичий мир. Но больше всех здесь маленьких рябеньких птичек, чем-то напоминающих ласточек. Это так называемые саранчовые грифы. Они, конечно, никакие не грифы, а просто очень любят лакомиться саранчой, и живут только там, где она есть. Тысячи этих птичек сопровождают насекомых во всех перелетах, свивая гнезда и выводя птенцов поблизости от своей пищи.
Так и летит эта сборная воздушная армада, пока саранча не выберет себе зеленую жертву. Вообще-то она не гнушается ничем: ест сладкую зеленую кукурузу и горькие жесткие листья табака; съедает хлопчатобумажную и фланелевую одежду человека и продукты его питания; но, конечно же, предпочитает культурные посадки сельскохозяйственных растений. Саранчовая стая налетает на поля волнами. Вслед за первыми отрядами садятся следующие и следующие. Те, кто все уже съел, взлетают и перемещаются вперед, и этот накат длится до тех пор, пока «уборка урожая» полностью не закончится. Стоящий в воздухе шум крыльев напоминает шелест листвы в лесу при сильном ветре.
Печальное зрелище предстает перед глазами после того, как саранча улетит. Черная пустыня или пепелище после пожарища: ни травинки, ни листика – исчез зеленый цвет. Съедена даже кора на деревьях, и поэтому они тоже погибнут. И все это за один-два часа… Хорошо, хоть ночью она не летает. С заходом солнца и наступлением холода саранча садится и замирает, словно мертвая. Вся равнина, деревья и кусты того места, куда опустилась на ночевку ее стая, становится черной, как погасшие угли, покрытая толстым, в несколько сантиметров, слоем неподвижных насекомых.
Но саранча не только ест сама, но, как я уже говорил, является хорошей пищей и для других. Не одни только птицы любят этот богатый протеином корм. Почти все виды африканских животных едят саранчу. С жадностью ее пожирают антилопы, зебры, жирафы. Даже слоны и львы любят полакомиться хрустящим деликатесом. Кстати, саранча и сама съедает своих раненых и больных сородичей. С удовольствием ее поглощают и домашние животные: лошади, коровы, овцы, быки и собаки.
Человек тоже не остается в стороне: африканцы варят, жарят или сушат этих насекомых. Если уж прилетела стая саранчи, вся деревня собирает ее в мешки и сваливает затем в большие горы. Насекомых толкут в муку, замешивают затем на воде и варят вкусный и питательный суп. Запасая еду впрок, саранчу вялят на солнце, после чего она может храниться до полугода. Это хороший запас пищи, особенно для бушменов, странствующих по пустыне.
В последние годы в борьбе с саранчой человек стал применять эффективные химические средства, и ее набеги стали более редкими. Но до сих пор африканские крестьяне с тревогой посматривают на горизонт в сторону пустыни Калахари: а не приближается ли темно-рыжая туча, несущая голод и смерть. До сих пор армады саранчи, как Божья кара, внезапно появляются оттуда, опустошительным вихрем проносятся над Африкой и, сносимые ветром, гибнут в водах Индийского океана. Равнодушные волны его прибивают к берегам миллионы маленьких трупов, образуя из них на отмелях многометровой высоты горы. Запах разлагающегося белка разносится на сто пятьдесят – двести километров окрест, привлекая голодных падальщиков, и круговорот жизни продолжается…
А за окном нашего трака уже потянулись холмы, поросшие лесом, а скоро показались и горы. По дороге повстречалась машина с туристами, ехавшая из заповедника Южная Луангва. Водитель, оказавшийся приятелем Брендона, сообщил, что им не удалось пробиться в заповедник из-за раскисших доpoг. Повезет ли нам? Хочется в это верить, ведь в запасе есть несколько дней и авось подсохнет…
А мы уже едем по горной дороге. Ее крутой серпантин ведет машину все выше и выше к перевалу. Наконец, где-то на высоте полутора тысяч метров, дорога пошла вниз. Однако на одном из поворотов мы неожиданно уперлись в пробку. Ванесса побежала вперед, узнавать причину. Минут через десять, не дождавшись ее, пошли туда и мы все.
Спустившись по дороге мимо десятков двух автомашин, мы увидели причину затора. Авария – трагедия на горной дороге. Глазам открылась жуткая картина: два большегрузных грузовика на одном из поворотов столкнулись лоб в лоб. Один из них, груженный асбестовыми трубами, сразу улетел в стометровую пропасть и там сгорел. Смрадный черный дым, с запахом соляра и жженной резины, клубами поднимался в уже темнеющее небо. Другой грузовик, рассыпав по дороге какие-то ящики и тюки, развернулся поперек ее, зависнув кабиной над пропастью. Вернее, не кабиной, а тем, что осталось от нее: грудой смятого в комок металла, с капающей вниз кровью. Десятки автомашин скопились с обеих сторон аварии. Многие из них пытались проскочить между скалой и развернувшимся грузовиком, но застряли в узком пространстве, усугубив этим ситуацию. Сотни людей сбежались из автомашин и сверху и снизу…
Гвалт, ругань, отчаянная жестикуляция и никакого порядка. Все понимают, что еще несколько часов и наступит кромешная тьма. Никого не устраивает ситуация застрять ночью на узкой дороге горного перевала. К нашему счастью, где-то через час к месту аварии откуда-то добрался полицейский. Он принял единственно верное решение – столкнуть и эту машину в пропасть. Для этого не потребовалось большого труда, грузовик и так уже почти наполовину висел над ней. Одна из соседних машин подтолкнула его, и, под вопли разбегающихся в стороны людей, большегрузник с грохотом рухнул вниз. Спустя минуту раздался мощный взрыв, и многометровое пламя выплеснулось из ущелья вверх, обдав мне жаром лицо, осветив окрестности и всю толчею на дороге. Это жутко напоминало кадры из какого-то голливудского боевика с бомбежкой автокаравана, но чье- то горе заставляло стоять молча.
Еще час потребовался, чтобы развести пробку, и спускались мы вниз уже при свете фар. Затем машина съехала на грунтовую дорогу, и еще долго мы тряслись по пыльным рытвинам и ухабам, пока не оказались на берегу небольшой речушки, притока Замбези. Из-за вынужденной задержки наша экспедиция опоздала на маленький местный паром, но мы разыскали хижину паромщика. Старый беззубый негр согласился на переправу с условием двойного тарифа и того, что мы сами будем крутить ручную лебедку. Хорошо, что это не тот пограничный паром Казангула, а то куковать бы нам здесь до утра, выбиваясь из графика. При свете звезд и под скрип лебедки, вращаемой нами поочередно, переправа прошла благополучно. Еще пять километров ухабов, и мы стали лагерем на довольно крутом берегу нашей старой знакомой – реки Замбези. Завтра начинается наш сплав на каное, вниз по её течению.
Глава 7. Сплав по Замбези
Бедовое каноэ №13. Нападение гиппопотамов. В деревне народности тонга. СПИД не спит и ВИРУС не дремлет. Оргия культа Кандомбле. О христианах и язычниках Африки. Мать – Земля и человек
«Из-за острова на стрежень, на простор речной волны выплывают расписные африканские челны!» – этой песней Паша разбудил русскую бригаду в половине шестого утра. Нам крупно «повезло», так как по графику выпала честь дежурить два первых дня речного похода по реке Замбези. Посовещавшись, мы решили работать не по двое в день, как обычно, а вчетвером – до упора и показать иностранцам высший класс. В темноте приготовили плотный завтрак и когда рассвело, все в лагере уже были накормлены, а посуда перемыта…
Последнее, кстати, не так легко сделать: хоть река и рядом, но пользоваться водой оттуда нельзя. Все водоемы Африки, в том числе и самые крупные ее реки, и озера, заражены шистоматозом. Мелкие гельминты-шистосомы из воды легко проникают в организм человека через кожу и слизистые оболочки, вызывая сыпь, зуд, боли в животе, рези при мочеиспускании и еще массу других неприятных ощущений. Лечение дает переменный успех, а потому ни купаться, ни пить эту воду, даже кипяченую, – нельзя. Водяной танк нашего трака периодически заполняется из артезианских колодцев, и только этой водой мы и пользуемся в хозяйственных целях, экономя каждый ее литр.
У крутого берега реки нас уже ожидали восемь каноэ, предварительно заброшенные сюда организаторами тура. Это двухместные узкие пластиковые лодки с высоко загнутыми носом и кормой. Каждому гребцу полагалось по одному короткому веслу и по небольшому герметичному бачку для самых необходимых вещей. Палатки, спальные принадлежности и все лагерное имущество – поплывут на большой моторной лодке…
По нашим меркам, это полный комфорт: в многочисленных байдарочных походах нам приходилось все это буквально утрамбовывать между собой и тонким брезентом корпуса лодки. Нам – это мне и Паше, ведь Юрик с Володей опыта водных походов не имеют. Тем не менее, мы все четверо надели тельняшки и выглядели бывалыми моряками. Загрузив походное снаряжение и распределившись по каноэ, наша кавалькада тронулась в путь. На носу лодки – новичок, а на корме для управления – более опытный гребец, он же и капитан судна.
Паше с Володей достался борт №13, и все много шутили на этот счет. Но кому же, как не бывшему капитану первого ранга российского флота, справится с бедовым каноэ? По крайней мере, мы с Юриком верили, что наши полковники не осрамятся и в Африке. За неимением шампанского, Паша по морской традиции окропил нос своего каное баночным пивом и произнес какую-то флотскую абракадабру на специфическом матросском слэнге, от которого вянут уши у всех сухопутных жителей планеты. Как я понял, на литературном языке это прозвучало бы так: «Пусть каждое погружение закончится всплытием»!.. Смысл сказанного Пашей как-то сразу насторожил меня…
Река Замбези в этих местах достигает до пятисот метров в ширину. Течение ее довольно быстрое, вода мутная, с множеством мелких водоворотов. Чувствуется, что большая вода еще не сошла, так как сезон дождей закончился совсем недавно. Река несет поваленные стволы банановых деревьев, какие-то бревна и коряги, плавучие острова из осоки и тростника. Любой удар такого плавучего тарана в борт наших вертких каное однозначно мог закончится оверкилем – переворотом судна, по сухопутному.
Кстати, скажу, что уровень африканских рек поднимается и спадает гораздо быстрее, чем в регионах с умеренным климатом, потому что их питают, в основном, не озера и ручьи, как у нас, а облака. Резкий подъем воды обусловлен ее огромным количеством, обрушивающимся с неба в дождливый сезон. А в сухой сезон рекам нечем питаться, и жгучее солнце и сухая почва быстро расправляются с ними. Поэтому большинство рек в Африке зимой полностью пересыхают и напоминают гравийные автодороги. Только большие реки Замбези доживают до следующего сезона дождей.
Тем временем наши каноэ кильватерным строем идут по ее середине. Впереди – темнокожий местный рейнджер с карабином, который будет адмиралом экспедиции на время сплава, а замыкает колонну каноэ Брендона и Ванессы. На предварительном инструктаже нам всем было велено идти группой и держаться подальше от берегов, кишащих крокодилами и гиппопотамами. В общем – куда ни кинь – везде клин: в середине реки, на быстринах легко можно получить катастрофический удар бревном, а у берега мы – непрошенные тут гости, можем раздразнить хозяев мест – крокодилов и бегемотов, которые крайне опасны при атаках из воды…
В прошлом году, когда мы с Пашей также сплавлялись в Лаосе по Меконгу с целью увидеть величайший в мире водопад Кхон, любимым развлечением для всех было полоскание натруженных рук и ног в забортной воде. Сейчас же подобное удовольствие стопроцентно закончится плачевным исходом: если даже крокодил не утащит, то шистоматоз наверняка обеспечен. Поэтому гребем аккуратно, не забывая внимательно осматривать берега, поросшие тростником, осокой и плакучими ивами. Небольшие по размерам, с низко склоненными над водой ветвями и копьевидными серебристыми листьями эти деревья растут во многих уголках нашей планеты и называются вавилонскими ивами. По библейскому преданию, уведенные в плен евреи увивали ее ветвями свои арфы, когда плакали на реках вавилонских. Будем надеяться, что нам некого будет оплакивать в этом походе. Да и арфы нет, чтобы сыграть отходную…
Осторожно плывем по течению, маневрируя между островками осоки и теми корягами, что несет река. Довольно часто нам попадаются долбленые пироги туземных рыбаков. Решив дать нам возможность немного отдохнуть, Спайк, как горделиво назвал себя наш рейнджер, дал команду причалить к берегу неподалеку от одного из них, и мы смогли внимательно изучить устройство местной пироги – мокоро.
Такая лодка выдалбливается из цельного ствола большого дерева и напоминает длинный, заостренный с обеих сторон цилиндр с узкой продольной щелью. Гребец с коротким веслом сидит на маленькой кормовой площадке каноэ, опустив через щель ноги на ее дно. Там же лежат верши для ловли рыбы и большой камень – балансир для устойчивости. Верши, сплетенные из ивовых прутьев, рыбак длинным шестом пришпиливает ко дну реки в тихих заводях, и качающийся шест как поплавок дает ему знать о попавшей в нехитрую снасть рыбе.
Брендон, как профессиональный орнитолог, обращает наше внимание на одну из ив, склонившихся над рекой. На каждом кончике ее веток, почти касаясь воды, висели какие-то штуки, напоминающие по форме перевернутые вверх дном водочные графинчики с длинным горлышком, заканчивающимся отверстием. Зеленоватого цвета, сплетенные из жесткой травы, они достигали в длину до двадцати сантиметров. Это гнезда одной из разновидностей птиц-ткачиков. Их, оказывается, существует множество видов, и у каждого из них своя манера постройки гнезда, своя форма его и используемый для строительства материал. То, что мы видим, – гнездо ткачика висячего, и не зная, их можно запросто принять за зеленые плоды дерева. Брендон рассказал, что в записях первых путешественников по Африке описывались виденные там чудесные деревья с замечательными плодами: если их разломить, то внутри увидишь птичьи яйца или даже птенцов. Посмеявшись, мы пожелали рыбаку удачи и тронулись в дальнейшее плавание.



