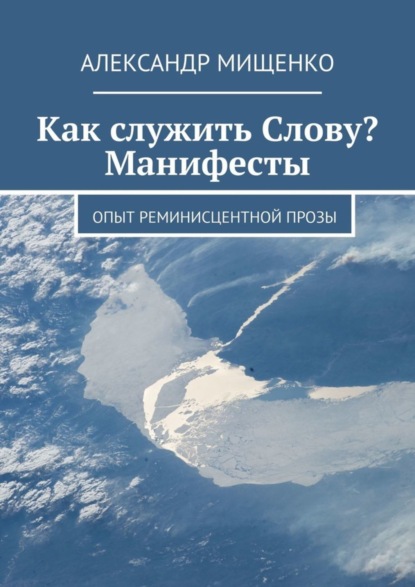
Полная версия:
Как служить Слову? Манифесты. Опыт реминисцентной прозы
История должна быть историей не королей и битв, а идей. В быту нашем королей и битв прорва, а идей кот наплакал.
Фамилия – Гусыня, Кастрюля, Устрица. Съединили черта с редькой.
– Будь я за границей, мне бы за такую фамилию медаль дали.
– Нельзя сказать, чтобы я была красива, но я хорошенькая. И слава тебе, господи!
Красива, что даже страшно; черные брови; умствование. Одно слово, ведьма.
Сын ничего не говорит, но жена чует в нем врага. Чует! Он все подслушивал… Ужасти это – жить среди врагов.
Сколько между дамами идиоток! К этому так привыкли, что не замечают этого. Потому, наверное, что стервы умеют себя поставить.
Ходят часто в театр и читают толстые журналы – и все же злы и безнравственны.
Жены своей не любит. Влюблен в А <нну> А <кимовну> и в то же время развратничает со Сливой. Украл на шпалах 20 тыс. Можно и на шпалерах украсть.
Никакого капитализма нет, а есть только то, что какой-то сиволапый мужик случайно, сам того не желая, сделался заводчиком. Случай, а не капитал. Ай-ай-ай, как же случай благоволит нашим миллионерам. Злого умысла – ни боже мой. Случай и только. Каков Чехов с беспощадным срыванием всех и всяческих масок! Друг мой, брат белых медведей, однако, иконно судит о классике. Побывал я некогда в гостях у него в Бавленах и узрел он у меня некие притязания на нобелевскую премию (хотя кому возбраняется и помечтать о ней). В письме в Тюмень потом упрекнул он меня в этом, заявив, что надо быть скромным как Чехов. Я по телефону отчитал его и «приказал» быть беспощадным в творениях своих как Антон Павлович. Обронил по случаю, что у тебя, мол, друже, много собственных таких страниц. И пиши беспощадно по-чеховски, а не занимайся низкопробным морализаторством, выдавая свои мысли за истину высшей пробы. Отчехвостил, в общем, друга.
На улице пьяный Чаликов делал ей под козырек. Здрассте, мадам!
О <льга> любила слово аще (аще ударит тебя в одну щеку, подставь другую).
Николаю было стыдно перед женой за свою деревню. Бедные колины односельцы!
Каждому мешало жить что-то назойливое; деду – боль в спине, бабке – злость и заботы, невесткам – горе, детям – голод [и], чесотка и страх, одной Ольге было покойно, она была всегда одинакова и ровна.
Молодые лучше стариков. Не всегда.
Грубость в населении поддерживают сами чиновники, особенно мелкие, тыкающие даже на старшин и церковн <ых> старост, и сами законы, третирующие мужиков как низших животных.
Тетечка милая, отчего мне так радостно? Оттого, что радостная. А радостная отчего? Звучит в моем сознании из студенческого гимна «Гаудеамуса»: «Будем веселы, пока мы молоды».
Сидя на бульваре ночью, Саша думала о боге, о душе, но жажда жизни пересиливала эти мысли.
Когда Кирьяк буянил, Саша шепотом: Господи, смягчи его сердце! Золотце, а не Саша.
богатые взяли себе все, даже церковь, единственное убежище бедных.
Жуково звали: Хамское, Холуевка.
Ничто так не усыпляет и не опьяняет, как деньги; когда их много, то мир кажется лучше, чем он есть. Тогда деньжистый – крез!
Саша брезговала запахом белья, нечистотой, смрадной лестницей, брезговала жизнью, но была убеждена, что такая жизнь в ее положении неизбежна.
Беда в том, что самые простые вопросы мы стараемся решать хитро, а потому и делаем их необыкновенно сложными. Нужно искать простое решение.
Нет того понедельника, который не уступил бы своего места вторнику.
Нат <аша>: Я в истерику никогда не падаю. Я не нежная. Вон вы какая!
Бальзак венчался в Бердичеве. Лермонтов родился в Тарханах, а Волга впадает в Каспийское море.
Чтобы жить, надо иметь прицепку… В провинции работает только тело, но не дух.
Чеб <утыкин>: Если бы меня полюбила какая, я бы теперь любовницу имел… Надо работать, но и любить, надо находиться в постоянном движении. Тактос голубчики.
Кулыгин: Я веселый человек, я заражаю всех своим настроением.
Ирина: как гадко работать! и никакого сознания, никаких мыслей… Еще бы, с чего им быть у праздного человека.
– Незадолго до смерти отца гудело в печке… И теперь гудит. Слышите? Как странно! Какая значимая деталь! О, если бы такая жизнь, чтобы становилось все моложе и красивее. О такой эволюции мечтал Лев Николаевич Толстой. И не только он. Василий Розанов с его нетривиальной логикой написал, перефразировав евангельский завет «будьте как дети»: «Рожден был в ночь, рос в сумерках, стал стариться – стал молодеть… С седыми волосами – совсем ребеночек… Так мы, русские, растем, ни на что непохожие». Федор Тютчев, которого называли «старик-дитя» заявлял, что никогда б не согласился поменять свой стариковский возраст на юношеский…
Ир <ина>. Трудно жить без отца без матери.– И без мужа.– Да и без мужа. Кому скажешь? Кому пожалуешься? С кем порадуешься? Нужно любить кого-нибудь крепко.
Тяжело без денщиков. Не дозвонишься. Да уж!
человек или должен быть верующим или ищущим веры, иначе он пустой человек.
днем разговоры о распущенности женской гимназии, вечером лекция о вырождении и упадке всего, а ночью после всего этого застрелиться хочется. Жизнь как один день.
в жизни наших городов нет ни пессимизма, ни марксизма, никаких веяний, а есть застой, глупость, бездарность… Это ж ад сущий!
была жажда жизни, а ему казалось так хотелось, что это хочется выпить – и он выпил вина.
быть праздным. Самое распоследнее дело.
значит, поневоле прислушиваться всегда к тому, что говорят, видеть, что делают; тот же, кто работает и занят, мало слышит и мало видит.
На катке; он гонялся за Л., хотелось догнать и казалось, что он это хочет догнать жизнь, ту самую, которой уже не вернешь, и не догонишь, и не поймаешь, как не поймаешь своей тени.
отвык ходить быстро и прямо, но заставил себя: вдруг выпрямился и пошел.
одно только соображение мирило его с д <окто> ром: как он пострадал от невежества д <окто> ра, так, быть м <ожет>, кто-нибудь страдает от его ошибок. Ошибки врачей и учителей – причина многих бед в обществе.
обречен на больную, одинокую, праздную жизнь. Адын – горестно твердил анекдотный грузин, похоронив жену. Так ходил и твердил: адын, адын, пока не пошел с лезгинкой по кругу. Веселье обуяло его: адын, адын, совсем адын! Аса!!!
почетный мир <овой> с <удья>, почетный член детс <кого> приюта – все почетный. В воронежском селе Троицкое такие все живут на Почетке, другие на Непочетке, где селили ссыльных еще при царе.
училась, все училась – он же, остановившийся в своем развитии, не понимал ни ее, ни молодежи.
жизнь уже перевернута [как казалось, вверх дном] и [уже беспокойство останется до конца дней, что бы там ни было, куда бы судьба ни] занесла.
P.S. Я, разумеется, отдаю себе отчет, что читать это на самом деле никто не будет, и пишу всё больше себе на память, чтобы когда захочется перечитать, не пришлось рыться в фолиантах.
ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА
Откровенно говоря, трудно расставаться со строками Чехова, с магией его бесхитростной жизни, а потому дам еще ряд своих чисто эмоциональных замет, вызванных чтением «записных книжек» Антона Павловича.
Об этой фразе Чехов напомнил Скитальцу во время их последней встречи в Москве, в 1904 г., через несколько дней после премьеры «Вишневого сада»: «Послушайте, вы помните, как у вас в одном рассказе сказано: «Протодьякон проклинает сомневающихся в бытии божием, а они стоят на клиросе и поют сами себе «анафему»!»
Он откинулся к спинке стула и залился почти беззвучным, но заразительным смехом, вдруг сделавшись похожим на свой молодой портрет, когда Чехов был жизнерадостным, беззаботным «Чехонтэ»» (Скиталец. Чехов.– «Повести и рассказы. Воспоминания». <М.,> 1960, стр. 368). Вот этот почти беззвучный, но заразительный смех, каким залился Чехов, напомнив Скитальцу молодого, жизнерадостного и беззаботного «Чехонте», многого стоит, потому что вьявь видишь и чувствуешь писателя в буче молодой газетной жизни. Такая атмосфера царила у нас в редакции «Тюменского комсомольца», когда я после Северов окунулся в журналистскую жизнь. Много было серьезной работы и молодого веселья, озорства. Ближе и понятнее мне в контексте сказанного Скитальцем об Антоше Чехонте.
Любопытны строки в письме Чехова Ивану Павловичу от 24 марта (5 апреля): «Русскому человеку, бедному и приниженному… в мире красоты, богатства и свободы не трудно сойти с ума. Хочется здесь навеки остаться, а когда стоишь в церкви и слушаешь орган, то хочется принять католичество».
Значит свое запись о том «что сила духа в человеке всегда может победить в нем недостатки, полученные в наследственность», и «как бы ни было велико вырождение, его всегда можно победить волей и воспитанием».
О Рассудиной, что просила погасить свет, когда рассказывают анекдоты: «и прежде чем поцеловаться с ней, нужно было тушить все свечи». Превосходная дамочка!
«Прежний так называемый порядочный человек стрелялся оттого, что казенные деньги растратил, а теперешний – жизнь надоела, тоска…» Целый пласт в атмосфере жизни!
В письме В. А. Гиляровского Чехову от 21 июля 1892 г. из Донской области: «Третьего дня в степи мы наткнулись на только что умершего от холеры косаря. Как косил, так и умер. Тут же его и закопали в степи. Можешь себе представить такие картинки». Нам представлять нужно, а для земского врача А. П. Чехова это было реальностью.
«На богатых людей рассчитывать нельзя, – говорилось в этом письме.– Поздно. Каждый богач уже отвалил те тысячи, которые ему суждено было отвалить. Вся сила теперь в среднем человеке, жертвующем полтинники и рубли». Тоже – характерность жизни, что не осталась незамеченной для зоркого ока писателя. И еще на тему. Пришел проведать меня, обезноженного ныне давний товарищ-мудрец, геодезист мирового класса. В литературе хромоножка, однако, после хорошего бутылька водки вдалбливал гвоздями в мою голову, что Я СРЕДНИЙ ПИСАТЕЛЬ. Хотя новую прозу мою не читал. Однако умный инженер, выдающийся изобретатель, по обстоятельствам живущий ныне в Нью-Йорке, герой моей прозы поэт и журналист Юрий Цырин, с которым сдружились на Самотлоре, когда я работал там помбуром в бригаде Героя труда знаменитого Геннадия Левина, написал в своем отзыве, прочитав две эпопеи реминисцентной моей прозы, что я прокладываю новую лыжню в мировой литературе. «Три года», гл. XIII. Юлия, обращаясь к Ярцеву, говорит о муже: «что называется человек-рубаха», на что следует реплика Кочевого: «какая он рубаха <…> Он не рубаха, а старая тряпка из бабьей юбки». Так это хлестко по-чеховски!
«Три года», гл. VII. О Рассудиной: «…она стала поводить плечами, как в лихорадке, и дрожать и, наконец, проговорила тихо, глядя на Лаптева с ужасом: «На ком Вы женились? Где у вас были глаза…» Такое мне приходилось слушать не раз. Жена выговаривала сыну. Другие мамы – другим сыновьям заявляют такое. Одна в сердцах добавила: «Бачили очи, шо куповали – ижьте!»
Признания Лаптева («Во мне нет гибкости…» и «я робею перед идиотами…") в журнальном тексте сопровождены сравнением: «Как моллюск, мозгляк какой-то, ни гибкости, ни смелости…»
«Лицо ее задрожало от ненависти…» Зримо и чувствуемо!
О Ярцеве, в связи с его житейским правилом: быть выше инстинктов. «…он верил в то, что русский суровый климат располагает к лежанью на печке и к небрежности в туалете, и потому никогда не позволял себе ложиться днем…» Встречаются и мне такие.
«Три года», гл. XV. О «сильном нервном возбуждении» Юлии после ухода Федора. «Страшно жить!.. Сегодня на улице я видела слепого ребенка. Надо скопить 20 – 30 миллионов и помогать… спасать людей… Страшно, страшно!..» Какая драма, трагедия в нескольких словах!
«…каждая женщина может быть писательницей». Не думал никогда только о женщинах на этот счет – уверен вообще, что многие люди обладают даром писательства.
«…и неоткуда было взяться раскаянию, так как он считал себя высшим, непогрешимым существом…» Уж таких-то супчиков-голубчиков предостаточно.
Что деньги не дают счастья, Чехов говорит еще в гл. X. Истина это непререкаемая. А ведь деньги королевствуют ныне. Рубль был парусом девятнадцатого столетия, как писал Антон Павлович. Сейчас, к сожалению, рубль в квадрат возведен. Ну, для чего человеку светят звезды? Чтобы хрюкать по-свински у кормушек жизни – много ума не надо. И сердца – тоже. Фоткать младенцев среди пачек денежных купюр? Копить их? У гроба карманов нет.
«Во дворе было грязно даже летом…» «В трактире торговали <…> также водкой и пивом, распивочно и на вынос…» Мелочи, а со смыслом.
«Чайка». Дословно в пьесу не вошло, сходный мотив – в словах Треплева: «Я выпустил из вида, что писать пьесы и играть на сцене могут только немногие избранные». Типическое.
«Добрый человек, но уж очень того… надоел» (т. XIII Сочинений, стр. 267). Вы слышите, добрые человеки!
Cafê du ciel – «Небесное кафе» – парижские кафешантаны. «Седьмое небо» в Тюмени…
К. С. Станиславский в письме из Парижа (после 11 мая 1897 г., т. е. за несколько месяцев до приезда в Париж Чехова) так передавал свои впечатления от посещения кабачков на Монмартре «Le cabaret du nêant» и «Le ciel»: «черное траурное сукно, скелеты, гробы вместо столов, траурные свечи вместо электричества, прислуживают гробовщики. Полутемнота. Вас встречают возгласами: „Recevez les cadavres… О! Que зa pue!“ („Принимайте трупы… О, как смердят!“). Подают пиво следующей репликой: Empoisonnez-vous, c’est le crachat des phtisiques („Отравляйтесь, это плевки чахоточных“) и т. д. Вы переходите в „Ciel“: балаганно расписанные стены синей краской с белыми кругами; подобраны страшные рожи – мужчины и одеты ангелами с крыльями <…> Апостол Петр, в балаганном костюме, говорит проповедь и исповедует желающих, ангельская музыка и райские звуки, набранные из наиболее веселых опереток <…> Вот зрелища, которые больше всего оставили впечатлений во мне» (Станиславский, т. 7, стр. 104—105). Не могли они не произвести фурорного впечатления на гениально чувствующего Чехова.
«На днях в Байонне происходил бой коров. Пикадоры-испанцы сражались с коровами. Коровенки, сердитые и довольно ловкие, гонялись по арене за пикадорами, точно собаки. Публика неистовствовала». Последние только два слова услышу из уст одного юмориста на нашей эстраде, и вспыхивают как видения чеховские коровенки-собаки…
«Дядя Ваня» («Войницкий. Жарко, душно, а наш великий ученый в пальто, в калошах, с зонтиком и в перчатках»). Человек в футляре следовал за Чеховым по следам, как черный человек за Есениным.
Мысль о расхождении между словом и делом у определенной части интеллигенции высказана Петей Трофимовым («Называют себя интеллигенцией, а прислуге говорят „ты“…» – «Вишневый сад», д. II); «Невеста» (конец I гл.) – о Саше: «Пил он чай всегда подолгу, по-московски, стаканов по семи в один раз». Хорошая ремарка, много таких у Саши Вампилова, когда вчитывался я глубинно в его пьесы.
В письме от 24 октября 1900 г. со ст. Яреськи Полтавской губернии бывший народный учитель А. П. Негеевич так обращался к Чехову: «Многоуважаемейший Антон Павлович!» Просил помочь ему проводить зимы в Ялте, чтобы лечить легкие. В следующем письме (начало не сохранилось) говорил: «Еще я Вас глубокоуважаемейший шкап Антон Павлович, покорнейше прошу посодействовать, чтобы доктор Альтшуллер принимал меня безмездно, хотя раз в месяц».
«Крыжовник»: «К моим мыслям о человеческом счастье всегда почему-то примешивалось что-то грустное, теперь же, при виде счастливого человека, мною овладело тяжелое чувство, близкое к отчаянию». Какая глубина и – драма! Счастья без печали не бывает, читатели мои разлюбезные, она, что ни говорите, – явление русской национальности. И не случайно же когда-то Фридрих Ницше заявил: «Я бы обменял счастье всего Запада на русский лад быть печальным». Отчего ж с печалью оно, русское счастье? С древних времен грезили о нем и грезят. Что касательно ближнего века, то Х1Х-ый начинался в русской философии «Разговором о счастье» Николая Карамзина. И сказал он: «Быть счастливым… быть добрым». Так это, злые не бывают счастливы, в противном случае мы имеем рецидив мазохизма либо паранойи…
Чехов говорил: ««Послушайте же, Ибсен же не драматург!..» Он не любил Ибсена. Иногда он говорил: «Послушайте же, Ибсен не знает жизни. В жизни так не бывает» Зато о чеховском всем можно сказать: из жизни, с пылу-жару, горяченькое.
В пьесе «Вишневый сад», д. I, III, IV, слово «недотепа» часто повторяет Фирс. «Недотепой» называет Раневская Петю Трофимова. Словечко – бренд человека!
В письмах: В. М. Соболевскому от б января 1899 г. из Ялты: «Скучно <…> без московского звона, который я так люблю»; сестре – 15 июня 1903 г.: «Был я в Звенигороде, там очень хорошо, чудесный звон…", и О. Л. Книппер 1 и 4 декабря 1902 г. В «Воспоминаниях об А. П. Чехове» 3. Г. Морозовой: в 1903 г., после июня, «в Замоскворечьи зазвонили к вечерне.
Чехов сказал:
– Люблю церковный звон. Это всё, что у меня осталось от религии – не могу равнодушно слышать звон. Я вспоминаю свое детство, когда я с нянькой ходил к вечерне и заутрени». Звоны это вообще чудо жизни и без религии.
В «Вишневом саде», д. I («Гаев: „Шкаф сделан ровно сто лет тому назад <…> Можно было бы юбилей отпраздновать“»). Брендовый этот чеховский шкаф!
Чехов сообщал О. Л. Книппер 5 октября 1903 г.: «Был Л. Л. Толстой <…> сидел долго. Сначала я был с ним холоден, а потом стал добрее, стал говорить с ним искренно; он расчувствовался». Л. Л. Толстой 10 октября писал Чехову: «Свидание с вами было мне очень приятно, и я надеюсь, что оно не было неприятно вам. Жалко только, что осуждал людей потому, что в душе не желаю с другими ничего, кроме самых добрых отношений.
Я написал, чтобы вам выслали мою книгу о Швеции…» Жизнь, даже в таком небольшом клочке.
Л. Толстой противопоставлял шведских писательниц, в основе произведений которых лежит мысль о том, что «брак может и должен быть счастливым. Мужчина и женщина обязаны быть верными друг другу и любить друг друга, если не как муж жену, то как человек человека»… Как и Л. Л. Толстой, Лухманова обличала мужчин за «распущенность нравов» (стр. 4), в отличие от женщин, в которых не «убита инстинктивная потребность чистоты»: «…избави нас бог от равноправности пороков с мужчинами». Как много сказано в малом на гендерную тему!
.«На дне» Горького, акт IV, конец действия: Кривой Зоб и Бубнов поют: «Со-олнце всходит и захо-оди-ит… А-а в тюрьме моей темно-о!». Понял я, что это запись Чехова. Есть состояние в природе и в душе человеческой. Как в картинке нашего художника Володи Волкова – «Предгрозье», что висит у меня над диваном…
Запись, возможно, находится в какой-то связи со своеобразным участием в постановке «Вишневого сада» А. А. Стаховича. По замыслу дирекции театра, во время спектакля за сценой должна была лаять собака. Стахович прекрасно изобразил лай, записав его на граммофонную пластинку. 17 января 1904 г. он подарил Чехову свою фотографию с надписью: «От участника в постановке „Вишневого сада“ по мере сил и дарования». «К карточке приклеена картинка, изображающая собачку, лающую в граммофон» (Мария и Михаил Чеховы. Дом-музей А. П. Чехова в Ялте. М., 1937, стр. 50). Запись сделана Чеховым в декабре 4903 г. или январе 1904 г. А мне вспоминается экспедиция «Агролесопроект» в Саратове, где я начал работать после армии. Была одна инженерша. Выдающееся в ней было то, что сын ее работал на местном радио и телевидении звукорежиссером. Слушали мы вместе радиопьесу, и там, в настрой ситуации скрипела расторяемая ветром калитка. «Толя мой записывал!» – любовно говорила о сыне инженерша. Мы тоже виртуально любили Толю…
Письмо Чехова И. И. Орлову от 22 февраля 1899 г.: «Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, ленивую, не верю даже, когда она страдает и жалуется, ибо ее притеснители выходят из ее же недр». Потрясающее обобщение.
«водил дружбу» с сыновьями Толстого, Сергеем и Ильей. Илья сочинял рассказы. «Помню, в беседах со мной он всегда проклинал свое происхождение от знаменитого отца, по его словам, отец, сам того не замечая, давит в них наследственную талантливость громадностью своего гения: рядом с ним они всегда с отчаянием убеждались в собственном ничтожестве. Сравнение с великим отцом убивало их энергию». Может быть, и есть в этом великая сермяжная правда. И может, мало ее, когда говорят, что у дарных отцов бездарные дети. Может дарные, но «задавленные»?
Рассказ Шамраева о трагике, который на сцене вместо «западню» сказал: «запендю». Так и просится: запендюрил! Трагически недоговорил трагик.
ЭТО ТОЖЕ ИЗ МОЕЙ ПРОЗЫ:
Романтика – гордое слово…
Рюкзак – родня рыбам. Он имеет свойство плодотворно полниться, становиться тугим, как икряная рыба, и так же, как она, путешествовать. Знаю, о чем говорю: с юности познал рюкзак.
Рюкзак – ноша для философского камня. Не знаю, как у кого начинаются литературные судьбы, а своей собственной я счастливо обязан записками с изысканий газопровода Игрим-Серов: «В поисках философского камня». Напечатала их 18 ноября 1964 года «Комсомольская правда», и попали они в книгу «Письма из Сибири». Был я тогда топографом с Волги. Все мы, итээровцы, приехали на Север экспедицией из одного города. Рабочие у нас также подобрались свои, волжане, мы – командированные, они – сосланные на Север по хрущевскому постановлению тунеядцы. Слово это назвалось сейчас – и прибой того времени шибанул вдруг мне в душу.
Что сказать сейчас о высылке тунеядцев на Север? Односложно если – очередная это глупость хрущевская. Две самые распространенные материи во Вселенной: водород и глупость. Харлан Элиссон. Но есть к этому добавка Фрэнка Заппа: Глупости во Вселенной больше, чем водорода, и хранится она дольше. Тунеядцы виноваты в своем образе жизни. Но они ведь – продукт Системы, и она более виновна в их бедах. И то еще надо учесть, что оскорблял Указ Правительства о тунеядцах не только коренное местное население, но и всех тех, кто в студеной Сибири свершал «подвиг века». А я по себе это знаю, а не из газет: и тонул в болотных зыбунах здесь, и простывал на семи ветрах, и голодал, переходя на подножный корм и выедая окрест палаток кочки с клюквой и кустики брусники.
Местное население недоумевало, как же это, мол, так, здесь дом родной наш, для себя живем мы и для Отчизны, вкалываем, не щадя живота своего, а нам сюда – тунеядцев, нате, мол, вам премию. Мы что, отхожее место, которое загрязняют присылкой сюда не нашедших себя в жизни людей? И пьянствуют тунеядцы, собак у нас в Игриме поели много. А бабы те, телки похотливые, титьки вывалят и совращают мужиков. И вновь будто бы вижу и слышу, как ерничает одна красивая стерва кошка драная, выголив свои прелести: ты щего, мол, нащальник, мне с этими приятностями горбатиться здесь не резон. Ты на ручечки мои глянь-ка, нащальничек, ими бы только яички твои перекатывать. И ведь не выдержал молодяга блядофонистого такого ее натиска и схватил трипак. Скандал в его семье был – до небес. Так вот связываться с телками. Где телки, там страсти чисто животные. В миниатюрном «Толковом словаре молодежного сленга», что я держу на столе у себя для справок по этим вопросам, много таких слов и понятий, что звучат у проституток, ночных бабочек (поэзии-то сколько!), то бишь, и сутенеров. По Интернету прочел одну реплику, и вмиг представилась воображению картина «группенсекса», зазвучали веселые слова разгоряченной самки самцам: «Шевелите поршнями, мальчики!» Из той же почти оперы чеховское: «А это, рекомендую, мать моих сукиных сынов» (из записной книжки).
ЭТО ИЗ ПРОЗЫ ПОДШЕФНОГО МОЕГО ДРУГА-СОКРОВЕННИКА БРАТА БЕЛЫХ МЕДВЕДЕЙ ЮРИЯ БАБАСКИНА:
Итак, Шпицберген, который тебя поманил…
Саша, все, что я читал в начале 70-х о Шпицбергене в библиотеке грода Кадиевки (теперь Стаханов) – завораживало мое сердце. Это колдовское чувство, к моему удивлению, росло по мере того, как я, обычный преподаватель истории в одной из школ этого шахтерского городка, продолжал каждодневно ходить на работу, но с оптимизмом и тайной мечтой вышагивая один и тот же маршрут: дом-школа, школа-дом. Мне нравилась история и, казалось, она тоже нравится моим ребятам. Но Щпицберген уже превратился в символ загадочной, манящей к себе страны.
Донбасс, 2011.Мишка ШатиловЕще был в кресле президент Янукович, но пахло уже на Украине майданом позорной кровавой перессоркой страны, неньки ридной для миллионов русских людей даже в русско-говорящем Донбассе. Я рвался сюда к родне, к друзьям по Шпицбергену, с которыми поклялись не сбривать бороды, пока не встретимся вновь. А в моем родном Первомайске по-прежнему жил лучший друг детства Мишка Шатилов. В собственном доме жил, своими руками плотника сотворил добротные хоромы Мишка. Но остался на исходе жизни один – жена померла от рака год назад. Так и не родив ему желанного сына-наследника. А меня угнетала мысль: «Второй брак уже у друга и, похоже, не сложилось».



