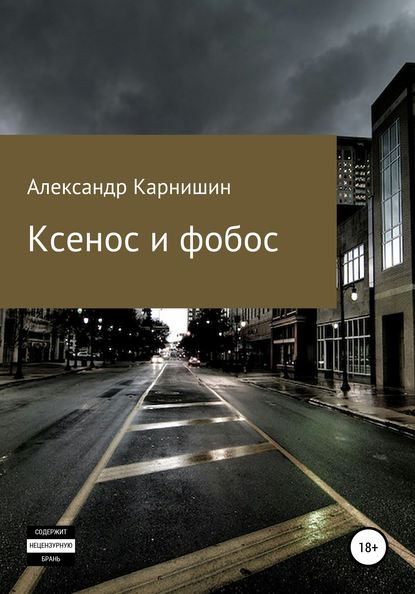 Полная версия
Полная версияКсенос и фобос
К аэропорту один раз только подъехал, чтобы издали хотя бы обстановку для себя прояснить. Аэропорт был блокирован десантниками, сброшенными одной весенней ночью. Бетонные плиты на дороге, пулеметные гнезда, заложенные изнутри огромные витринные окна, БРДМ, стоящие на поле…
Судя по всему, аэропорт не был поврежден и мог действовать, принимая и отправляя самолеты. Но никто не взлетал, и никто не прилетал из далеких городов. За лето в городе совсем отвыкли от вида и гула самолетов в небе. Последний рейс, который шел в Молотов из Москвы с оборудованием, учеными, военными, рухнул недалеко от нефтеперерабатывающего завода, не дотянув всего пары километров до полосы. Был пожар, который тогда некому было тушить. Причин аварии никто не искал. Виктор думал, что искать нечего было. Скорее всего, причиной было банальное отсутствие пилотов в своих креслах. Исчезли, растворились, пропали. Вот с тех пор и не летают над Молотовым самолеты и вертолеты. А жаль – вертолетом было бы очень удобно. Быстро бы всю территорию проверили. Вон они стоят, вертолеты.
А потом еще проехали по нескольким школам. По тем, которые работали этим летом. Там Виктор поговорил с персоналом, потрепался с охранниками на входе, походил по этажам, пропахшим навечно школьными запахами: мел, пыль, бумага, туалеты в торцах.
Он сам должен был стать педагогом и преподавать историю в школе. Но после института его сразу призвали, а когда лейтенантский срок закончился и он вставал на воинский учет в военкомате, подошел незаметный человечек в штатском и дал повестку: прибыть в отдел внутренних дел – дата, время, подпись. «А что случилось-то, в чем дело?»– спросил он в удаляющуюся спину. «Там увидите».
Там увидел. Предложили работу. Да еще показали характеристики комсомольские рекомендательные. Да еще похвалили, как вел он себя в этот армейский год. Да напомнили, что в мирное время именно органы несут на себе тяжесть борьбы с буржуазным развращающим влиянием.
Он подумал, посчитал в уме, сколько и чего там, в смысле разного довольствия, и сколько здесь – и согласился.
Так и пошло. Сначала в инспекции по делам несовершеннолетних, потом в службе участковых, потом в следственном – его кидали практически каждые три места на новый участок, и он честно пытался понять, чем и как там надо заниматься. Читал нормативные акты, инструкции изучал, анализировал старые дела, копался в «висяках». Через два года он уже работал в городском аналитическом отделе. А еще через пять лет оказался в министерстве. Правда, должности не высокие, на генерала бы там не выслужиться, но зато дело по душе. Он любил собирать факты, казалось бы никак не относящиеся друг к другу, а потом вдруг делать на их основе выводы, которые очень часто оказывались близкими к результатам. В министерстве пригодилась и его привычка оформлять свои догадки в виде текста. Детективы получались – хоть сразу в печать нести. А тут вот у него пошли вдруг сказки и всякая ненаучная фантастика.
– Ну, что, орлы, домой? Все на сегодня?
– Да пора бы, товарищ майор. Ужин скоро.
***
Идти было легко. Главное правило было – не ходить вдоль дорог. Любую дорогу надо было быстро перебежать и скрыться снова в кустарнике. Шли цепочкой друг за другом, метрах в двух-трех. Перед дорогой рассредоточивались и быстро по одному перебегали. В деревни не заходили. Только смотрели в бинокль на дорожный знак при въезде, а потом сверяли с картой, чтобы увериться, что идут правильно. От Черной свернули точно на восток по компасу. Теперь проселки нужны были, чтобы найти мост или брод на маленьких речках, постоянно пересекающих путь. Вера рассказывала на ходу, как экскурсию вела:
– Тут рек и речушек – тысячи. Иньва, Лысьва, Сылва, Обва, Колва, Гайва… Ва – это вода на коми, понятно?
– Да мы знаем уже, подготовились, – пыхтел за ней следом Алексей, который считался главным в группе.
Они действительно выполняли все ее команды. Она поднимала руку – все замирали. Присаживалась на корточки – садились. Ложилась, распластавшись в кювете – падали плашмя вслед за ней. Все-таки не послушались и тащили с собой два тюка с палатками. Мало ли, говорили, может в городе придется в палатках жить. Зона, понимаешь…
Но до зоны было еще далеко.
Болота обошли, свернув левее, на север. И остановились в рощице на первую ночевку. Палатки не распаковывали. Ясное небо. Теплая земля, на которую кинули свои спальные мешки, холодная тушенка – костров не жгли, боясь патрулей и местных жителей. Спалось на свежем воздухе после долгого перехода хорошо. И просыпалось хорошо, под пенье птиц, под первые солнечные лучи в глаза, под кукареканье петухов. Петухов?
– Деревня рядом! Быстро, быстро, потом позавтракаем!
***
– Ой, вы ругаетесь здесь, что ли?
Дашка влетела в комнату и резко остановилась у порога. За столом, друг напротив друга, сидели раскрасневшиеся сердитые два Виктора, два «победителя» – ее Сидорчук и «сказочник» Кудряшов. Кудряшова она чуть-чуть побаивалась по привычке. Когда он появился в части, то долго разговаривал с ней, вызывая раз за разом с работ, выясняя, кто и что сказал, как статья появилась в газете, откуда факты, какие из фактов заслуживают доверия. Командир ей тогда сказал, чтобы она аналитика слушалась. А какой он аналитик, если – сказочник? Он ей давал читать свои сказки – короткие, на две-три страницы. Короткие, но жуткие какие-то. Бр-р-р… Страшно!
– Нет, беседуем, – проворчал Сидорчук. – Ты уже все, с концами?
– Так время-то! – она удивленно глянула на маленькие часы на левой руке. – Уже семь, а у меня же до шести!
– Кхм…, – кашлянул Кудряшов. – Ну, я пойду пока, Сергеич? Потом договорим?
– Завтра? – спросил, как приказал, Сидорчук.
– Ну, давай, завтра. Вот съезжу на север, там посмотрю, что и как – и поговорим. Ага?
– А мы пойдем на север, а мы пойдем на север…, – проскрежетал Сидорчук и сам рассмеялся. – Ладно. Я буду народ готовить, а ты как приедешь – дернешь меня. Вот и договорим.
– Ну, я пошел! Дашунь, привет!
Кудряшов выскочил в коридор, просочившись мимо так и стоящей у порога Дашки.
– Вы, правда, не ругались?
– Даш, нам ругаться нельзя. Мы старые боевые товарищи. Мы просто обсуждали разные неприятные вещи.
– Расскажешь?
– Может быть. Но точно – не сегодня. Надо договорить и надо еще обдумать. Ты не обижайся, ладно?
Она не обижалась. Виктор был старше ее на огромные, неподъемные и непонятные «больше двадцати». То есть, строго говоря, она могла быть его дочерью. А так получилось, что вовсе и не дочь. И ей хорошо с ним. С таким вот седым, иногда упертым и разговаривающим суконным армейским языком, а иногда невозможно нежным и отчаянно веселым. Она сама себе его выбрала, когда он еще в больнице лежал, и гордилась этим. Мать всегда говорила, что никому она не нужна, такая страшная – покрашенная в черное, одетая в черное, в черных армейских ботинках… Ага, как же, не нужна. Еще как нужна! Вот, Виктору нужна.
– Ужинать пойдем?
– Знаешь, давай лучше дома поедим. Не хочу я сегодня стоять в очереди, потом сидеть в этой столовой с народом… Сбегай, а?
«Дома»… Это не дом, конечно. Комната в общежитии. Система коридорная. Сидорчук поймал себя на мысли, что старается не коснуться только что закончившегося разговора. О чем угодно готов думать. Хоть о графике выходов, хоть о связи с блокпостами, хоть об аэропорте… Вон, о Дашке готов думать. Дашка – она же чудо. С ней тепло.
А Витька все-таки сволочь. Если так, как он, думать все время, то крыша отъедет на сторону очень просто. Он же к чему подводит теперь? Он спрашивает, гад, мы, вояки, для чего здесь? Для исполнения приказов или для спасения жизни населения? Это он мне, значит, командиру своему. И что я ему скажу? Вот есть присяга. Есть приказ. «Приказ начальника – закон для подчиненного. Приказ должен быть выполнен беспрекословно, точно и в срок". Так в уставе. Это пацаны-первогодки наизусть заучивают, потом сдают зачет. Ну, и что тут еще думать и обсуждать? Есть приказ, я его выполняю. Чем он преступен, ну, чем, скажи? Я разведчик, я спецназовец. Я коммунист, наконец. И мне дали приказ: разведка, контроль местности, связь с местным населением, другими воинскими частями. И что я тут не должен исполнять? И почему?
А он, Кудряшов, так его аналитика мать, одно талдычит: нет такого приказа, чтобы дети в классных комнатах жили, и мыться ходили в заводскую баню. Нет такого приказа, чтобы людей без вины бросать за колючку или силком заставлять оставаться в опасном месте.
Ну, а если здесь зараза? Если все же эпидемия? Вот как он так все на свете знает, что не то и не другое? Откуда? В Москве, значит, до сих пор не знают, карантин объявляют, а он – знает. Умный. «Писатель», мать его так.
Ладно. Стоп. Дашка уже стучит по коридору каблуками – ужин несет. Выдохнуть, улыбнуться, встретить у дверей.
Завтра с Кудряшовым разберемся, завтра. Вечером.
***
– В квадрате Б-2 нарушена пахотная полоса! По следам – прошло более трех человек!
– В Зону или из Зоны?
– По следам если глядеть – вроде, в Зону.
– В Зону не входить. Отметить место прохода. Произвести поиск в направлении от Зоны. Искать следы выхода. Времени вам – час. Если подтвердится проход в Зону – продолжать движение по маршруту.
– Есть!
Часть 4. Осень
Глава 16
Осень в Молотове как всегда начнется с традиционного городского Праздника цветов. 1 сентября на площади у Молотовского театра драмы состоится городской праздник "Цветы Приуралья".
В рамках праздника пройдут ярмарки цветов, школьных принадлежностей, народных промыслов и т.д.
Для детей будет организована игровая программа о цветах, в конце дня цветов – дискотечная программа "Розовые мечты".
Начало работы ярмарки в 12 часов.
ИА "Регион-Информ-Молотов"
Обычная осень в Приуралье – это тонкий лед на лужах по утрам, солнце и летящие по ветру паутинки днем, изредка мелкие осенние дожди, пылящие влагой на яркие красные и желтые листья, корзины грибов на автобусных остановках. Да, грибы, которые водились в окрестных лесах в количествах, буквально подсказывающих их промышленную заготовку и консервирование.
Обычная осень – это громкое и шумное школьное первое сентября с шеренгами учеников, прячущихся за букетами, праздники во всех парках и Домах культуры, День мира во всех школах и праздник цветов в городе.
Обычная осень – это вручение студенческих билетов первокурсникам и первый выезд «на картошку».
Обычная осень – это дымящиеся горьким дымом холмики сметенных с тротуаров сухих листьев, по утрам создающие сюрреалистические пейзажи, не раз используемые местными художниками в своих картинах.
Обычная осень – это арбузы и дыни, привезенные большими плоскими баржами с юга. Это рассыпанные по подоконникам местные розовые помидоры, добирающие красноты в сумраке кухонь. Это острые запахи от маринадов из открытых окон. Это уже закрытые киоски «Мороженое».
Это, наконец, новый театральный сезон.
Но осень этого года не была обычной.
Погода оставалась теплой по-летнему. Днем было жарко, и даже ночью было тепло, и ничто не предвещало похолодания и ожидаемых первых осенних заморозков. Дождей давно не было, и раньше бы по такому делу радио и телевидение уже были заполнены предупреждениями о запрещении разведения костров, а в лесу грибников подлавливали бы злые на весь мир лесники. Но в эту осень не работали телевидение и радио. Некому было шуметь, чтобы не жгли костры и по возможности не выезжали в лес. И в лес далеко уйти было просто некуда – граница. Да и выехать, как раньше, компаниями, на катерах или на машинах – не на чем.
И некому, в сущности. Город заметно опустел, даже на глаз, без статистических выкладок и расчетов. В самый праздник, первого сентября, не было на улицах толп первоклассников с пышными букетами, целеустремленно шагающих рядом с родителями (только рядом, не за ручку – не маленькие уже!) к своим школам. Первокурсники не собирались за мутными от пыли высокими окнами потоковых аудиторий для получения студенческих билетов. И «на картошку» в этом году никто никого не распределял. Некому было распределять. И некого – вступительные экзамены были отменены. Да, и – некуда, в сущности. Зона.
***
– Прошу построиться.
На тихий голос никто и не подумал обернуться. После плотного завтрака и недолгой дороги к последнему блокпосту кто разминал ноги, кто отошел в кусты, еще трое собрались тесной группой чуть в стороне, закурив и о чем-то негромко разговаривая.
– Сержант, что за бардак? – так же негромко спросил, повернувшись к стоявшему у шлагбаума сержанту, среднего роста седоватый человек в простой брезентовой штормовке наподобие тех, что были в ходу в студенческих стройотрядах лет двадцать назад. Еще, пожалуй, похожие потертые и простиранные почти добела брезентухи были у лесников.
Погон на куртке не было, но сержант, подтянувшись, тут же рявкнул во всю глотку, так, что эхо отразилось от недалекой кромки леса:
– Становись! Прекратить галдеж!
Во внезапно наступившей тишине седой негромко сказал в повернувшиеся в их сторону лица:
– Вот тут, передо мной, всем построиться с вещами. И побыстрее, пожалуйста.
От курящей троицы отделился самый молодой на вид, подбежал в три длинных шага, наклонился с высоты своего роста:
– Это вы, что ли, будете – Сталкер?
– А это вы, что ли, будете – туристы? – усмехнулся седой.
– Мы не туристы! – обиженно и как-то по-детски ответил высокий. – Мы вот, трое, из киевского уфологического центра, а вон там еще – из научного журнала, а вон – аж из Америки приехал мужик…
–Та-а-ак… Понятно, – протянул седой и слегка повысил голос. – Господа, я к вам обращаюсь. Кому туда, – махнул он рукой вдоль дороги, – строиться передо мной на инструктаж. Остальные могут грузиться в свой автобус – дальше они не пойдут. Посмотрели на Зону снаружи, и хватит.
С переговорами, пожатием плечами, шушуканием, недовольством, ярко выраженном на всех лицах, но все же вскоре вся группа стояла на обочине со своими рюкзаками, сумками через плечо, фотокамерами.
– Что ж, – прошелся седой вдоль неровного строя. – Похоже, от армии все «откосили»? Дисциплины, гляжу, никакой. А без дисциплины я с вами работать не буду. Просто не смогу. А без меня… Сержант! Что будет без меня?
Сержант выпятил богатырскую грудь, пошевелил плечами с темно-красными погонами, поправил широкий ремень ручного пулемета, смотрящегося игрушкой в его руках:
– Ну, так… Это. Всех – назад, как положено. А при попытке пробиться далее по дороге – огонь на поражение. Такая вот команда.
Седой сделал долгую театральную паузу.
– Ну? Все слышали? Всё понятно? Вопросы?
– Можно вопрос? – поднял руку кто-то с дальнего левого фланга. – А вы здесь кто, собственно?
– Я-то? – приподнял брови седой. – Ну, считайте, я вроде как встречающий наших гостей, высокий представитель населения зоны чрезвычайной ситуации. Единственный официальный представитель. Ясно?
Головы стоящих в строю дружно повернулись в сторону сержанта, но тот молодцевато «ел глазами» внезапно появившееся начальство и ничем не выражал протеста. То есть, выходит, этот мужичок в брезентухе – и правда начальник какой-то?
– А теперь, значит, так: я подхожу к каждому из вас, по очереди. Вы предъявляете свои документы, показываете все свои вещи, рассказываете, как положено, «кто, куда, зачем, откуда». Начинаю с правого фланга, отсюда вот…
– Что значит, вещи? Это что, обыск, что ли? Таможенный досмотр? Как это понимать? – поднялся, было, шум в колыхнувшейся вперед шеренге.
– Сержант! – властно скомандовал седой. Тут же по взмаху руки сержанта из домика путевого обходчика, превращенного военными в блокпост, выбежало несколько вооруженных солдат, и рассыпались перед стоящими на обочине, взяв оружие наизготовку.
– Внимание! Соблюдать тишину и спокойствие! Вы находитесь в запретной зоне, в которой действует чрезвычайное положение, – крикнул сержант и громко, напоказ, клацнул предохранителем.
– Именно – тишину, и именно – спокойствие, – подхватил негромко седой и подошел к крайнему в строю. – Документы ваши, пожалуйста…
– Нам говорили – сталкер будет… А тут, похоже, мент какой-то, – раздалось из середины строя.
– Про «сталкеров» забудьте, – хмыкнул седой. – Единственный здесь «сталкер» – это я. Зовут меня Виктор Сергеевич. Фамилия моя – Сидорчук. Это, если кто решит вдруг жаловаться. Или если сумеет найти, кому на меня пожаловаться. Звание у меня не высокое – майор. Вот так и можете ко мне обращаться: товарищ майор. Или, если слово «товарищ» некоторых корежит слишком, можете просто майором звать. Я уже привык.
Говоря все это, он уже пролистал паспорт, посмотрел какое-то рекомендательное письмо с несколькими подписями и печатями внизу фирменного бланка, успел негромко спросить «Оружие?» и получить такой же негромкий ответ «Нож. Показывать?»
– Все в порядке. Отойдите к шлагбауму.
Через пять минут уже три человека стояли у шлагбаума под бдительным присмотром сержанта, а Сидорчук продолжал свой обход.
– Документы. Ваши вещи? Оружие есть?
Вдруг он насторожился, поднял руку. Тут же за его спиной выросла фигура автоматчика в бронежилете.
– Цель прибытия?
– Да, местный я, домой возвращаюсь…
– Место рождения?
– Местный, говорю же! Вон, из города, с Гайвы.
Он еще говорил что-то, а уже трое автоматчиков, недвусмысленно приготовившихся к стрельбе, стояли перед ним.
– Вам – туда, – показал Сидорчук, делая шаг назад. – Вон в тот автобус.
Метрах в ста за шлагбаумом стоял старенький «пазик», ранее, наверное, возивший раньше местных доярок по фермам.
– Да мне бы со всеми… Привычнее…
– Вам – туда.
Клацнули вперебой затворы, досылая патрон в патронник, побледневший парень с большим чемоданом на колесиках, обклеенным яркими этикетками, шарахнулся в сторону и пошел, наконец, за шлагбаум. В Зону.
Проверка прекратилась. Майор с некоторым напряжением следил за ним, постепенно, по мере удаления парня, расслабляясь. Хлопнула вдали дверь автобуса.
Сидорчук повернулся к следующему:
– Ваши документы… Это ваши вещи? Оружие есть? Пройдите к шлагбауму.
– Следующий. Документы. Оружие есть? Стоп!
Опять поднятая рука, опять автоматчики.
– Предъявите документы на право ношения оружия.
– Майор, я же в Зону иду, так? Какие могут быть в Зоне документы? – крепкий мужик в просторной серой ветровке, улыбаясь и разведя руки чуть в стороны, сделал шаг вперед.
– Назад!
Над головами оставшихся еще в строю ударила короткая очередь.
– На землю! Лежать!
Все попадали лицом вниз.
Один из автоматчиков тут же прижал коленом распластавшегося крабом владельца оружия и сноровисто застегивал наручники, заведя ему руки за спину.
– Встать, – дернул его за плечо, и на одном дыхании, – Вы задержаны по подозрению в принадлежности к незаконным вооруженным формированиям. Вперед. И без шуток. Стреляем на поражение.
Майор дождался, пока увели задержанного, потом укоризненно посмотрел на остальных:
– Ну? Кино насмотрелись, что ли? – устало сказал он. – Как вы себе нашу Зону представляете, а? Как у Стругацких, что ли? У нас самый обычный город. Запомните: обычный. И мы в нем живем. И работаем. И законы у нас, между прочим, действуют. И дружинники по улицам ходят. Что вы себе выдумали там? Зачем к нам – с оружием? Эх-х-х… Ладно. Следующий!
Вскоре у шлагбаума стояла группа из восьми человек. Сидорчук помахал рукой, автобус, так и стоящий невдалеке в ожидании, зафырчал, задымил, развернулся и резво покатил по пустому шоссе.
– Ну, вот, значит. А мы с вами пойдем туда пешком.
– Как – пешком? С вещами?
– А вот так. Кто не хочет – можете остаться. Скоро транспорт пойдет обратно. Через пару дней, а то и раньше, будете в Москве. Кто со мной – пешком. Только пешком. И пока идем, мы все обсудим, поучимся терпению, научимся вежливости и послушанию… Дисциплине. Ну? Кто еще останется?
– Я не смогу столько нести, – нахмурился тот, что был в числе последних проверенных. – У меня тут аппаратура, кино- и видеокамеры…
– Не сможете нести – оставьте. Бросьте вон в канаву, что ли.
– Как – в канаву? А сохранить? Разве нельзя отдать на сохранение, и чтобы на обратном пути все вернули?
– А кто вам пообещал обратный путь? Я вот пока ни одного человека обратно не проводил. Да и не выпустят обратно никого. Не положено это – выпускать кого-то из зоны чрезвычайной ситуации.
– Как это? Мы так не договаривались, – рванул хозяин аппаратуры от шлагбаума. За ним, неуверенно оглядываясь, отошел еще один – наверное, его товарищ или ассистент.
– Ну, и ладно. Ну, вот и хорошо, – заулыбался майор. – Пошли за мной, ребята.
И первым шагнул в Зону, помахав на прощание рукой вставшему навытяжку сержанту.
***
По ночам в городе было очень тихо. Патрулирование ночное еще по лету отменили, оставив дружинников только в светлое время суток. Не стало как-то вдруг шумных задиристых компаний, только и ожидающих поздних прохожих. Не появлялись больше «синяки», караулящие у магазинов и просящие каждого «хоть копеечку за ради бога – сдохну ведь». После работы все быстро и молча грузились в бесплатные автобусы, которые развозили их по домам. У кого были малые дети – забегали за ними в детский сад, кучковались там, сбивались в стайки, а потом все вместе шли в свои кварталы.
Как только наступали вечерние сумерки, зажигался свет. Фонари горели всю ночь, отключаясь только с восходом. На пустых ярко освещенных улицах было знобко и страшно. Как в старых фильмах о зомби или же про войну, когда все ушли уже куда-то, а дома стоят еще совсем целые, и ждешь, что вот-вот из-за угла вывернет какое-то чудовище. Когда в кино так и случается – вздрогнешь и выругаешься восхищенно. Девчонки, так и завизжат в голос. А тут просто было неуютно. Не по-домашнему было сейчас в своем городе.
Тем более, что все уже знали, не как по весне, что люди пропадают и не возвращаются, что все больше и больше таких пропавших, а от чего и почему – никто так и не знает.
Ученые и уфологи, пробивающиеся в город, рассказывали о каком-то «проколе», о «пересечении миров», о неудачном эксперименте со временем и пространством, даже об эпидемии непонятной, коснувшейся, мол, только местных горожан. Мол, потому и зону чрезвычайной ситуации объявили, потому и не выпускают никого – чтобы заразу по стране не разнести.
Вариант с заразой был, с одной стороны, вполне логичный. Тогда объяснялись все меры, принятые московским руководством: и карантин, и то, что не выпускают никого из города. Но тогда становилась совершенно не логичной акция по сбору «наших» по всей стране, когда везли их и везли, как бы стараясь заполнить пустые места, заменить выбывших.
Ученые же приезжали без специальных костюмов. Без фантастических скафандров и даже без простых марлевых масок. И не кровь проверяли на вирусы у всех встреченных, а все больше какую-то физическую аппаратуру устанавливали, пытаясь перекрыть весь город своими антеннами и проводами. Что они там улавливали, и улавливали ли, никто не знал.
Искали, говорят, еще того парня, что рассказывал странные истории, будто попал к нам из другого, параллельного измерения. Искали, но не находили. Вот вроде все о нем слышали, только показывали в разные стороны.
Еще искали они корреспондента местной молодежки Дашу Аникину. Но кто же теперь найдет ее в городе? И справочная не работает, и милиции со всей их системой не наблюдается. Кого спрашивать? Куда ехать? Так, в разговорах мелькало: а Дашу не знаете, случайно, не встречали?
Ладно, хоть перестали пропадать люди из поездов, что редко, но продолжали приходить в Молотов. Правда, в отличие от первых рейсов, в пассажирских вагонах теперь были только местные, кого нашли, «выловили», «просеяли» по всей огромной стране. А прочих всех, любопытствующих или по непонятному никому делу, гнали к единственному блокпосту, работающему «на проход».
В мире шум тоже постепенно стих. В первую очередь – из-за отсутствия практически любой информации. Вернее, не информации, потому что ее и до того было не слишком много, а новостей. Ну, смотрели сверху спутники, давали картинку хорошего разрешения, но что в той картинке? Трупов, валяющихся посреди проспектов, или толп зомби, как в кино, не наблюдалось, всяческих артефактов непонятного назначения не обнаруживалось, боев и танков на улицах не было, и воронок от взрыва заводов или лабораторий – тоже.
Все выглядело на удивление нормально.
***
Насчет «единственного сталкера» Виктор, конечно, погорячился немного. Из Москвы регулярно сообщали о тропках, появляющихся то с одной, то с другой стороны, о группах любителей не понять чего, проникающих в зону по-индейски, цепочкой, след в след. Но эти «нелегалы» его не интересовали, хотя бы потому что в обязанности его не входило отлавливать или отслеживать их передвижение.

