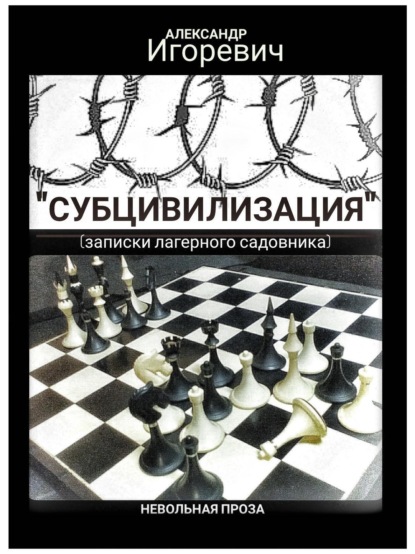
Полная версия:
Субцивилизация (записки лагерного садовника)
Вы только представьте, сколько невиновных персонажей пересажал, рубя так шашкой с плеча, этот всеобщий книжно-киношный любимец Жеглов, картинно и пафосно сыгранный В.С.Высоцким, также всенародно любимым. И этого лошару Груздева посадил бы, оставив бандита Фокса на свободе. Если б не вмешательство не столь горячо любимого в широких массах Шарапова.
Ведь это действительно поучительный момент. Подумайте теперь: сколько невинных жертв может быть на счету у армии современных подражателей Жеглову? Уму непостижимо! Воистину, не сотвори себе кумира!
Если бы мне тогда, в кабинете следователя, не было так больно и морально, и физически, то я бы, наверное, там описался со смеху, глядя, как юный, пухленький и беленький, холёный следователь, заботливо укатанный своей мамашей в пушистый жёлтенький свитерок и похожий на аниматора в костюме цыпленка, фальшиво басил, имитируя того Жеглова, когда раздавал указания операм: “Так! Пр-р-роизведёте у него обыск! Перрре-р-р-роете там всё! А что покажется подозр-р-рительным – сюда!”. Ну, натуральный цирк! И смех, и грех…
Ленин, надо отдать должное, пройдоха был архиушлый и быстро смекнул, что кино – доступное средство воздействия на массы. Оно открыло широкие возможности для манипулирования не только сознанием, но и подсознанием недалёких и наивных людей. С помощью кино можно легко навязать искажённые представления о любом предмете, явлении и событии. А главное – нужные…
Помню, в детстве наши игры в советской глубинке теснейшим образом зависели от кино- и телепроката. Выйдет новая картина о Великой отечественной войне – мы по сугробам с игрушечными автоматами! О гражданской – с шашками! Об отечественной 1812 года – мы курточки на одно плечо, как гусары! “Д’Артаньян и три мушкетёра!" – в простынях с крестами и деревянными шпагами!
“Цыган” – гоняем всех подряд кнутами, как Будулай! Много бед наделал детский вестерн “Виннету – сын Инчучуна”: напилили алюминиевых трубок из карнизов для штор, наточили острейших спиц с кусочком поролона на обратном конце. И пошла охота на всё, что движется! Спицу-дротик – в трубку, её ко рту, прицелился и… резким выдохом: “Фууу!”. Цель поражена! Мишени, как правило, были живые и в широком диапазоне: от голубей до задниц девчонок.
Но то советские дети – простительно: игрушек не хватало и всё такое… А тут взрослые солидные дяди при должностях! Если хорошо вдуматься в это, то станет очень грустно…
Вот и представления общества о жизни обитателей современной тюрьмы завязли в искажённом свете, начиная с репродукций картин художников-передвижников до популярных телесериалов. И сводятся эти представления примерно к следующему.
Деревянный барак. В бараке вдоль стен – нары в два этажа. На нарах, свесив грязные, волосатые ноги – измождённые, обритые наголо зэки. Щерятся беззубыми ртами, растопырив пальцы в синих “перстнях”. На плечах – “звёзды”. На груди и спинах – “купола”. В пальцах – чётки, слепленные из чёрного хлеба. На столе-общаке – алюминиевые мятые и чёрные от копоти кружки ("кругали") с чифиром да замусоленная колода самодельных карт. И под дребезжание разбитой, расстроенной гитары хором, заунывно, раз-два: “Таганка, все ночи полные огня! Тага-а-анка, за-а-ачем сгубила ты меня-а-а…”. А под нарами, трепеща от страха, прячется “опущенный”, прикрывая зад старой драной телогрейкой…
Вот такая "субцивилизация"…
Неоднократно я буду приводить примеры, когда популярные кинофильмы грубо и принципиально искажают действительное положение вещей.
Когда-то я и сам имел представление об этом закрытом мирке, аналогичное описанному выше. А впоследствии часто задумывался: "Неужели создатели фильма не в состоянии найти консультанта, способного почистить огрехи в сценарии? Да у нас каждый второй за пачку сигарет вам все поправки внесёт!".
А потом понял.
“Один день Ивана Денисовича” – это же смертная скука для зрителя! Безусловно, в нынешнее время это интересно далеко не всем. А после первого просмотра – уже почти никому. Единицам. Тем, кого это коснулось лично.
А что, собственно, можно показать из реальной жизни? Как мужики пришли в общежитие отряда (его бараком теперь даже с натяжкой не назвать) после работы на промзоне? Столяры, токари, фрезеровщики, швейники… Как сели попить чаю с нехитрой снедью? Потом на ужин в столовую сходили, телевизор в отряде посмотрели, еще раз чаю попили, книжки почитали перед сном? Как кто-то с таксофона, а кто и с мобильника, достав его из укромного места, позвонил домой родным? Как в 22-00, после объявления отбоя, легли спать? Как в 6-00 встали с командой “подъем”, умылись, сходили в туалет? Потом – зарядка, завтрак, проверка, а там – на работу, по цехам: швейным, токарным, столярным… И так изо дня в день. И из года год.
Если это показать в виде телесериала, то… Сами понимаете – никакой романтики. Ни интриги, ни зрелищности. Да и мужики-то эти – самые обычные, только трезвые, побритые и в чёрных спецовочных костюмах с серыми светоотражающими полосками на голенях, груди и спине. Да в кепках, похожих на картузы, с такой же полоской над козырьком, которые принято называть “фесками”.
Кому, скажите на милость, такое кино может понравиться? Естественно, никому! Поэтому и гонят отсебятину, кто во что горазд! Выдумывают всякую чушь и ахинею. А оспорить некому: кто сидит – не имеет возможности, кто отсидел – плюнул и махнул рукой, не желая вспоминать загубленные годы. А вот те, кто отсидел и собирается сидеть ещё, тем эта галиматья только на руку! Они рады сами приврать, чтоб поиметь с доверчивых лохов, впервые столкнувшихся с тюрьмой, сигарет, чая, жратвы, а, если повезёт, то и денег. Сказка, конечно, урок для добрых молодцев, но следует иметь в виду, что она всё-таки ложь. А уж от такой сказки, как наша, однозначно стоит воздержаться!
Так вот эта, последняя упомянутая часть сообщества зэков, склонная ко лжи и фантазированию, может забросать меня упрёками, и хорошо, если только ими, что я, во-первых, первоход и, несмотря на солидный тюремный стаж, сам ничего о тюрьме не знаю. Во-вторых, что я, паршивый интеллигентишка, не вхож в “порядочные” круги сообщества, и, соответственно, далёк от настоящей арестантской жизни. А в-третьих, что отбываю наказание в сраной Саратовской области, которую в арестантской среде иначе, как “жопой мира” не называют…
Ну, это-то меня ни капельки не смущает, поскольку имею не меньше самых весомых аргументов в пользу моей основательной осведомлённости.
Во-первых, я не бывший музейный экспонат, а опытный исследователь с ученой степенью, вооружённый и виртуозно владеющий основными методами научного познания, что весьма и весьма немаловажно. Поэтому, если я не вхож в те или иные тюремные сборища, то это не означает, что я не знаю достоверно, о чём там говорят и чем занимаются!
Во-вторых, за два с половиной года предварительного и судебного следствия довелось мне "покататься" по десяткам камер и корпусов двух тюрем, где вдосталь повидал я и блатных, и заводных, и всяких, побывал и в пресс-хате, и в карцере, и с первоходами, и с второходами, и с вездеходами, и с особиками**, а уж наслушался-то и того больше.
И, наконец, в-третьих, первые четыре года на зоне я проработал дворником в карантинном, то есть приёмном отделении колонии строгого режима. И вот на этом скромном участке так называемой “жопы мира” я в буквальном смысле встретил порядка двух тысяч заключённых, прибывших из СИЗО, тюрем и колоний со всех концов матушки-России от северокавказских республик до Камчатки с Приморьем и от Карелии до границ с Казахстаном, с национальным спектром от латвийца и эстонца до турка, сирийца, индуса и пакистанца, всех мастей и статусов (кроме “воров в законе”). И у каждого за душой своя история и невоздержанное желание кому-нибудь её поведать, выговориться. За установленные четырнадцать суток карантина в глухом изолированном участке, в бездействии, вновь прибывший зэк только и занят тем, что ищет “свободные уши”, чтобы вывернуться наизнанку, изливая свои впечатления о местах предыдущего пребывания.
Вот уже где пришлось вдоволь и всласть, до тошноты пресытиться и былями, и сказками, и россказнями! Тут и на десять таких книжек хватит. А главное, давно приученный верить только глазам, я имел возможность самолично наблюдать, кто, как и чем живёт. На этом и основываю выводы, которые здесь привожу.
Так что за “жили-были” мне рассказать есть что. Тем более, спустя уже годы после работы в карантине, я тем не менее и сейчас стараюсь шагать в ногу со временем. И за двенадцать лет наблюдений вынужден констатировать, что перемены в тюремном сообществе – в этой нашей субцивилизации, произошли разительные. И прежде всего они касаются состава этого самого сообщества, то есть, образно говоря, его лица.
Но обо всем по порядку. Итак…
Примечания к главе 3:
* имеется в виду кинокартина “Покровские ворота”, режиссер М.М.Козаков;
** первоход – впервые отбывающий уголовное наказание; второход, он же рецидивист – повторно осуждённый к отбыванию наказания; вездеход – многократно отбывавший уголовное наказание в разных уголках страны; особик – особо опасный рецидивист, осужденный к лишению свободы в колонии особого режима (жарг.).
Раздел II. ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО ЗЭКА
Глава 4. Арестанты и каторжане
Прежде, чем перейти к образу современного арестанта, следует всё-таки кратко охарактеризовать саму систему исполнения уголовных наказаний. Это важно постольку, поскольку она всё-таки делит арестантский контингент на категории. И для каждой из этих категорий, с учетом их специфики, предусмотрены типы и виды учреждений, предназначенных для отбывания наказания. И это, естественно, накладывает свой отпечаток – каждое учреждение обладает своими особенностями, продиктованными не только сверху, со стороны официальной власти, но и снизу, то есть указанной выше спецификой арестантского сообщества.
Когда-то очень давно, скажем, лет двести назад и до падения самодержавной власти в России существовало два основных типа уголовного наказания в виде лишения свободы. Это тюремное заключение и каторга. Была, конечно, и ссылка. Но её можно, по большому счёту, считать мерой ограничения свободы, а никак не лишения оной.
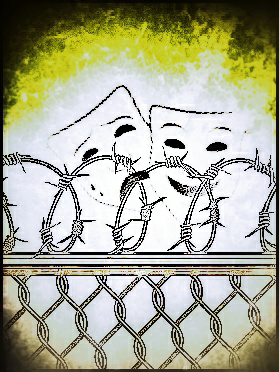
После ареста и до вынесения приговора, то есть во время следствия, преступника содержали в следственной тюрьме. Она была либо обособленным заведением, либо входила в состав общей тюрьмы, где отбывали наказание уже осуждённые, но в качестве как бы её структурного подразделения, в отдельном крыле либо этаже здания.
Тюремное заключение тогда отбывали непосредственно в специально построенных тюрьмах, многие из которых исправно функционируют по сей день, а также в разного рода казематах, равелинах, крепостях и прочее, и прочее. Все помнят печально известные Петропавловскую и Шлиссельбургскую крепости – они до сих пор на слуху. А до того еще и остроги были…
Я не силён в истории российской пенитенциарной системы* – специально этим вопросом не интересовался. И переписывать её нет ни нужды, ни охоты. Здесь я веду речь о происхождении и назначении одного из ключевых понятий, часто употребляющегося и, можно сказать, культового для обитателей этой субцивилизации. А именно, о слове “арестант”. И что-то я выяснил наверняка.
Романтики и поборники тюремного фольклора вкладывают в это понятие поистине глубокий, если не сказать – сакральный смысл, сделав его чуть не предметом поклонения, культа. Увы, многие из этих “жрецов”, раздувая фимиам вокруг этого понятия и придавая ему чрезвычайное значение, как правило, сами знать-не знают, что оно означает и откуда пошло.
А всё очень просто. Арестантами издревле называли тех, кто прошёл тернистый и зачастую нечеловечески трудный путь с момента водворения в следственную тюрьму до места исполнения наказания, назначенного судом.
Если было назначено тюремное заключение, то арестанта препровождали в соответствующую тюрьму, крепость или иное узилище. И с этого момента он именовался уже не арестантом, а заключённым.
Когда суд приговаривал подсудимого арестанта к каторжным работам, то по прибытии на каторгу он начинал зваться каторжанином. Не каторжником, а каторжанином! Каторжником его "величали" вольные люди. А вот "коллеги" по несчастью – каторжанином. До той поры, пока был в пути, он так и продолжал считаться арестантом. И это принципиально важный момент.
Тот тяжкий путь от следственной тюрьмы до места каторжных работ получил название “этап”, а сопровождение арестантов охраной – “этапирование”.
Этап мог занять время от нескольких дней до двух, а то и трёх лет. Это зависело от того, в какую географическую точку был отправлен арестант – будущий каторжанин и, естественно, от технических возможностей транспорта в тот или иной исторический промежуток времени.
Выбор был небогат и средства передвижения, прямо скажем, не самые гуманные: от "трамвая №11”, то есть пешкодралом, и закрытых повозок или саней до железнодорожных платформ для перевозки скота. В санях и повозках этапировали, понятно, знатных арестантов, но без отопления им тоже было не сладко. Как и тем, кого гнали в неотапливаемых вагонах в стойлах для лошадей, в которых из удобств была только небольшая дырка в полу…
Вот и представьте, сколько нужно времени, чтобы доставить вглубь Сибири пешком измождённых, больных и голодных людей в кандалах! Да еще по морозу, в снег и в дождь. По неокрепшему льду осенью через сибирские реки. Накануне ледохода весной. На баржах летом…
По железной дороге, конечно, быстрее. Но и расстояния были гораздо большими. И не везде она, дорога-то железная, была – занимала только часть этапа. А дальше опять самый доступный транспорт – “одиннадцатый трамвай”…
Когда окрылилась знаменитая сахалинская каторга, арестантов повезли по воде. Многие наверняка помнят приключения легендарной Соньки “Золотой Ручки”. Этапировали на пароходах, в трюмах, в клетках на палубе, от берегов Чёрного моря сначала в Средиземное, а там через три океана, обогнув всю Южную и Юго-Восточную Азию, через лихорадку и цингу, субэкваториальную жару…
Шутка ли – "этап" в XVIII-XIX в.в.? Сложно сказать теперь, каков процент выживших и тем более здоровых, не повредившихся в уме арестантов прибывал в итоге до места каторги.
Но вот в этом-то вся и соль! Вот тут-то и проявлялись те арестантские качества, которые можно абсолютно обоснованно считать проявлением лучших человеческих возможностей и добродетелей. И те, которыми нынешние адепты арестантских понятий искренне ли, лицемерно ли, но с пафосным энтузиазмом пытаются наделить современного порядочного арестанта.
Какие же это качества? Да те же самые, которые позволяют выжить группе людей в экстремальных условиях: мужество, стойкость, взаимовыручка, порядочность в общепринятом понимании, надёжность, чувство братства, единства и настоящей дружбы, а также разумность, хладнокровие, практичность и прочее. Отдельно надо выделить милосердие и способность к самопожертвованию.
Думается, что сам по себе такой выдающийся комплекс нравственных сил зародиться в среде арестантского быдла из готовых сожрать друг друга упырей не мог. Да-да. Не мог. Без притока, если можно так цинично выразиться, свежей крови…
И эта свежая кровь в лице лучших представителей русского дворянства, хотя, впрочем, и не только дворянства, нет-нет, да и вливалась в заскорузлые жилы арестантского общества, или сообщества, как кому будет угодно.
Не все дворяне, скажем прямо, обладали высокими душевными качествами. И не все крестьяне были быдлом. Без Платона Каратаева, вероятно, сгинул бы граф Безухов. Но всё же, не будем себя обманывать, что есть, то есть.
Факты, как говорил Сталин, вещь упрямая – особенно бурно эта самая свежая кровь зажурчала и полилась потоком после восстания декабристов!
Именно тогда это здорово консолидировало арестантскую массу и дало начало арестантскому кодексу – укладу! А кроме того – пробудило спавшие, дремавшие, припрятанные про запас лучшие душевные качества у представителей других сословий: от купечества до крестьянства!
Так, принявшие арестантский уклад освобождались на время этапа от сословных рамок и ограничений: граф делил хлеб с простолюдинами, те вставали на защиту помещика, притесняемого конвоем, мещанин подставлял плечо заболевшему крестьянину, а пролетарий – князю. Но…
Увы, по негласному декрету с прибытием на место, то есть на каторгу, арестантское братство распадалось. И бывшие арестанты, теперь уже каторжане, устраивались, кто как мог, чтобы жить и выживать уже самостоятельно, полагаясь на самого себя и остатки затухающих арестантских понятий вчерашних сотоварищей. Чувство сословности в итоге перевешивало временные гибридные взаимоотношения. И князья оставались с князьями по личному приятию и усмотрению, купцы с купцами, крестьяне с крестьянами, а воры с ворами – никаких обязательств! И никакого спроса…
Примерно такую же картину обновления застарелой гнилой крови можно было увидеть и во второй половине XIX века, когда на каторгу толпами "поехали" революционеры всех мастей из дворян и разночинцев; и в первой половине XX века в период массовых репрессий по отношению к передовой части советского общества. Ничто не ново под луной…
Таким образом, если взять чисто исторический аспект, то и в нынешнее время "арестантство” должно заканчиваться с прибытием этапа в зону соответствующего типа. И в сущности-то так оно и есть. Пережито жуткое для многих время ожидания приговора в СИЗО, стрессовых катаклизмов, вызванных отрывом от дома и семьи, переменой условий жизни и прочее. Перегорают волнение и чувство неизвестности в ожидании участи, сопровождавщие и без того малоприятные "прелести" этапа, хотя и не в пример более комфортного, чем сто-двести лет назад, но всё-таки требующего сохранять чувство арестантства. А уже в зоне, на месте, это чувство постепенно сходит на голые слова, вялые попытки его продлить, молчаливое согласие, а в мыслях – на усталое чувство необходимости и обречённой вынужденности.
В конце концов, пост-арестанту (он же – нео-каторжанин) все эти "братульцы-братухи" и "движухи-менжухи" становятся ненужными, неинтересными, тягостными. Он теперь вынужден тщательно скрывать от других утрату прежних идеалов. Жизнь налаживается! Налаживается и… диктует свои правила, перспективы, сваливает на голову зэка кучу разных житейских забот. Вследствие этого чувство собственничества берёт верх. Вынужден повторить старую истину: ничто не ново под луной. И ничто не вечно…
Итак, именовать узников пенитенциарной системы арестантами, выходит, не совсем корректно. Хотя в разговорной речи это давным давно принято. Каторжанами же звать обитателей зон вообще архаично и отдаёт фальшивым пафосом. Однако топнувшие по несколько ходок пожилые мужчины, бывает, называют себя – "старый каторжанин".
Так как же в общем и целом принято называть обитателей тюрем, исправительных лагерей и прочих пенитенциарных учреждений, связанных с лишением свободы?
Вот, наконец, и подобрались к этому резкому и пугающему слову – "зэк". Что же оно означает? Многие ошибочно полагают, что оно произошло от слова "заключённый" путём его сокращения и трансформации гласной "а" в "э". В просторечьи можно услышать ещё слово "зык" и производные от него: "зыки", "зычка", “зычонок" и так далее. В действительности это слово изначально звучало как "зэка", с ударением на последнем слоге. А писалось оно аббревиатурой “з/к”, которая расшифровывается как "заключённый каналармеец". Это официальное название спецконтингента строителей Беломоро-Балтийского канала, правдами и неправдами, по суду и без суда свозимых и сгоняемых туда вооружённой охраной, как на каторгу, в начале тридцатых годов XX века.
После посещения этой "стройки" Виктор Шкловский рассказывал, что чувствовал себя там, как чернобурая лиса в меховом магазине.
А слово "зэк" в итоге закрепилось, стало общеупотребительным в разговорной речи, а позднее и в литературном языке. Хотя, повторяю, изначально оно имело совсем иное, специфическое и значение, и назначение, но сейчас является собирательным названием всех категорий узников независимо от их юридического официального статуса, образа жизни и масти.
О последней будет ещё обстоятельный разговор впереди. А вот на юридических статусах, во избежание недоразумений и путаницы, придётся остановиться и разобраться поподробнее в следующей главе.
Примечание к главе 4:
* пенитенциарный – от лат. "penitentiarius" – карательный.
Глава 5. Правовой статус зэка
Итак, что такое юридический или правовой статус зэка, и с чем его едят?
Допустим, совершено преступление. Требуется виновное лицо. И тут есть куча вариантов, как его установить. Самый простой – когда оно, это лицо, прибегает или звонит в полицейский участок, рвёт на себе волосы и воет дурниной: “Ай-ай-ай, дуро я дуро, что же я натворило!”. И так далее. Тогда составляется протокол явки с повинной, и всё пошло своим чередом.
Другое дело, когда виновного надо задержать. Хорошо, если есть улики бесспорные. Тогда его просто берут и доставляют в участок. А если нет улик? Тогда очерчивают круг подозреваемых лиц, выбирают из них подходящую кандидатуру, доставляет в участок, а там…
Если бы я не знал достоверно и доподлинно на своём горьком опыте, что там происходит, то отделался бы выражениями вероятностного характера: "наверное", "возможно", “полагаю”, "скорее всего" и тому подобными.
А я, как никогда категоричен. И знаю, что говорю. Поэтому продолжаю: там, в участке, это подозреваемое лицо сначала либо ласково, либо строго укоризненно прибалтывают признать вину, поскольку признание это и будет главной уликой, независимо от того, кто на самом деле совершил преступление.
Да, впрочем, уже не важно, кто истинный преступник, и был ли вообще сам факт совершения преступления. Важно и даже жизненно необходимо предоставить задержанное подозреваемое лицо. Иначе наступят катастрофические последствия: будет ругать начальство.
Что может быть страшнее этого? А то, что начальство это, в свою очередь, будет ругать прокурор. Раз поругает, два. Можно из-за этого остаться без выходного. Отпуск может накрыться медным тазом. А если систематически такая петрушка повторяется, то могут и разжаловать – со службы выпереть. Тогда придётся идти работать, а это, считай, вся жизнь псу под хвост…
Так что там, в полицейском участке, если миром дело не решилось, увещевания не подействовали, придётся “налить шары” до одури, а озверев, терзать плоть задержанного лица, угрожая при этом расправой над его семьёй, родителями, детьми. До тех пор, пока это самое лицо не запищит: “Ай-ай-ай, дуро я дуро, что же я натворило!" и так далее по писанному: протокол явки с повинной и прочее.
Если же это задержанное лицо уже ни живо, ни мертво, но продолжает включать бычку – упорствовать, то придётся оставить его в покое, а улики просто сфальсифицировать. Рискованно, конечно, но игра стоит свеч…
И напрасно наивное задержанное лицо, морально и физически истерзанное, мечтает, что вот-вот явится адвокат, и всё обратится вспять. Что следователь разберётся во всём, и его, горемыку, освободят. Так-то оно так, но… Адвоката допустят, когда основное дело сделано, и это уже мало поможет, если поможет вообще. А следователь сам из той же системы, с его-то подачи и ведома орудовали полицейские опера. Шум поднимать никому не на руку. Ни сотрудникам следственного комитета, ни прокурору. Никому…
Редко. Очень редко кому везёт в этой игре, которая стоит свеч, имея в виду всё то же задержанное лицо. Фактически задержанное! Без оного юридического статуса!
А истинный юридический статус у этого лица на данный момент: "подозреваемое".
Затем его из полицейского участка (читай: отдела уголовного розыска) под негласной охраной препровождают в следственный орган. Тем временем следователь шустренько печатает постановление о задержании подозреваемого лица. Ну, или до этого. Или после. По ситуации. А также выносит постановление о возбуждении уголовного дела, если оно ещё ранее не было возбуждено. Там своя процессуальная кухня. Это не столь принципиально. Главное, что в этих бумагах отражается юридический статус. После подписания подозреваемым лицом постановления о задержании, оно уже будет в статусе задержанного.
И вот теперь, если есть цель человека посадить, то всё. Как говорится, твой дом – тюрьма! Задержанный уже под официальной охраной-конвоем водворяется в свой первый "казённый дом" – изолятор временного содержания (ИВС).
В советское время такие изоляторы называли – КПЗ (камеры предварительного заключения). До последнего времени они представляли собой маленькие, допотопные, убогие и грязные “тюремки” со всеми классическими тюремными атрибутами, вплоть до параши в углу. Спартанские условия: прибитые к полу нары или койки (шконки), столы (общаки), лавки у стола, решётки (решки) на окнах и железные двери (тормоза) с "глазком" (волчком) для надзирания.



