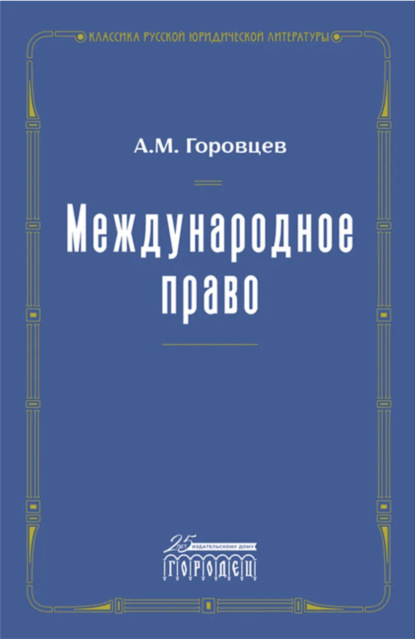
Полная версия:
Международное право
Zweites Kapitel. Die Interdiction des Seeraubs
Ss. 571–582. §§ 107–112
Вторая глава рассматриваемой части, посвященная вопросу о пиратстве, заключает в себе наряду с определением этого явления (§ 107) и выяснением противности его интересам всего международного общения, также (§ 108) и изложение общих оснований борьбы с пиратами – hostes generis humani (§ 109), в силу коих за купеческими судами признается по отношению к ним право самообороны, с последующей затем передачей пиратов органам государственной власти, за судами же военными – право активной борьбы с пиратами, с надлежащей ответственностью за возможные злоупотребления. Что касается наказания за пиратство (§ 110), то в этом отношении автор высказывается за компетенцию национального суда пирата, считая неправильным применение в данном случае порядка призового судопроизводства. Суда же, захваченные пиратами, должны быть возвращаемы их законным собственникам (§ 111), в силу общего принципа pirata non mutat dominium. К пиратству, как к явлению преступного характера, приравнивается также (§ 112) и каперство в пользу нескольких различных государств, негроторговля, незаконное ношение флага, а также и (по практике С. Штатов) всякое совершенное в открытом море преступление, за которое в случае совершения его на суше полагается смертная казнь.
VIERZEHNTES STÜCK. STAATSUNTERTHANEN UND FREMDE
VOR DR. FELIX STOERK. PROF. IN GREIFSWALD. SEITE 583–655. §§ 113–122
Последнюю часть второго тома рассматриваемого труда составляет четырнадцатый его раздел, имеющий своим содержанием учение о государственных подданных и об иностранцах (Staatsunterthanen und Fremde), в изложении проф. Штерка. Этот раздел, в свою очередь, состоит также из двух особых глав, посвященных: первая – вопросу о правовых основаниях положения личности в области междугосударственных отношений (Die rechtlichen Grundlagen für die Stellung des Individuums innerhalb der Staatengesellschaft) и вторая – об основных формах международного общения отдельных личностей (Die Grundformen des völkerrechtlichen Verkehrs der Personen).
Erstes Kapitel. Die rechtlichen Grundlagen für die Stellung des Individuums innerhalb der Staatengesellschaft
Ss. 585–591. §§ 113, 114
По первому вопросу автор заявляете себя (§ 113) всецело сторонником того направления, которое признает субъектами международного общения исключительно государства, а никак не отдельные личности и, с этой точки зрения, отвергает допускаемое проф. Мартенсом разделение международных прав на те, которые принадлежат человеку, вытекая из человеческой личности, взятой самой по себе, и те, которыми он пользуется в качестве подданного известного государства. Принадлежность к определенному подданству, устанавливает проф. Штерк (§ 114), образует собой тот переходный пункт, через который должна пройти личность для того, чтобы ее можно было рассматривать – с международной точки зрения – в качестве лица, участвующего в международно-правовом общении, имеющего «международно-правовой индигенат».
Zweites Kapitel. Die Grundformen des völkerrechtlichen Verkehrs der Personen. Ss. 592–671. §§ 115–122
Во второй главе автор рассматривает вопрос о подданстве с точки зрения международного права, об его приобретении и утрате, а также изучает в отдельности правовое положение подданных по отношению к своему отечеству, во время нахождения их за границей, правовое положение иностранцев по отношению к государству, где они пребывают, и, наконец, случаи ненормального положения некоторых личностей в области международного общения, в частности, институт экстерриториальности. По первому из приведенных четырех вопросов проф. Штерк, после общих замечаний о значении института подданства (§ 115), как определяющего собой весь status лица, останавливается с особым вниманием на вопросе о перемене подданства, а именно на эмиграции и на принятии нового подданства. Относительно первой автор дает (§ 116) прежде всего краткий исторический очерк ее развития, указывая главным образом на то, как повлияла, договорная теория о государстве на постепенное смягчение прежних принципов о неизменности подданства, а затем излагает господствующие ныне основные начала этого вопроса, заключающиеся в признании, в принципе, свободы перемены подданства на известных основаниях, устанавливаемых каждым государством самостоятельно, но в согласии с общими международно-правовыми принципами в том смысле, что приобретение нового подданства возможно не иначе, как с утратой прежнего, что никто не может не принадлежать ни к какому подданству, равно как и никто не должен считаться подданным двух различных государств. Помимо общего порядка добровольного оставления подданства, автор указывает также и на возможные способы недобровольной его утраты (вследствие перемены в семейном положении – брак, узаконение и т. п.; в качестве наказания – за вступление, без разрешения отечественной власти, на иностранную службу и т. д.; на основании законных последствий правопорядка международного общения – приобретение нового подданства, пребывание вне пределов отечества свыше известного срока и т. п.; и наконец, вследствие присоединения данной территории к другому государству).
Что касается принятия в новое подданство, то изложение этого предмета (§ 117), после кратких исторических замечаний о развитии также и настоящего института лишь в новейшее время, разделено автором на отдельные вопросы, касающиеся: 1) способов приобретения подданства, 2) его условий, 3) форм и 4) правовых последствий. Способы приобретения подданства автор делит на деривативные (jure originis или sanguinis, посредством узаконения и, для женщины, брака) – и оригинарные: 1) принятие в подданство, могущее быть для государства принимающего факультативным или обязательным (последнее – при существовании определенных в законе условий, при которых принятие в подданство, напр., третьего поколения иностранцев, проживающих на государственной территории и т. п., совершается как бы ipso jure); 2) принятие на государственную службу; 3) возобновление прежнего подданства при возвращении эмигранта на родину; 4) переход территории под новую иностранную власть; по поводу последнего способа изменения подданства, автор излагает свои взгляды на сравнительную ценность институтов optio и плебисцита, в смысле отрицания последнего, нашедшие себе более подробное развитие в его известной отдельной монографии – «Option und Plebiscit». В числе условий, необходимых для приобретения нового подданства, проф. Штерк различает условия личные (дееспособность, известная экономическая самостоятельность, нравственный образ жизни), пребывание в течение известного срока на территории нового отечества, выполнение обязанностей по отношению к прежнему отечеству (по некоторым законодательствам, получение от него разрешения на выход из подданства, исполнение воинской повинности и т. д.) и, наконец, выполнение известных формальных условий, напр., принятие присяги. Относительно порядка натурализации автор указывает на то, что в некоторых странах (Германия, Австрия, Англия, Франция, Португалия, Россия и др.) она входит в компетенцию власти законодательной, в других же (Бельгия, Голландия и Румыния) – власти исполнительной, и наконец, в некоторых странах (Италия, Греция, Испания) принята система смешанная. Что касается правовых последствий натурализации, то в этом отношении автор отмечает, что в некоторых государствах (в Англии, Бельгии, Италии, Дании и Испании) она не сразу, а лишь в известной постепенности дает натурализованному все права коренных жителей и даже разделяется иногда в зависимости от этого на особые виды (малая и большая натурализация в Бельгии и Италии). Разлагая понятие натурализации на четыре отдельных момента: выселение, утрата прежнего подданства, переселение на новую территорию и принятие подданства нового, автор настаивает на том (§ 118), что только совокупностью всех этих четырех моментов создается международно-правовой факт натурализации, а не отдельными частичными их комбинациями, которые им также рассматриваются. В заключение, констатируя неизбежность коллизий между законодательствами отдельных государств по вопросу о натурализации, проф. Штерк находит, что в подобных случаях, с международно-правовой точки зрения, решающее значение должно быть признаваемо за законодательством прежнего отечества.
Обращаясь, согласно намеченному плану, после учения о натурализации, к вопросу о соотношении властей территориальной и отечественной и, в частности, сперва о правовом положении по отношению к своей государственной власти подданных ее, пребывающих за границей (§ 119), автор, установив общий принцип в смысле признания в этих условиях преимущественного перед личным значения территориального начала, указывает на те главнейшие обязанности, которые однако остаются как у подданных по отношению к их отечеству (отбывание воинской повинности, несение некоторых налогов, напр., вычет из пенсии, уплата налога в пользу бедных и т. п., необходимость разрешения государства-отечества для принятия иностранных должностей, знаков отличия и т. д.), так и со стороны отечества по отношению к его подданным (обязанность обратного приема на жительство, обязанность общего покровительства и защиты – в случае, если им отказывает в этом власть территориальная). Переходя затем к вопросу о правовом положении иностранцев по отношению к территориальной власти государства, где они находятся (§ 120), автор после некоторых замечаний общего и исторического характера останавливается на вопросах о допущении иностранцев в страну, о характере принадлежащих им прав и о прекращении отношений между иностранцами и территориальной властью. По первому вопросу устанавливается общее правило допущения иностранцев, с сохранением за государством права воспрещения доступа на свою территорию отдельным лицам, а также и права установления условий доступа, на практике однако осуществимого лишь со всей возможной осторожностью. Относительно характера прав, принадлежащих иностранцам, признается полное уравнение их с туземцами в отношении уголовного права и, наоборот, обособленность в отношении права государственного; что касается области права гражданского, то этот вопрос регулируется обыкновенно международными договорами на началах равенства иностранцев, при условии взаимности, с туземными подданными; иностранцы во всяком случае должны нести все государственные повинности, кроме имеющих политический характер, как, напр., воинская, и подчиняться всем требованиям территориального правового порядка. Прекращение отношений между территориальной властью и иностранцами совершается при удалении последних, или добровольном, или принудительном – путем выдачи или же выселения, которое регулируется теми же началами, что и недопущение иностранцев на государственную территорию.
В дальнейших рассуждениях, касающихся ненормальных личных правоотношений в пределах международного общения (§ 121), к числу которых автор относит отсутствие подданства, двойное подданство, оказание, в противоположность общему правилу, покровительства данному лицу со стороны чуждого ему государства, против отечественного (в виде постановлений договоров о выдаче относительно судимости выдаваемых лишь в пределах, устанавливаемых договорами) и, наконец, институт экстерриториальности. Наиболее подробно изложено учение об этом последнем институте (§ 122), в отношении которого Штерк отрицает теорию Цорна о том, будто бы особенность положения экстерриториальных заключается не в освобождении их от подчинения местному правовому порядку, а только в отсутствии у территориальной власти возможности собственными средствами принуждать их к выполнению требований этого порядка. К числу пользующихся экстерриториальностью проф. Штерк, помимо монархов, дипломатов и иностранных войск, относит также и вообще агентов иностранного правительства, находящихся при исполнении своих обязанностей и, в частности, агентов пограничной службы при частых переходах их, по делам службы, через границу. Кроме того, проф. Штерк указывает еще на особое явление из рассматриваемой области, заключающееся в признании некоторыми государствами изъятия из-под иностранной юрисдикции подвижного состава железных дорог, в видах обеспечения интересов правильного железнодорожного сообщения.
DRITTER BAND. DIE STAATSVERTRÄGE
UND INTERNATIONALEN MAGISTRATUREN
Третий том рассматриваемого труда – «Государственные договоры и органы международной магистратуры» – заключает в себе десять отдельных очерков, составляющих части XV–XXIV всего Handbuchʼа. XV часть, принадлежащая перу Гесснера, посвящена общему учению о договорах (Die Staatsverträge im Allgemeinen). XVI и XVII части, автором которых является Геффкен, имеют своим содержанием: первая – учение о договорах о гарантии (Garantieverträge) и вторая – о договорах союзных (Bündnissverträge). XVIII часть заключает в себе учение о договорах о торговле и мореплавании (Handels-und Schifffahrtsverträge), в изложении Мелле. XIX часть представляет собой монографию Мейли о железнодорожных договорах (Eisenbahnverträge), а ХХ – очерк Дамбаха о договорах почтовых и телеграфных (Die Postverträge und Telegraphenverträge). Далее следует обширная монография Ламмаша, в виде XXI части Handbuchʼa, о договорах, касающихся правопомощи и выдачи (Staatsverträge betreffend Rechtshilfe und Auslieferung). XXII часть, посвященная учению о договорах по авторскому праву, по охране промышленной и патентной собственности (Die Staatsverträge über Urheberrecht, Musterschutz, Markenschutz und Patentrecht), в кратком изложении Дамбаха, заканчивает собой учение о договорах. Последние две части третьего тома заключают в себе: XXIII – учение о посольском праве и о формах дипломатического общения (Das Gesandschaftsrecht und die diplomatischen Verkehrsformen), в изложении Геффкена, и XXIV – очерк консульского права (Konsularrecht), принадлежащий перу Бульмеринка.
FÜNFZEHNTES STÜCK. DIE STAATSVERTRÄGE IM ALLGEMEINEN
VON LEGATIONSRAT DR. GESSNER. SEITE 1–82. §§ 1–24
Erstes Kapitel. Historische Uebersicht der Staatsverträge seit 1648
Ss. 5–14. §§ 1–4
Пятнадцатая часть, посвященная общему учению о договорах, начинается изложением (в главе первой) очерка исторического развития важнейших общемеждународных договоров, начиная с Вестфальского (§§ 1–3) – главным образом, с точки зрения их значения для Германии, а затем научной разработки учения о государственных договорах (§ 4), как предшественниками Гроция, рассматривавшими в большинстве, кроме впрочем Гентилиса, вопрос этот почти исключительно в связи с правом войны, так и самим Гроцием и Пуффендорфом, полагавшими в основание договорного учения лишь общие нормы естественного и римского права, и, в особенности, Бинкерсгуком, который первый определил своеобразный характер государственных договоров словами: pacta privatorum tuetur jus civile, pacta principum bona fides. Отметив затем, исключительную важность государственных договоров, справедливо уподобляемых Филлимором, по их значению, основным государственным законам, и сославшись на рассуждения Еллинека относительно правовой природы международных договоров, автор обращается к рассмотрению (в главе второй) вопроса о международном возникновении и о цели договоров.
Zweites Kapitel. Ueber die völkerrechtliche Entstehung und den Zweck der Staatsverträge. Ss. 14–29. §§ 5–9
Указав, что право заключения договоров принадлежит исключительно суверенным государствам (§ 5), Гесснер останавливается более подробно на вопросе о ратификации договоров (§ 6), приводя по этому поводу мнения выдающихся авторитетов, в большинстве отрицавших безусловную необходимость ратификации до Георга Мартенса, после которого она нашла себе всеобщее признание. По вопросу о моменте начала действия договора в связи с его ратификацией автор считает не оправдываемым практикой взгляд Ф.Ф. Мартенса, будто бы начальным сроком действия является момент ратификации, а не самого заключения договора. Переходя далее к вопросу о форме и о видах договоров (§ 7), Гесснер приводит по этому поводу различные классификации договоров, сделанные выдающимися авторитетами (Гроцием, Ваттелем, Г. Мартенсом, Геффтером, Ф.Ф. Мартенсом), а затем, указав тут же на различные способы обеспечения исполнения договоров, останавливается, в частности, на договорах о гарантии, отмечая, что при них важнейшее значение принадлежит общемеждународным интересам, а не интересу охраны лишь гарантируемого государства. При этом по вопросу о гарантии постоянного нейтралитета автор указывает на неправильность образа действий Англии, выразившуюся в заявлении по поводу Люксембурга, что договор о гарантии может принуждать к коллективному лишь действию всех гарантов, а не каждого гаранта в отдельности, а также и в признании необходимости подтверждения в 1870 году основного договора о нейтралитете Бельгии. Упомянув затем о договорах аналогичных с международными (§ 8) (Uneigentliche Staatsverträge), в частности о конкордатах, история которых приводится довольно подробно, о договорах династического характера и значения, о договорах между государствами и частными лицами, передающими государственной власти основанные ими колонии, автор рассматривает в отдельности договоры военного времени (§ 9), отдавая особое внимание так называемым contrats de rachat (практиковавшиеся в прежнее время договоры об откупе, за известное вознаграждение, кораблей от захвата).
Drittes Kapitel. Die internationalen Verträge und das Staatsrecht
Ss. 29–62. §§ 10–20
Обращаясь к рассмотрению (в главе третьей) вопроса о соотношении между международными договорами и государственным правом, автор, приведя в общих и исторических замечаниях (§ 10) взгляды авторитетов, начиная от Аристотеля и кончая Монтескье, относительно разделения властей, указывает, что до последнего времени органами заключения договоров были исключительно главы государств уже в силу того, что договоры касались почти исключительно области войны и мира, принадлежащей всецело компетенции исполнительной власти. Однако, по мере распространения договоров на другие области и в связи с постепенным ограничением абсолютной власти (§ 11), уже и у старинных авторов, как Мозер, Ваттель, встречаются указания на необходимость для главы государства считаться, при заключении договоров, с парламентами, и это приводит в конце концов, к сознанию необходимости, с точки зрения международной, знакомства с конституционным правом государства, с которым договор заключается, в силу общего принципа, выраженного Ульпианом: «qui cum alio contrahit vel est vel debet esse non ignarus conditionis eius». Разбирая взгляды по настоящему вопросу Мейера, автора специального труда: «Ueber den Abschluss von Staatsverträgen», Гесснер устанавливает, что во всяком случае, собственно с точки зрения международного права, глава государства является сам по себе вполне законным органом заключения договоров. Однако договор, не одобренный затем народным представительством, недействителен как для внутреннего государственного права, так и для международного, в силу указанного выше принципа о том, что один контрагент должен был знать внутреннегосударственные нормы относительно управомоченности другого, прежде чем вступать с ним в переговоры. Мейер различает поэтому собственно заключение договора и правовое его действие: заключение договора является прерогативой исключительно монарха, но неодобрение его народным представительством может вызвать серьезные политические затруднения, для предупреждения которых Мейер и считает предпочтительным участие палат в заключении договора. Гесснер, однако, не разделяет последнего взгляда, даже и с политической точки зрения, находя небезопасным участие в заключении договора палат, которое, по его мнению, при напряженности страстей, господствующих в некоторых парламентах, может вести лишь к вящим затруднениям.
Переходя к изложению порядка заключения договоров в отдельных, государствах, автор доказывает прежде всего относительно Германии (§ 12), что право заключения договоров принадлежит в этой стране всецело Императору, за исключением лишь тех, упомянутых в ст. 4 конституции договоров, касающихся области Имперского законодательства, по отношению к которым требуются, для их «заключения», согласие Союзного Совета и, для «действительности», принятие их Рейхстагом (вопросы подданства и водворения, полиции иностранцев, таможенного и торгового законодательств, охраны литературной собственности, покровительствования германской торговле и германскому флагу, общие положения относительно обязательственного, торгового и вексельного, уголовного и процессуального права и т. п.), а также и вопросов, касающихся изменения государственной территории. Рассматривая далее, в отдельности, постановления законодательств различных немецких государств по настоящему вопросу (§ 13), Гесснер, в частности, относительно Пруссии также доказывает, что для договоров торговых или вообще налагающих на государство тяготы, по которым требуется согласие палат, это последнее нисколько не должно обязательно предшествовать самой ратификации договора. При рассмотрении законодательств отдельных государств Германского Союза, автор обращает особое внимание на то, что ведению последних никоим образом не может подлежать заключение вышеуказанных договоров, касающихся предметов 4-й статьи конституции, кроме впрочем Баварии, за которой сохранено право самостоятельного заключения договоров относительно подданства и водворения, а также и урегулирования путей сообщения, но не почтовых и телеграфных конвенций. Относительно Англии (§ 14) Гесснер также устанавливает полноту прав Короны в вопросе о заключении договоров, причем только для тех из них, которые связаны с изменением в законодательстве или с ассигнованием денежных средств, требуется одобрение парламента, даваемое, как то отмечено Мейером, или в виде парламентских актов, при необходимости изменений в законодательстве, или законов исполнительных, придающих договорам непосредственно законодательную силу, или же законов разрешительных, уполномочивающих Корону раз навсегда к заключению договоров известной категории. По поводу английского законодательства автор полемизирует, между прочим, против выражения Моля, «министерство в Англии есть, в сущности, не что иное, как комиссия из обеих палат», доказывая, в особенности, относительно внешних сношений, что прерогативы Короны на самом деле сохраняются в Англии в полной неприкосновенности. Что касается С. Штатов (§ 15), то отметив, что в них право заключения договоров принадлежит исключительно Президенту, с согласия не менее 2/3 Сената, Гесснер доказывает историческими примерами и ссылкой на авторитет Кента, что народное представительство в Америке не принимает в заключении договоров никакого участия. Относительно Франции (§ 16) автор излагает сначала старинное французское право, по которому действительно требовалось для заключения договоров согласие Генеральных Штатов, а затем указывает, что в силу действующей конституции право заключения и ратификации договоров принадлежит всецело Президенту Республики; договоры мирные, торговые, касающиеся финансов страны, вопросов личного состояния и прав собственности французов за границей приобретают окончательную силу лишь по вотировании их обеими палатами; никакое изменение территории не может последовать также иначе, как в силу закона. Подобный же порядок существует и в Бельгии (§ 17), и только в Нидерландах и в Испании согласие палат по некоторым категориям договоров должно предшествовать ратификации последних. В Италии (§ 18) существует также порядок, аналогичный с французским; в Швейцарии же (§ 19) право ратификации принадлежит вообще относительно договоров союзной компетенции, т. е. важнейших, непосредственно народному представительству – национальному совету и Ständerathʼу. В заключение, относительно опубликования договоров, автор указывает (§ 20), что последнее совершается обыкновенно в виде актов, непосредственно исходящих от Верховной власти, за исключением тех случаев, когда одобрение палат имеет первостепенное значение и опубликование договоров совершается на общих со всеми законодательными актами основаниях.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Договор этот заключен был в 1887 году, уже после выхода в свет рассматриваемого труда.
2

