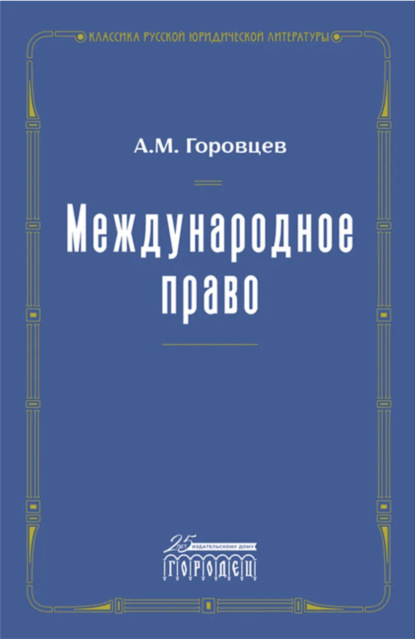
Полная версия:
Международное право
Построенное на указанных началах, учение это заключает в себе очерк устройства государств на основах общепризнаваемого деления их на простые (§ 29), соединенные в унию – личную и реальную, и федеративные – союз государств и союзное государство. Относительно личной унии (§ 30) автор особо отмечает, что международно-договорное право государств, составляющих унию, может, но не должно быть различным, а по вопросу о возможности войны между такими государствами находит, что ее нельзя считать исключенной. Определяя реальную унию (§ 31) как международно-правовую единицу, составленную из двух самостоятельных в государственно-правовом отношении территорий, автор допускает однако возможность уклонения от вытекающих из такого определения положений (в смысле приравнения реальной унии к простому государству) в том случае, если, как, напр. в отношении Польши начала унии покоятся на международных договорах общеевропейского характера, и признает поэтому основательность протестов держав против изменения Россией конституции Польши после восстания 1830 года. Что касается Финляндии, то ее проф. Гольцендорф считает, по праву завоевания, вполне инкорпорированной частью России. Из федеративных государств автор излагает сначала учение о союзе государств (§ 32), доказывая на примере Германского Союза 1815 года непрочность подобной организации без объединяющих ее органов, а затем о союзном государстве (§ 33) как о международно-правовой единоличности, примерами которой являются С. Штаты, Аргентина, Мексика, Колумбия, Венесуэла и Швейцария.
В заключение рассматриваемой части проф. Гольцендорф останавливается на анализе организации современного строя Германии (§ 34), обращая внимание на то, что его нельзя ни подвести под понятие союза государств, ни отнести к категории государств союзных, так как если в государственно-правовом отношении этот строй скорее подходит к последнему типу, то в отношении международно-правовом его, наоборот, можно скорее приравнять к понятию союза государств ввиду в особенности, сохраненных за некоторыми германскими государствами прав самостоятельного представительства за границей, а также и заключения договоров неполитического свойства, по крайней мере, в той степени, в какой вопросы, составляющее предмет этих договоров, не отнесены специально к области общеимперской компетенции.
ACHTES STÜCK. DIE VÖLKERRECHTLICHE STELLUNG DES PAPSTES
VON GEH. RATH PROF. DR. GEFFCKEN. SEITE 151–222. §§ 35–44
Восьмая часть рассматриваемого труда представляет собой, как указано выше, отдельную монографию проф. Геффкена о международно-правовом положении Папства.
Erster Abschnitt. Die souveräne Stellung des Papstes
Ss. 153–206. §§ 35–42
В первом отделе, посвященном вопросу о суверенном положении Папы, автор наряду с историческим очерком Папства (§§ 35–38) развития его светской власти и постепенного ее падения, дает главным образом картину современного международно-правового положения Римской Курии на основах итальянского закона о гарантиях и признания последнего другими государствами.
История происхождения этого закона в качестве одностороннего государственного акта, изданного после безуспешных попыток итальянского правительства достигнуть непосредственного соглашения со Св. Престолом, является как бы соединительным звеном между двумя указанными частями монографии, заключая в себе (§ 39) также и подробный очерк тогдашних международных отношений на почве рассматриваемого вопроса. При этом автор, не отрицая, что выработка общемеждународного соглашения для определения положения Папства, в принципе, достигала бы лучше цели, чем урегулирование его путем самостоятельного акта законодательства Италии, отмечает, что указанное разрешение вопроса встречало наименее сочувствия, прежде всего, со стороны самой же Курии, не желавшей допустить самую возможность формального общемеждународного санкционирования вновь установившегося его положения. С другой стороны, проф. Геффкен, находя, что закон о гарантиях, путем признания его другими государствами, приобрел в этом смысле международное значение, совершенно отвергает (§ 40) мысль Блюнчли о том, чтобы основные начала положения Римского Первосвященника выработаны были ныне путем соглашения между всеми или важнейшими христианскими государствами, и чтобы признание их совершалось каждым Папой, при избрании его на Св. Престол. Называя эту мысль практически невыполнимой, автор указывает, что, помимо этого, на осуществление ее никогда не согласилась бы и не могла бы согласиться Италия, за которою во всяком случае нельзя отрицать в данном вопросе преимущественных интересов, хотя бы уже в отношении территориальном. Только при том условии, прибавляет автор, если бы резиденцией Папы перестал быть Рим, возможно было бы допустить мысль об отмене закона о гарантиях, который впрочем в этом случае сам собою утратил бы свое значение.
Приводя главнейшие постановления закона о гарантиях – неприкосновенность и экстерриториальность Папы и Конклавов, а также и находящихся в Риме органов духовной власти, установление дотации в пользу Папы, признание за ним права как активного, так равно и пассивного посольства, – проф. Геффкен вместе с тем категорически отрицает возможность признания за Папой качества суверена – прежде всего, потому, что для понятая суверенной власти нет в данном случае налицо одного из необходимых его ингредиентов, а именно территории.
Останавливаясь далее на вопросе о том, в какой мере требования закона о гарантиях соблюдаются, с одной стороны, Св. Престолом, а с другой – итальянским правительством, проф. Геффкен находит (§ 41), что Римская Курия, хотя и не упуская никакого случая для заявления своего протеста против этого закона, фактически однако вполне признает его; что же касается итальянского правительства, то, по мнению Геффкена, оно неоднократно уклонялось от исполнения этого закона и прямо нарушало его, напр., в отношении недостаточного ограждения личности Папы от оскорблений радикальной печати, крайне слабой репрессии за демонстрации, которыми сопровождалось погребение Пия IX, неправильного принятия римскими судами иска, обращенного к дворцовому управлению Папы, незаконной конверсии имуществ конгрегации De Propaganda и т. п. По поводу этого образа действий итальянского правительства проф. Геффкен высказывает, что несмотря на то, что другие государства воздерживались в указанных случаях от вмешательства, было бы однако ошибкой со стороны итальянского правительства заключать из их молчания об одобрении ими его действий или думать, что утверждением Манчини, будто бы вопрос о положении в Риме Папы принадлежит исключительно компетенции Италии, сказано последнее слово. Наоборот, заключает Геффкен, хотя по внешней своей форме закон о гарантиях и представляет собою односторонний акт итальянского законодательства, но, по существу своему, он есть вместе с тем обязательство, принятое на себя итальянским правительством по отношению ко всем католическим государствам. Автор убежденно настаивает на необходимости точного его выполнения обеими сторонами (§ 42), не видя возможности разрешить как-нибудь иначе вопрос о положении Папы в Риме, навсегда потерянном для него в его теперешнем качестве столицы итальянского королевства, но вместе с тем сохранившем для Курии слишком много исторического значения, чтобы она могла решиться на перенесение в другое государство своей резиденции, которое к тому же едва ли могло бы повести к изменению положения Папства в желательном для него направлении.
Zweiter Abschnitt. Die geistlichen Regierungsrechte des Papstes
in fremden Staaten. Ss. 207–222. §§ 43–75
Второй отдел монографии, посвященный вопросу о духовных державных правах Папы в чужих государствах, заключает в себе, помимо общего исторического очерка развития этих прав (§ 43), – изобилующего цитатами из папских булл, в которых выражается принцип всемирного верховенства Пап, – специальный очерк происхождения конкордатов и юридического их значения (§ 44). Отрицая международно-правовой характер этих актов, ввиду отсутствия у Папства значения международно-правовой личности, проф. Геффкен признает их за особый род публично-правовых договоров, к которым только до известной степени применимы юридические свойства и эффект международных актов, так как их правовое значение и действие относятся скорее к области церковного, а не международного права.
В заключение проф. Геффкен выражает сомнение в целесообразности признания за Св. Престолом права посольства, доказывая на различных примерах бесполезность содержания при Папе иностранных агентов в качестве именно дипломатических, а также и в особенности вред, причиняемый нередко деятельностью Папских агентов, при их непосредственном вмешательстве в область государственного управления.
NEUNTES STÜCK. DAS LANDGEBIET DER STAATEN
VON PROF. DR. FRANZ VON HOLTZENDORFF. SEITE 223–276. §§ 45–59
Девятая часть – «О территории государств» – разделена автором ее, проф. Гольцендорфом, на три отдельные главы, посвященные: первая – вопросу о международно-правовом характере государственной территории (Der Völkerrechtscharakter des Staatsgebietes), вторая – об объеме и о содержании территориального права (Umfang und Inhalt des Gebietsrechts) и третья – о приобретении и об утрате государственной территории (Erwerb und Verlust des Staatsgebietes).
Erstes Kapitel. Der Vörlkerrechtscharacter des Staatsgebietes
Ss. 225–238. §§ 45–48
В первой из указанных глав автор после общих замечаний (§ 45) о взаимоотношениях личного и территориального начал подчинения личности государственной власти (в которых между прочим заключается указание на неправильность конструкции экстерриториальности, как фикции непребывания на данной территории, тогда как в действительности сущность этого института заключается в признании господства личного начала), дает, прежде всего (§ 46), группировку типов территории с точки зрения современных международно-правовых отношений: 1) общемеждународно-правовая территория – открытое море; 2) закрытая сухопутная территория отдельных государств; 3) сухопутные открытые территории (пустыни, полярные страны и т. п.); 4) пресноводные территории; 5) территории смешанного характера, напр., так называемые территориальные воды. Останавливаясь на вопросе о территориях сухопутных, автор касается между прочим также и вопроса о том, какое разрешение должен получить в связи с вероятным развитием воздухоплавательного искусства, вопрос о «территориальном воздухе», и считает наиболее правильным применить в данном случае аналогию с территориальным морем с тем лишь различием, что по отношению к воздуху границы территориальности должны определяться дальностью ружейного, а не пушечного выстрела, которому технически не может быть дано вертикального направления. Переходя затем к вопросу о государственных границах (§ 47), автор выясняет их общее значение и приводит деление их на естественные и искусственные (по большей части, договорного происхождения), а этих последних – на видимые, т. е. определенные известными знаками, и невидимо интеллектуальные, т. е. определяемые известными математическими расчетами.
Отмечая особую важность точного определения границ и предупреждения споров о них, проф. Гольцендорф высказывается даже (§ 48) за учреждение для последней цели специального авторитетного международного органа.
Zweites Kapitel. Umfang und Inhalt des Gebietsrechts
Ss. 239–251. §§ 49–52
Обращаясь во второй главе к вопросу об объеме и содержании права территориальности, проф. Гольцендорф, выяснив (§§ 49 и 50) основной характер этого права, в качестве imperium по отношению к самой территории и ко всему, что находится в ее пределах, указывает также (§ 51) и на ограничения его, – как вытекающие из самого существа международного общения (напр., отсутствие в мирное время права зажигать ложные маяки и т. п.), так и основанные на специальных договорах, поскольку они имеют временный и местный характер, совместимый с суверенитетом государства, которому принадлежит данная территория (напр., военная оккупация, выплата известной земельной ренты, залог части территории, установление сервитутов). Автор останавливается, в частности, на вопросе о международных сервитутах (§ 52), указывая на ближайшее их сходство с провальными сервитутами гражданского права и на титулы их происхождения (в силу двустороннего договора; на основании общемеждународного акта, напр., по отношению к Балканским государствам; вследствие молчаливого, долговременного их признания со стороны territorium serviens и, наконец, в силу односторонней уступки с его стороны) и перечисляя следующие главнейшие виды сервитутов: военные – напр., право прохода войск или занятия некоторых крепостей, как сервитут положительного характера, или ограничение права укрепления некоторых пунктов, как сервитут отрицательный: в области путей сообщения, – напр., проведение железных дорог и телеграфных линий или сооружение каналов; экономические – напр., право рыбной ловли, пастбищ, проведения воды; и сервитуты смешанного характера, напр., право содержания угольных станций.
Drittes Kapitel. Erwerb und Verlust des Staatsgebietes
Ss. 252–276. §§ 53–59
Третья глава, посвященная вопросу о приобретении и об утрате государственной территории, заключает в себе наряду с общими положениями по этому вопросу (§ 53) подробное рассмотрение способов изменения пределов государственной территории. Исключая из числа способов ее приобретения давность ввиду невозможности установления определенного ее срока и разделяя эти способы на ординарные или односторонние (оккупация и акцессия) и деривативные или многосторонние (уступка территории), автор останавливается прежде всего с особым вниманием на оккупации. Сначала он указывает на общие ее основания (§ 54) – применение ее лишь к территориям бесхозяйным, хотя бы и населенным дикими племенами, необходимость наличия воли оккупанта приобрести постоянное территориальное верховенство, возможность оккупации только для государств, пользующихся признанием, необходимость установления на оккупируемой территории органов правительственной власти, а также и вполне явного, открытого и действительного вступления в обладание оккупируемой территорией. Переходя, далее, к рассмотрению отдельных спорных вопросов колониального оккупационного права (§ 55), автор разрешает их, отвергая основательность господствовавшего в прежнее время droit de découverte, устанавливая в отношении пределов оккупируемой территории, что они должны находиться в соответствии с имеющимися налицо в данном месте в мирное время средствами осуществления действительного верховенства, и выясняя, по поводу развившегося за последнее время своеобразного явления, установления как бы частных колоний под покровительством какого-либо государства, невозможность во всяком случае делегирования со стороны последнего частным лицам и обществам, учреждающим такие колонии, права ведения войны. Указав в заключение, что часть спорных вопросов из этой области разрешена Берлинским актом 1885 года, автор выражает сожаление по поводу того, что действие постановлений этого акта ограничено применением их к одной лишь Африке.
Упомянув затем по вопросу об акцессии (§ 56) об общепризнаваемых ее видах (alluvio, alveus derelictus и insula in flumine nata), автор переходит к учению об уступке территории, сначала приводя общие положения относительно правового характера цессии (§ 57), среди которых заключается, между прочим, признание несостоятельности плебисцита, а далее рассматривая сущность акта уступки и правовые его последствия (§ 58), заключающиеся в переходе на цессионарие публичных прав и обязанностей цедента.
Последний, рассматриваемый автором в настоящей части, вопрос касается преимущественно утраты государственного верховенства (§ 59) по причинам одностороннего характера (в том смысле, что утрачиваемая территория не переходит к какому-либо другому государству – случаи физического уничтожения, avulsio, derelictio).
ZEHNTES STÜCK. DAS STROMGEBIETSRECHT UND DIE INTERNATIONALE FLUSSSCHIFFFAHRT. VON DR. E. CARATHEODORY, KAISERL. OTTOM. BEVOLLM. MINISFER IN BRUSSEL. SEITE 277–406. §§ 60–82
За приведенным учением о государственной территории вообще, и, в частности, о сухопутной, следует изложение речного права, выделенное в самостоятельную, VI часть всего рассматриваемого труда, которую представляет собой классическая по настоящему вопросу монография Каратеодори. Работа эта состоит из четырех отдельных глав, заключающих в себе: первая – исторический очерк речного права (Historische Uebersicht und Entwickelung), вторая – изложение господствующих ныне общих начал международного речного права (Die gegenwärtig geltenden allgemeinen Grundsätze des internationalen Stromrechts), третья – международное речное законодательство в частности (Die internationale Stromgesetzgebung im Einzelnen), и четвертая – учение о внутренних морях, международных озерах и каналах (Die Binnenemere, die internationalen Seen und Kanäle).
Erstes Kapitel. Historische Uebersicht und Entwickelung
Ss. 279–301. §§ 60–65
Во введении к первой главе автор, указывая (§ 60) на сравнительно недавнее начало развитая речного права (со времени происходивших в 1785 году переговоров о свободе плавания по Шельде между Императором Иосифом II и Нидерландами), и находя, что развитие это еще и в настоящее время оставляет желать многого, высказывает вместе с тем уверенность в том, что дальнейший правильный его ход предопределен естественным международным правом; доказательство этого он видит хотя бы в признании Берлинским актом 1885 года тех наиболее совершенных в этом направлении начал, применение которых желательно было бы по отношению ко всем вообще рекам, по аналогии с открытым морем, так как, подобно последнему, и реки также – les chemins qui marchent, по выражению Паскаля – естественно предназначены служить путями и средствами международного общения. Постановления Венского акта представляются в данном случае, по мнению автора, только минимумом тех начал речного права, развитие которых есть лишь вопрос времени. В историческом развитии речного права Каратеодори различает прежде всего римский период (§ 61), отмечая весьма либеральный его характер в смысле признания рек за res publica, затем период Средних веков (§ 62), когда эти начала римского права постепенно вытиснились представлением о правах на реки, как о привилегиях, принадлежащих королям и феодалам, сопряженных со взиманием высоких пошлин за судоходство; далее следует период от Вестфальского мира до Французской революции (§ 63), в течение которого нашли себе лишь формальное признание (в силу § IX Мюнстерского и § LXXXV Оснабрюкского договоров) некоторые общие начала свободы судоходства, с другой же стороны, одновременно с названными трактатами, по договору между Нидерландами и Испанией, закрыто было плавание по Шельде, которого не удалось открыть даже и в 1785 году Императору Иосифу II; следующий период – от французской революции до Венского конгресса (§ 64) – знаменуется развитием более либеральных начал, сперва однако фактически в виде лишь установления кондоминиума на пограничные реки (по договорам Франции 1792 года – с Батавской республикой и Кампоформийскому 1797 года с Австрией). Только на Раштатском конгрессе было предложено представителями Франции признать принцип всеобщей свободы судоходства, но за непринятием этого предложения Имперской депутацией вопрос этот был разрешен лишь после Люневильского мира конвенцией 15 августа 1804 года, являющейся прототипом дальнейших актов речного права ввиду в особенности признания ею принципа общности и единства управления судоходства по Рейну. Такая же общность права судоходства, в отношении пограничных государств, признана была вскоре для Вислы (по Тильзитскому миру), для рек среднегерманского бассейна (по Эльбингской конвенции), для р. Торнео (по русско-шведскому договору 8 ноября 1810 года), для Эльбы (по прусско-вестфальскому договору 14 мая 1811 года). И наконец, Венским конгрессом установлены были общие основные принципы свободы судоходства, выражающиеся, главным образом, в следующем: полная свобода судоходства, вплоть до устья, по рекам, протекающим в судоходной своей части по территориям нескольких государств; прибрежным государствам принадлежит суверенитет над прилегающими берегами, отнюдь однако без права стеснения свободы судоходства; установление судоходных сборов единых, неизменных и вне зависимости от груза и уничтожение всяких других сборов; сокращение учреждений для взимания судоходных сборов; установление общей речной полиции. В последней части рассматриваемой главы (§ 65) автор приводит те следовавшие за Венскими постановлениями акты, которыми действие последних устанавливалось постепенно по отношению к различным рекам (Шельда в 1839 году, но окончательное прекращение взимания пошлин, производившегося Голландией, путем выкупа по договору 1863 года; Эльба – в 1843 году и окончательно в 1861 году выкуп пошлины, взимавшейся Ганновером, по договору между этим государством и другими заинтересованными; По – в 1849 году; Дунай – в 1856, по Парижскому договору; Рейн – окончательно по договору 1868 года; Лаплата – в 1853 г., Амазонка – в 1867 г., Конго и его притоки – в 1885 г., по Берлинскому акту).
Zweites Kapitel. Die gegenwärtig geltenden allgemeinen Grundsätze des internationalen Stromrechts. Ss. 302–326. §§ 66–73
Обращаясь от исторического очерка развития международного речного права к рассмотрению, во второй главе, ныне господствующих общих его начал, Каратеодори дает прежде всего (§ 66) определение рек международных, как таких, которые протекают по территориям, двух или нескольких государств или их разделяют и для которых установлены, с общего согласия, известные правила судоходства; вместе с тем он указывает, что при существующем исключительно национальном режиме рек, протекающих по территории одного лишь государства, создается неравенство в ущерб прибрежникам международных рек, которое должно было бы быть устранено, по его мнению, признанием принципа свободы судоходства также и для рек национальных. Относительно критериума судоходности реки (§ 67) автор указывает, что он определяется обычаем или особым соглашением; при наличии нескольких рукавов, впадающих в море, для судоходства избирается один из них, наиболее отвечающий этой цели. Что касается обстоятельств, препятствующих судоходству, то относительно препятствий естественного происхождения (§ 68), напр., порогов, автор признает наиболее правильным взгляд Берлинского акта 1885 года в том смысле, что для юридической конструкции понятия судоходства они должны признаваться не имеющими никакого значения; всякие же препятствия искусственного характера (§ 69) (проистекающие, напр., от несоответственного устройства мостов, мельниц и т. п.), не должны быть допускаемы. Сущность свободы судоходства по международным рекам Каратеодори определяет (§ 70), как доступность их – на одинаковых условиях и без взимания иных сборов, кроме служащих к покрытию расходов на поддержание судоходства – плаванию всех судов, хотя бы и не прибрежных государств, кроме впрочем военных, допускаемых лишь по исключению, в виде стационеров, на Дунае. Права и обязанности прибрежных государств (§ 71) заключаются в выполнении работ, необходимых в интересах судоходства по прилегающей к ним части реки, и во взимании сборов, имеющих своим назначением покрытие расходов на нужды судоходства и вычисляемых единообразно на основании тоннажа судов.
В дальнейшем изложении автор рассматривает (§ 72) вопросы об организации ручной полиции, о судебных учреждениях для дел, возникающих в области речного права, и о карантинной службе; здесь же он говорит об юридической обязательности Венских постановлений для подписавших их держав и высказывается за применение к притокам международных рек тех начал, коими регулируется плавание по этим рекам.
Последний, разбираемый автором в рассматриваемой главе вопрос, касается влияния войны на юридическое положение международных рек (§ 73), причем Каратеодори, в согласии с Энгельгартом, высказывается за сохранение, в случай войны, полной свободы судоходства по этим рекам для судов нейтральных и упоминает о тех случаях, в которых, правда лишь отчасти, принцип этот находил себе уже признание. (Франко-германская конвенция 1804 года относительно Рейна, предложения Австрии в этом смысле в 1855 году и на Берлинском Конгрессе относительно дельты Дуная, в Америке признание полной нейтрализации Параны и Уругвая, а также и каналов Никарагуанского и Панамского, нейтрализация, по акту 1865 года, учреждений и работ европейской комиссии на Дунае, нейтрализация Лаплаты по договору 1853 года, нейтрализация не только Конго, но, в принципе, также и территории его бассейна по акту 1885 года.) Что касается блокады устьев рек, то она должна признаваться допустимой лишь по отношению к рекам, протекающим всецело по территории воюющих противников.

