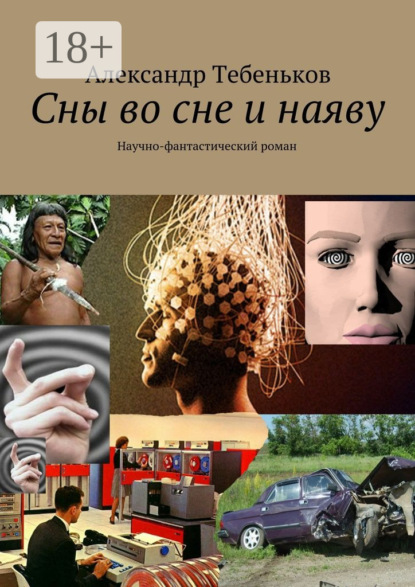
Полная версия:
Сны во сне и наяву. Научно-фантастический роман
ЛЕБЕДЕВ: Противоречие первое: почему она видит сны только из прошлого? По теории вероятности, половина снов ей должна идти из прошлого, половина – из будущего… Если, конечно, оно есть, это будущее. Прошлое-то уж точно существовало.
МОИСЕЕВ: Действительно, если есть информация из десятого века, то почему нет, скажем, из двадцать первого?
АКСЕЛЬРОД: Может, человеку недоступно знание будущего… Хотя, как тогда быть с Нострадамусом? А может, ее мозг настроен только на прошлое. У Нострадамуса – только на будущее. А Ванга, например, одинаково легко проникает и в прошлое, и в будущее, и в настоящее конкретного человека.
БАРИНОВ: Не знаю, не знаю… Параллельные миры, множественность Земель, сдвиг по времени… Глобально все как-то. Сложно. Из факта необычных снов одного человека мы выстраиваем космогоническую теорию. Несопоставимо как-то. Мегатонной бомбой по кузнечикам. Вот, скажем, пересохла речушка, а мы уже талдычим о глобальном потеплении, об изменении наклона земной оси, о парниковом эффекте. А объяснение тривиальное, под боком: какой-то дурак осушил луговину, где эта речушка начиналась родничком, и понизил тем самым уровень грунтовых вод. Попутно исчезло еще несколько родничков, что подпитывали ту речушку. А дальше по цепочке – обезводились болота, засохли рощицы, на лугах трава зачахла, торфяники гореть стали… А мы – климат-де, меняется!
МОИСЕЕВ: Дурак-мелиоратор – это впечатляет. Но множество Земель в эн-мерном пространстве со сдвигом по фазе впечатляет не хуже… А если, действительно, попроще, а? Земля наша, как была одна-единственная, так и останется… Знаю, знаю, вы меня сейчас с туфлями, со шнурками, с пуговицами съедите! А если, и вправду – переселение душ?
БАРИНОВ: Не ново, Илья, не ново! Реинкарнация, Атлантида, древние цивилизации, Гондвана, Шамбала… а также НЛО, зеленые человечки, контактеры-гуманоиды, жизнь после смерти… Что-нибудь пооригинальнее, пожалуйста.
МОИСЕЕВ: Ну вот, что я говорил!
АКСЕЛЬРОД: Погодите, коллеги! Мы же условились. Высказываем любые, самые дикие и бредовые идеи, откровенно-шарлатанские, скандальные или набившие оскомину, глупые до безобразия – лишь бы они внутренне были логичны и непротиворечивы, и полностью объясняли известные нам факты. Ваши слова, Павел Филиппович?.. Кстати, реинкарнация объясняет, практически, все.
БАРИНОВ: И это-то как раз особо и настораживает… Хорошо, предположим. Но – тогда мы такой клубок проблем получим, что никому не позавидуешь! Куда там ясновидение с телепатией!.. Во-первых, что значит – «душа»? Во-вторых, как она «переселяется»? То есть механизм. В-третьих… Впрочем, для начала хватит и этих двух моментов.
АКСЕЛЬРОД: Ну да, раз она «переселяется», значит, должна быть материальна.
ЛЕБЕДЕВ: Кстати, не помню где, но промелькнуло сообщение, что группе медиумов, по-моему, в Верджинии удалось «взвесить» душу. В момент смерти, в том числе клинической, человек теряет от тридцати до пятидесяти граммов веса.
МОИСЕЕВ: А источник?
ЛЕБЕДЕВ: Сейчас не помню, Илья Борисович. По-моему, в какой-то газете.
МОИСЕЕВ: «Правда», «Труд», «Сельская жизнь»? Или даже – «Аргументы и факты»? Оч-чень авторитетный источник, коллега!
БАРИНОВ: Ладно, Илья, отстань от человека. Есть свидетельства посерьезнее. Ну, не по душе, разумеется, а по явлению.
МОИСЕЕВ: Например?
БАРИНОВ: Лет восемь или десять назад, кстати, именно в Верджинском университете опубликована статья канадского профессора Стивенсона под названием, если не путаю, «Двадцать случаев реинкарнации»*. Довольно интересная работа, я бы сказал.
ЛЕБЕДЕВ: И что там, Павел Филиппович?
БАРИНОВ: Надо поискать, где-то у меня должна сохраниться фотокопия на микропленке. На английском, разумеется. А тебе, Игорь, я ее, по-моему, давал почитать. Для общего развития.
ЛЕБЕДЕВ: Не помню, честное слово!
БАРИНОВ: Или хотел дать… Ну, неважно, найду. Сам Стивенсон биохимик и психиатр, за сенсацией, как я понял, не гонится, полагает, что концепция реинкарнации могла бы помочь современной медицине понять различные аспекты развития человека и его поведения в условиях меняющейся внешней среды. Идею перевоплощения он трактует как выживание личности после смерти, и особо указывает, что даже не берется связывать это явление с каким-либо физическим процессом.
МОИСЕЕВ: Паша, не тяни кота за хвост! Суть давай, факты! Статью, надо будет, найдем.
БАРИНОВ: Да ради бога! Работал он с детьми от двух до четырех лет, которые «помнили» о своих предыдущих жизнях. Доказанным случаем считал тот, для которого потом получал документальные подтверждения происшедших в прошлом событий. Важен такой нюанс: Стивенсон никогда не платил деньги как вознаграждение семьям этих детей. Дальше, он отмечает, что наиболее ярко дети помнят события, связанные со смертью прежней личности, как правило, насильственной, трагической – убийство или несчастный случай.
МОИСЕЕВ: Это серьезно, это может коррелироваться с нашим… вернее, с вашим случаем. А как насчет фактов? Факты Стивенсон приводит?
БАРИНОВ: Я их, естественно, не помню, но статья базируется как раз на конкретных фактах и ситуациях. О событиях прошлой жизни дети рассказывают, находясь в самых обыкновенных бытовых обстоятельствах, не в трансе или под гипнозом. Где угодно и когда угодно – во время прогулок или игры, за едой или в обычном разговоре, случайно оказавшись в местах, где жили или бывали в прошлой жизни и так далее…
ЛЕБЕДЕВ: Но не во сне, Павел Филиппович?
МОИСЕЕВ: А когда дети вырастают?
БАРИНОВ: Ну, я так и знал! Теперь вы за это дело ухватитесь, не оторвешь… Да не помню я всего! Заинтересовались – найдите труды Стивенсона, проштудируйте. А по поводу сна… По-моему, Стивенсон нигде не говорит, что кто-то во сне видел себя в прошлой жизни. Но он упоминает, что после шести-восьми лет дети перестают вспоминать об этом.
ЛЕБЕДЕВ: Ну да, видимо, перерастают, старая информация забивается новой, приобретенной…
МОИСЕЕВ: Стоп, Игорь, стоп! Не увлекайся. Ты забыл, мы просто рассматриваем различные гипотезы
АКСЕЛЬРОД: Ту работу я знаю. И еще кое-что читала.
МОИСЕЕВ: И как?
АКСЕЛЬРОД: Не знаю, Илья, что и сказать… Стивенсон еще и другие доказательства приводит, что-то связанное с родимыми пятнами.
МОИСЕЕВ: Спиритизм, астрал?
АКСЕЛЬРОД: Нет-нет, ничем таким он, по-моему, не оперирует. Скорее, наоборот.
БАРИНОВ: Ну-у, договорились!.. Не-ет, коллеги, дело, похоже, пахнет не сдвигом Земли по фазе, этот сдвиг намечается лично у меня. Нам бы теперь еще каким-нибудь образом присобачить сюда спиритизм, ведьм, привидения и домовых с русалками…
МОИСЕЕВ: К слову, работает в Москве профессор по фамилии Миркин, Иван Александрович, по-моему. Доктор физматнаук, между прочим. Его лаборатория, рассказывают, очень плотно занимается изучением телепатии, телекинеза, полтергейста, ясновидения… вообще, паранормальных явлений, к коим я склонен относить и сны Афанасьевой.
БАРИНОВ: Прикажешь свозить ее на консультацию?
МОИСЕЕВ: Сам справишься, Пашенька.
АКСЕЛЬРОД: А что, Миркин и реинкорнацией занимается?
МОИСЕЕВ: Нет, что вы, ребята! Едва ли кто у нас в Союзе на такое отважится… кроме тебя, Баринов.
БАРИНОВ: Пошел ты!..
АКСЕЛЬРОД: И правда, давайте-ка закругляться, третий час бодягу разводим.
БАРИНОВ: Кому бодяга, а кому от этих снов и жизнь не в жизнь. Удариться в мистику просто, а выбраться… «Вход бесплатный, выход – рупь!»
МОИСЕЕВ: Шурочка, ты среди нас самая благоразумная, подводи итоги. Остальное порешаете в рабочем порядке.
АКСЕЛЬРОД: Хорошо. Значит, определились две группы гипотез, разнящихся в вопросе: откуда в мозг Афанасьевой поступает информация для ее снов? Итак: генетическая память, ясновидение со знаком минус, параллельные миры, переселение душ…
ЛЕБЕДЕВ: Мистер Икс.
МОИСЕЕВ: Кто-кто?
ЛЕБЕДЕВ: Злодей-изобретатель со своим аппаратом. «Властелин мира».
МОИСЕЕВ: А я-то думал, что ретрансляцию в ее мозг тщательно выстроенных и отрежиссированных сцен из неизвестных пьес неизвестных авторов мы с негодованием отвергли.
АКСЕЛЬРОД: Илья Борисович!
МОИСЕЕВ: Понял, понял!.. Итак, пятое – мистер Икс. Все, иссякли?
АКСЕЛЬРОД: Павел Филиппович, я бы дополнила список неким неизвестным фактором. Скажем, «фактор икс». Или лучше – «фактор игрек», во избежание путаницы.
БАРИНОВ: Понимаю. Женская интуиция или интуитивная осторожность? Мы вроде бы и так рассмотрели все мыслимые ситуации.
АКСЕЛЬРОД: Мыслимые – да. Но случаются и немыслимые.
БАРИНОВ: Гм-м, резонно, однако. Принимается. Итак, шесть гипотез, шесть направлений. «Цели ясны, задачи определены – за работу, товарищи!» Или же строимся в колонну по одному и с бодрыми пионерскими песнями шагаем прямиком в Чым-Коргон**.
ЛЕБЕДЕВ: Павел Филиппович, если источник информации внешний, первым делом надо подумать над поиском агента, несущего информацию в мозг. Ну, не радиоволны же, понятно!
БАРИНОВ: А почему не они? Докажи!.. Ладно, все, финиш. Всем спасибо, большой привет!»
2
Утром в понедельник первым делом Баринов бросил взгляд на журнальный столик, а он был пуст. Значит, ночь на субботу прошла без снов – в противном случае, как он просил, все материалы немедленно несли сюда, в кабинет…
В пятницу он устроил для Ильи Моисева «отвальный» обед в банкетном зальце «Ала-Тоо». Пригласил еще шестерых: трое из мединститута, двое из Академии, один из Минздрава – все свои, все давние приятели, коллеги. Посидели славно и уютно, тем более, конец недели, тем более, давно не подворачивался повод встретиться вот так, накоротке. Поболтали, посмеялись…
Поначалу Баринов опасался, не проговорится ли Илья о цели своего нежданного и скоротечного визита, но тот на любые вопросы отвечал анекдотами – и в тему, и не в тему. Отделывался только так, что от лобовых, напрямик, что «из-за угла». Слава богу, проникся ситуацией!
Потом всей компанией на двух такси поехали провожать его на вечерний ташкентский самолет… Правда, в середине обеда принялись хором уговаривать сдать билет да задержаться на недельку – съездили бы всем гуртом в пансионат на Иссык-Куле или в академический дом отдыха в предгорьях неподалеку, или просто в горы диким образом… Но Илья хотел ноябрьские праздники отметить дома, с семьей. «А уж после Нового года, ребята, гадом буду – приеду покататься на лыжах!»
Сам Баринов за обедом больше помалкивал, играл в благодушие, почти не пил. После проводов компания решила задержаться в аэропортовском ресторане, но он, решительно отказавшись, поехал прямиком домой. Вечер, конечно, удался, можно было и продолжить, но хотелось элементарно выспаться, хотя бы раз за последние полгода. Да и неделя выдалась не из простых.
…Хотя бы раз в полгода Баринов старался побывать в Новосибирске. А на обратном пути, как правило, наносил визиты в Томск, Барнаул, Казань или Алма-Ату – лично пообщаться с коллегами. Из этой командировки он возвращался через Ташкент.
Профильных институтов или лабораторий, впрямую занимающихся изучением мозга, в республике не было, но при здешнем мединституте сложился неплохой коллектив психиатров, как практиков, так и теоретиков. Впору даже говорить о ташкентской школе.
Был, конечно, соблазн, поговорить по душам кое с кем из местных корифеев, «провентилировать», так сказать, интересующие вопросы… Однако прилетел он сюда с другой целью.
Во время войны в Ташкент эвакуировалась масса не только творческой, но и научной интеллигенции. В том числе оказалась почти в полном составе харьковская группа по изучению высшей нервной деятельности человека профессора Омельченко. Она с середины тридцатых занималась экспериментами в области, как бы сказали сейчас, нейрофизиологии, здесь впервые делались попытки неконтактной регистрации электрических потенциалов глубинных участков мозга. От собачек и кроликов в качестве экспериментального материала группа принципиально отказалась, работала исключительно с приматами.
Коллектив был небольшой по численности, шесть-восемь научных сотрудников и до десятка лаборантов, но работал успешно и продуктивно, накопив огромный экспериментальный материал. В сорок восьмом или в сорок девятом году лабораторию ликвидировали, почти всем сотрудникам «отвесили по червонцу» с последующим поражением в правах и, по слухам, отправили в спецлагерь то ли на Урале, то ли за Уралом. След их затерялся.
Самого же Богдана Спиридоновича Омельченко расстреляли тут же, в Ташкенте, жену с двумя детьми выслали под Кызыл-Орду. Там они и жили, пока в конце пятидесятых Верховный суд СССР не реабилитировал Богдана Омельченко «за отсутствием состава преступления», и они перебрались в Киргизию. Младший сын, Борис, пошел по стопам отца, окончил ташкентский мединститут. Одно время он работал у Баринова, и отношения у них сложились самые дружеские. Потом его пригласили в Новосибирск, и сейчас он занимал должность заместителя директора НИИ общей физиологии СОАН. Именно к нему летал Баринов – посоветоваться, проконсультироваться, да и вообще, ввести друг друга в курс своих сегодняшних проблем.
Он-то и посоветовал обратиться к ташкентским товарищам за помощью – вдруг сохранились архивы той лаборатории. Тематика похожая, может, найдется что стоящее… Хотя, конечно, надежд мало. Материалы наверняка либо уничтожены, либо в спецхране под разными грифами, хрен выцарапаешь… Но попытаться стоит. За спрос не дают в нос. «Хотя, как раз за такой спрос и схлопочешь наотмашь по сопатке, запросто», – как выразился Борис Омельченко.
Про архивы, конечно, ничего узнать не удалось. Даже от лаборатории документальных следов не осталось. Ни в республиканской Академии, ни в Минздраве, ни в горисполкоме слыхом о ней не слыхивали. Баринов подключил к поискам своего однокашника по Первому медицинскому, ныне проректора местного мединститута Илью Борисовича Моисеева, с которым все годы поддерживал если не дружеские, то вполне приятельские отношения. Попутно пришлось, конечно, рассказать, для чего это все ему, и Илья неожиданно заинтересовался. Пусть ёрничая и подхихикивая, но заинтересовался.
Задерживаться в Ташкенте Баринов не стал. Прошелся по старым знакомым, завел новых, обменялся телефонами, договорился кое с кем, что по приезду к себе пришлет официальные запросы. И со всей возможной убедительностью просил, чтобы к поиску отнеслись не формально. Словом, постарался на личных контактах дать делу ход, а на большее он, откровенно говоря, и не рассчитывал. Теперь осталось ждать результатов.
На прощанье Моисеев преподнес-таки сюрприз.
Они сидели в его черной «Волге» на площади перед зданием аэропорта, до начала регистрации время еще оставалось, беседовали.
– Слушай, Паша, а не слетать ли к тебе на пару-тройку дней? – неожиданно сказал он. – Развеяться охота. А заодно посмотрю твою подопытную.
– Думаешь, надо?
– Нет-нет, я знаю, ты в своем деле дока. Раз говоришь, что психика в норме, значит, так и есть. Мне самому любопытно. А вдруг и я на что сгожусь?
– А вдруг и ты на что сгодишься! – засмеялся Баринов. Он совсем не прочь был заполучить нечаянно такого консультанта. – Когда сможешь?
– Да хоть сейчас! Вернусь к себе, выпишу командировку – и в ближайший понедельник я у тебя.
Поначалу-то Илья настроился явно легкомысленно, впрямую хиханьками и хаханьками встретил бариновский конспективный обзор. Слушал – и комментировал, слушал – и комментировал… Однако ж, по мере того, как вчитывался в протоколы опытов и стенограммы рассказов самой Афанасьевой, просматривал ее электроэнцефалограммы и записи показаний сопутствующих приборов, придирчиво изучал результаты разного рода анализов – он становился все язвительнее, все ироничнее, почти до сарказма, но шуточки оставил. С ним так бывало всегда, если что-либо прочно и всерьез его озадачивало, вгоняло в недоумение, в непонятность.
Беседу с Афанасьевой он провел, конечно, виртуозно. В стиле светской беседы «ни о чем». Баринов сам временами забывал, что это разговор врача с пациентом, а уж той-то он голову заморочил изрядно! Мастер, что еще скажешь!.. И она, похоже, осталась в приятном неведении об истинной роли ташкентского профессора, случайно оказавшегося в кабинете Баринова. Просто хорошо посидели за чашкой чая перед очередной ночью в лаборатории, мило поговорили, причем даже касались серьезных вещей… но и только.
По крайней мере, наутро и потом у нее никаких вопросов не возникало.
А вот у Моисеева после ее ухода куража заметно поубавилось, зато прибавилось озабоченности. Особо распространяться он не стал, только мимоходом подтвердил убеждение Баринова, что в данном случае психиатр абсолютно не нужен. Психотерапевт – под вопросом, поскольку дело не в личности, дело в сущности. Пока – в субъективной, в виде ее снов. Но подхода к этой самой сущности он не видит, даже навскидку, что его и раздражает.
– Ничего такого, чего бы ты не знал, Павел Филиппович, не скажу. Психика нормальна, дай бог каждому ко дню рождения. Классические доминанты четко выражены, сексуальная составляющая слегка подавлена. Мышление ясное, конкретное, адекватное. Индивидуальные качества – пожалуйста. Афанасьева устойчива к внешним раздражителям, ничем посторонним не отягчена. Эрудированна, с чувством юмора, эмоционально несколько заторможена, в рассуждениях логична, с хорошей реакцией. Ощущается романтический уклон, зато с ясно обозначенным прагматизмом… Вот, собственно, и все. Экстерьера не касаюсь.
– Уж больно картина благостная, не находишь?
– Ага! И ты на это внимание обратил?
– Практика такая. Если все абсолютно нормально – значит, что-то не так.
– Вот-вот. Ищи зацепку. Обнаружишь – дай знать. А теперь – в гостиницу. Отвезешь?
По дороге он непривычно молчал, не по ситуации. Из чего Баринов сделал вывод, что озадачен его консультант не на шутку. И пока сам не разберется, хотя бы приблизительно, обсуждать вплотную эту тему не будет.
Поначалу в «мозговом штурме» Моисеев участвовать отказался, мотивируя тем, что столь малым и разноречивым объемом информации он оперировать не привык, потому собственных мнений и суждений не имеет. А «свадебным генералом» выступать – нет уж, увольте!.. Пришлось разубеждать и уговаривать, чуть ли не «на слабо» брать… Пожалуй, пронял его один-единственный довод: что он своим присутствием послужит своеобразным катализатором идей и мыслей его, Баринова, сотрудников.
Наконец он махнул рукой:
– Ладно, черт с тобой! Собирай свою гвардию. Или они у тебя мушкетеры?
На «мозговом штурме» его изредка прорывало, однако в целом Илья вел себя корректно, соблюдая хороший тон. Баринов отлично видел, что тот как будто бы все время держит себя за шиворот.
Может быть, штурм еще потому ничего и не дал, или дал очень мало, что и остальные участники себя сдерживали, не позволяя свободы мыслям и воображению. Или действительно, не хватало допинга?.. Все, что говорилось, более-менее связно озвучивалось раньше, в приватных или общих разговорах. Никаких подвижек, в сущности. Ничего нового. А Баринов откровенно надеялся, что в процессе родится что-нибудь оригинальное, неординарное.
Стало быть, наступила пора честно признаться себе и окружающим – это тупик. По-настоящему. Надо отходить назад, на прежние, на исходные позиции, и выбирать новый, уже другой путь… А может, не торопить события, не пороть горячку, а сначала до конца, до упора использовать традиционные, классические методы…
В дверь кабинета постучали.
– Разрешите, Павел Филиппович?
– Да-да, Игорь, проходи, садись. Что у тебя?
– Закавыка одна получается, – Игорь выложил из портфеля журнал, папку с описаниями хода эксперимента, несколько рулонов из самописцев. – Я тут вчера и позавчера поработал, еще раз пригляделся к биоритмам Афанасьевой. Более предвзято, попристальнее, каждый сантиметр. Но не шестой фазы, а обычные. И вот на каппа-ритме в фазе глубокого сна обнаружились небольшие флуктуации. Совсем незначительные, но все же… Да вот, посмотрите сами.
Игорь развернул один за другим три рулона, разложил их на приставном столе, придавив специальными грузиками.
– Вот, вот и вот. Я взял подряд ночи начальной серии и на седьмой – вот, пожалуйста. А это пятнадцатая и восемнадцатая. Тех, своих, снов она тогда не видела, так что ночи нейтральные. Отклонения мизерные, но четко локализуемы, и повторяются в определенном интервале времени. Смотрите, Павел Филиппович: мелкое дрожание пера на полусекундном плато, похоже вроде бы на сбой, но через пять-шесть всплесков оно повторяется, потом снова и снова – и так от трех до пяти раз. А через четыре-шесть минут после последнего тремора наступает парадоксальный сон… Видите?
– Интересно… – Из верхнего ящика стола привычным движением Баринов достал сильную лупу, масштабную линейку и измеритель. – Интересно, и даже весьма… Действительно, похоже на легкий тремор пера. Но – периодичность. Значит – импульсы? За пределами погрешности, нет?
– На пороге.
– Любопытно, любопытно… Как же проглядели-то?
– Их немного, Павел Филиппович, по два-три на восемь часов сна, и не в каждую ночь. Я просмотрел девятнадцать рулонов и обнаружил их только на трех.
Они просидели, не разгибаясь, до полудня, пока зубчатые фиолетовые кривые на разграфленных лентах самописцев не принялись плясать и расплываться перед глазами.
Пообедать решили в «Сеиле» – ближе всего и вполне съедобно. За руль Баринов усадил Игоря. «Я сзади посижу, поразмышляю. А обратно сам поведу, хорошо?» Они поднялись на второй этаж, но только за столиком выяснилось, что в ресторане с недавних пор стали практиковать в дневное время комплексные обеды. Баринов недовольно поморщился.
– Салат из одуванчиков и шорпо из верблюжьих мослов?
– Обижаете, Павел Филиппович! – кокетливо улыбнулась официантка. – Салатик «Столичный», суп харчо, сосиски с капустой и компот из сухофруктов.
Баринов вопросительно глянул на Игоря. Тот кивнул в ответ.
– Ладно, Надюша, неси свой комплексный, раз порционных не дождешься. И два по пятьдесят коньячку, только фирменного. – Он остановил жестом Игоря. – Сегодня – можно. А за руль я сам сяду, как обещал.
Официантка склонилась к Баринову, коснувшись его плеча налитой грудью:
– Завезли чешское пиво, «Будвар». Если хотите, я принесу… только в бокалах, извините.
Баринов расхохотался
– Надюша, милая, плюс два на дворе, дождь моросит!
– Ну, летом-то, в жару, у нас и обычное в дефиците, сами знаете.
– Нет, пожалуй, обойдемся коньяком. Впрочем… Заверни-ка нам пару бутылочек с собой. И по парочке бутербродов. – Он повернулся к Игорю. – Работа предстоит долгая, пригодятся.
После обеда поработать не удалось. Накануне из институтской бухгалтерии притащили ворох бумаг, а лаборантка, которая по совместительству выполняла у Баринова роль делопроизводителя, разобраться с ними не смогла. Да и не в ее компетенции они были.
Скрепя сердце, Баринов отправил Игоря к себе.
– А я превращусь на время в злобного администратора и прижимистого хозяйственника, – с глубоким вздохом сказал он. – Представь, вместо заказанного микротома прислали черт знает что и требуют принять на баланс. Да я от этого барахла отпихивался еще два месяца назад!.. Ладно, разберусь. А завтра с утра продолжим.
Поднакопились и другие вопросы примерно такого же плана.
До конца рабочего дня пришлось звонить-перезванивать в разные концы города, даже побеспокоить Москву, переговорить с добрым десятком должностных лиц самого разного ранга, дать задание Александре Васильевне подготовить новую заявку, теперь уже напрямик в союзный Академснаб, попутно решить еще кое-какие, более мелкие, внутрилабораторные, но такие же бумажные дела…
Домой он решил не ехать, поработать сегодня до упора. Подушку и плед достал из нижнего отделения серванта, переоделся в спортивный костюм и прилег отдохнуть и поспать хотя бы пару-тройку часов на диване в кабинете.
Да только сон не шел. Стоило закрыть глаза, как всплывали широкие росчерки из-под перьев самописцев: характерные кривые биоритмов спящего человека, а на них, наложением – слабые, с еле заметной амплитудой, колебания, которых быть не должно. Однако ж они существовали, и первое, что напрашивалось – это четко локализовать их появление на различных фазах сна…
Его, Баринова, первое упущение: нет у них полноценной записи биоритмов Афанасьевой в бодрствующем состоянии.



