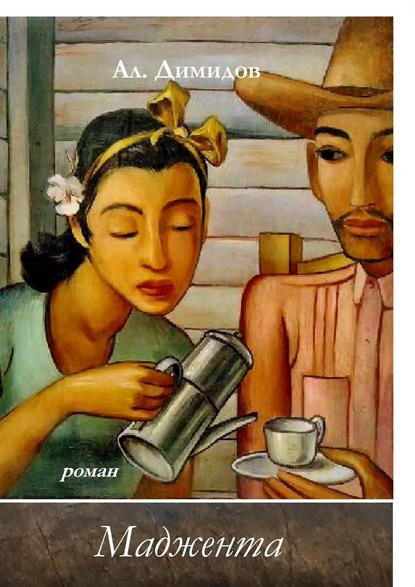
Полная версия:
Маджента
Тем вечером за столом было шестеро. К концу партии их осталось уже трое, а часом позже Кристобаль оказался последним и единственным соперникам Гонзалеса. Он знал с кем играет. Он был педантично вежлив и расчетлив. На кону стояла внушительная сумма. Фортуна улыбалась ему. Нужные карты приходили одна за другой, и проделывать трюки не было никакой надобности. Он играл чисто. Когда исход партии стал очевиден, Гонзалес внезапно вскочил, швырнул свои карты в лицо Кристобалю и, громко обозвав его шулером, потребовал снять пиджак.
– Я не привык раздеваться перед мужчинами, – ответил Кристобаль.
Глядя на хама, он ни на секунду не выпускал из поля зрения черное пятно за его спиной.
Гонзалес не унимался:
– Шулер не лучше шлюхи. А по мне, так даже хуже.
– Люди правы. Вы дурно воспитаны.
– Мне наплевать, что говорят обо мне другие.
– Напрасно. Отныне вам придется прислушиваться.
Сказав это, Кристобаль улыбнулся своей располагающей улыбкой. Он привстал, вытянул руки ладонями вверх, по направлению к Гонзалесу, как бы открывая на обозрение манжеты. Встряхнул ими. Внезапно в правой руке его блеснул метал. Кристобаль тотчас поднес его к щеке Гонзалеса. Раздался щелчок. Пуля шумно разорвала ушную раковину выше мочки и плеснула обжигающим порохом на всю левую половину лица. Гонзалес испустил кромешный вопль. В то же мгновение Китана, позади него, едва вскочив со стула, рухнул на пол и стоная, отполз к стене, зажимая рукою живот. Публика оторопела. Гонзалес скулил, заливая карты, сукно и деньги кровью. Никто не смел пошевелиться. Кристобаль бесшумно вышел на улицу и растворился в ночи.
Его искали четыре месяца. Полиция сбилась с ног, подключив местную агентуру и стукачей-уголовников. В соседней квартире круглосуточно дежурила засада. Всюду, где он имел привычку появляться, были расставлены люди. Его друзей, знакомых и всех, кого он знал, оповестили, что в случае его появления, они обязаны срочно оповестить об этом представителей власти, во избежание тюремных сроков. Назначили награду тому, кто укажет, где скрывается преступник. Но все было напрасно. Кристобаль Алиендэ как будто провалился сквозь землю. Многие посчитали, что он давно покинул страну.
Некоторое время спустя один из следователей, прогуливаясь по рынку на Плаза де Каскорро в воскресный полдень, обратил внимание на дешевые пейзажи, которыми торговал старьевщик. Картинки были сделаны топорно, быстро, без претензии на высокое искусство, но что-то в них подкупало. Еще раз пересматривая в участке изъятые на квартире Кристобаля рисунки, он узнал авторский почерк и заметил странную деталь: одинокая чайка. На рисунках, выполненных грифелем и в базарных акварелях часто попадался силуэт птицы, парящей на заднем плане. Старьевщик тотчас признался, что картинки ему приносил мальчик. Но в указанный день никто не пришел. Тогда следователь велел расставить все нераспроданные акварели вдоль стены и обвел их долгим, внимательным взглядом.
– Что ты видишь? – спросил он у своего молодого коллеги
Тот напрягся и затем недоуменно повел плечами.
Следователь улыбнулся:
– Третья, пятая и одиннадцатая. Тот же ракурс. Вид на бухту. Он рисует с натуры. И он все еще здесь.
С крошечного чердака над китайским борделем и вправду открывался чудесный вид. Особенно на закате. Ожидая, когда власти снимут усиленные посты на выездах из Мадрида, Кристобаль вел ночную жизнь. Днем он рисовал или отсыпался. Если бы не морской бриз, эта комнатушка могла бы превратиться в духовку. Ее хозяйка – китаянка по имени Нуо – согласилась на скромную оплату. Она работала в покоях внизу. Отдельный вход со двора давал возможность Кристобалю оставаться незамеченным, когда он спускался по длинной винтовой лестнице. Если клиентов не было и в особые дни, Нуо поднималась к нему. Они устраивались на широкой тахте и смотрели на залив. Иногда поздним вечером она приносила с собой «волшебную» лампу. Они курили гашиш и смотрели, как спроецированные зажженной свечой, по косому потолку летали огненные драконы, пытаясь пожрать друг друга.
Однажды ночью она взяла его за руку и повела вниз за собой. В комнате, среди картин и, кресел, она наполнила вином бокалы. Пока он пил, она раздела его, целуя. И подтолкнула в спальню. Кровать под узорчатым, полупрозрачным балдахином благоухала свежим бельем. Нуо, не переставая ласкать, расположилась над ним. Ее золотой кулон в виде ракушки, спускался к нему, едва не касаясь лица, и снова удалялся. Но там, за дверью внизу, уже стучали сапоги жандармов. Перепуганная хозяйка заведения подняла крик. Раздался дьявольски громкий стук. И прежде чем Нуо ответила, те, кто был по ту сторону, принялись высаживать двери. Кристобаль даже не успел одеться. Он схватил первое, что подвернулось под руку. Глубокой ночью, в мавританских туфлях с загнутым носом и пестром персидском халате, он выбрался на крышу и сбежал в порт.
Три дня спустя на английском королевском фрегате Георг Первый обнаружился безбилетник. Судно держало курс на Хибару. Кое-кто из команды предложил выкинуть его за борт, да и дело с концом. Но несмотря на дикий внешний вид, незваного гостя накормили и дали переодеться. Капитана подкупил благородный взгляд беглеца. Ему велели держаться подальше от пассажbров, помогать кочегарам и драить гальюны на правах младшего юнги. Благо, костюм моряка пришелся ему впору. Почти неделю Кристобаль добросовестно кидал уголь в топку. Где-то посредине Атлантики главный котел раскалился и дал дрозда. Вал замер, поршни остановились. Починка требовала условий дока, и остаток пути пришлось проделывать под парусами.
Миновав тридцатый меридиан, они угодили в чудовищный шторм. Фрегат заливало водой и кидало по волнам, как щепку. В коридорах и на кубрике стоял запах блевоты. При убранных парусах капитан пытался избежать боковой волны, а когда ему это не удалось, удар оказался такой силы, что судно смертельно накренилось, скрепя всем своим нутром. Вода хлынула отовсюду. Кто-то в панике бросился на верхнюю палубу и был смыт за борт. Ветер сломал Грот-мачту. Внизу раздавались крики отчаяния. Видя, как прибывает вода, Кристобаль выбрался наружу. С трудом добравшись до середины, насквозь промокший, пристегнул себя к трубе рангоута широким ремнем и припал щекой к металлу. Зажмурившись, он не переставая шептал что-то мокрыми губами, дрожа от холода и страха, пока не лишился чувств.
Их обнаружил греческий барк.. Судно со сломанной мачтой – и уцелевшими, но бесполезными при полном штиле двумя оставшимися – дрейфовало по воле волн в пятидесяти милях от обычного курса, уповая на милость Божью. После шторма не досчитались пяти пассажиров и старпома. Чтобы как-то поднять дух, капитан привлекал всех выживших к ремонту, не зависимо от регалий. Среди прочего, Кристобалю выпало убираться на мостике. Он очистил пол и в самом углу наткнулся на черный комок, похожий на мертвого морского ежа. Кристобаль осторожно взял его в руки.
Под слоем влажных водорослей оказался треснувший, разбухший, искореженный переплет корабельной Библии.
IV
Сиротский приют Святой Касильды был открыт в Баямо в 1861 году по распоряжению центральных властей провинции. Один из местных аристократов, пожелавший провести остаток своих дней на родине в Наварре, пожертвовал на эту благородную цель свой особняк. Дом располагался на Почтовой улице, по соседству с Управлением земельных дел и цирюльней.
Директором приюта назначили Фелисио Гомеса. К тому времени ему было за сорок. Он успел сделать карьеру в Департаменте образования, которую сам же и погубил, пристрастившись к спиртному. Назначение в Баямо он воспринял, как ссылку. После бульваров Сантьяго-де-Кубы, с вынесенными в пальмовую тень столиками кафе, океанским бризом и шляпками обворожительных незнакомок, провинциальной городок показался ему пустыней. Супруга и двое его детей тоже были не в восторге от такого переезда. Гомес находил должность смешной, а жалование, прилагаемое к ней, унизительным. Он пил и злился. В доме, который ему выделил муниципалитет, постоянно вспыхивали скандалы. Супруга в тысячный раз упрекала его в отсутствии грани. Он умолял ее на коленях, в духе «что есть грань?», и звучало это так, словно он молил дать ему опору, чтобы сдвинуть Землю.
Дети приюта были живым напоминанием о его погибшей карьере и предвестием надвигающегося краха семьи. В душе он всех их ненавидел. Штатное расписание предполагало трех воспитателей, кухарку с помощницей и садовника. Гомес взял двух старух, одна из которых согласилась стряпать, договорился с одним малым о регулярной обрезке кустов и отчитался о закрытии кадрового вопроса. Разница, естественно, пошла в его карман. Воспитанников он кормил бурдой и держал в черном теле. Поскольку детское попрошайничество запрещалось законом, Гомес придумал обходной маневр. Самых младших он наряжал в праздничные платьица и по двое расставлял на площадях, парковых аллеях, а позже у ресторанов и банков – повсюду, где могла оказаться денежная, по местным меркам, публика. Они не просили. Девочки в шляпках стояли перед корзинкой с надписью «Приют Св. Касильды» и предлагали скромные букетики из фиалок с жимолостью, которую для Гомеса специально рвал один бродяга из пригорода за бесценок. Старших он, по договоренности с ремесленниками, отдавал в наем, под предлогом обучения ремеслам. При этом сам повадился объезжать частные и публичные заведения не только в Баямо, рассказывая их председателям о печальной судьбе сироток и «нашем человеческом долге облегчить участь детей». Особо впечатлительных он даже привозил с собой. Чтобы они своими глазами посмотрели, в каких тяжелых условиях приходиться вершить столь благие дела.
Словом, к концу третьего года директорства, Гомес переехал в собственный дом, обзавелся прислугой и возымел экипаж. Супруга его стала более снисходительна к слабостям мужа.
Жизнь сирот оставалась прежней. Кормили их из рук вон плохо. Нарядные платья отбирали ежевечерне, заставляя переодеваться в старые изношенные вещи. За плохую выручку ругали и наказывали. Гомес и его приспешники играли роль скорее экзекуторов, чем воспитателей. После ужина детей запирали в спальнях, где они до утра были предоставлены самим себе. Книг в приюте не было. Читать никто не умел.
В сентябре тринадцатилетняя Летисия, самая старшая из воспитанниц, сбежала из приюта и расплакавшись, рассказала первой встречной женщине, чем ее заставляет заниматься господин директор по четвергам. Дама оказалась женой известного в Баямо стряпчего. Муж ее обратился в полицию. Гомеса арнестовали в тот же день, но отпустили под письменное обещание явиться в суд. Параллельно с уголовным разбирательством, муниципалитет возбудил всеобъемлющую проверку деятельности директора приюта. Тут же всплыли хищения и растраты. Инспектора не поленились провести встречные сверки с жертвователями и меценатами и обнаружили истинные цифры присвоений. На суд Гомес не пришел. В день слушаний жена обнаружила его в петле за дверью домашнего кабинета.
Около месяца делами приюта занимался временный поверенный, а затем в доме на Почтовой улице появилась Рамона дель Торо.
Говорили, что ее далекий предок приплыл на одном корабле с Диего Веласкесом. Семья разбогатела на медных рудниках, но к концу восемнадцатого столетия стала поставлять испанской короне кадровых военных.
Рамона родилась в Гаване. Ее отец дослужился до генерала и занимал видное положение в табели о рангах гаванской знати. Оба брата Рамоны были офицерами. Поэтому, когда молодой капитан Родриго Скорта предложил юной девушке руку и сердце, ее судьба сложилась сама собой. Ей, идущей под венец, еще не было и семнадцати.
Несколько лет они прожили в предместьях Гаваны, а затем муж был откомандирован на континент, и им пришлось перебраться в Севилью. Они поселились в маленьком доме на берегу реки, утопающем в зелени сада. По утрам их будили птицы и запах цветов проникал в дом душистой пеленой вместе с дымкой. Рамона была беременна первенцем, когда Родриго отправился со своим полком в Бискайю и там, руководимый отважным генералом Бальдомеро Эспартеро, сразился с карлистами. В первом же бою он погиб. Неделю спустя ей принесли известие о смерти, и она почувствовала, как жизнь покидает ее вместе с отошедшими водами. Она помнила, что в диких муках пыталась исполнять приказы повитухи, и безумная боль разорвала ее изнутри. А когда снова открыла глаза, рядом с ней, в просторной белой комнате, залитой солнцем, сидел незнакомый мужчина в белом халате и держал ее за руку, измеряя пульс.
– Ну вот и славно, – произнес он, улыбнувшись.
Его звали Винсенте дель Торо. Он заведовал акушерским отделением Больницы Святого Доминика. И был старше ее на пятнадцать лет. После того, как привезли истекавшую кровью Рамону, ординатор приемного покоя, осмотрев ее, велел оставить в коридоре, как безнадежную. Было слишком поздно. Ребенок умер. Еще недавно связанный с ней пуповиной жизни, теперь он невидимой пуповиной смерти звал ее за собой, и она не сопротивлялась. Дель Торо буквально выцарапал ее с того света. Он знал, что поступает, как мясник, которого вскоре проклянут. Но у него не было выхода.
Период ухаживаний совпал с выхаживанием. Дель Торо тоже был вдовцом, слишком тяжело пережившим утрату, чтобы задумываться о новой партии. К тому же, врачебная этика. Эту девочку можно было понять. Она видела в нем отца. Заботливого друга. Он часто ловил себя на том, что думает о ней и испытал подлинное облегчение, когда экипаж с окрепшей пациенткой наконец выехал из больничных ворот. С глаз долой, из сердца вон.
Через два месяца он примчался в Гавану, похудевшим, с нездоровым блеском в глазах, и опустился перед ней на колено в гостиной ее отца. Старый идиот. Мальчишка. Спасший ее жизнь, навсегда отобрав будущие. Она не знала, любит ли его. Потеряв мужа и сына, она, прибывая в тумане повседневных забот, просто плыла по волнам. Он обещал позаботиться о ней. И она пересела в его шлюпку.
Винсенте дель Торо был одним из первых врачей, осознавших важность антисептики. В те времена, акушеры не редко входили в родовую после препарирования трупов, просто вытерев руки о носовой платок. Доктор Земмельвейс в Будапеште заставлял своих коллег опускать руки в раствор хлорной извести и добился внушительных результатов. Смертность рожениц от сепсиса уменьшилась в семь раз. Дель Торо предложил тщательно мыть руки щелочным мылом и протирать их спиртовой настойкой. Последствия оказались просто поразительными. Ему предложили кафедру в Парижском университете, и семья переехала в Иль-де-Франс.
Жизнь во Франции разительно отличалась от всего. По сравнению с солнечной Гаваной, медлительной Севильей, Париж бурлил. Никогда еще Рамона не видела такого количества горожан, экипажей, омнибусов. Город проглотил ее, не заметив. Поначалу Винсенте был загружен работой с утра до позднего вечера, и ей пришлось самой налаживать быт. Зато на выходных они оправлялись гулять по Монмартру, пробовали выпечку в хваленых кофейнях на бульваре Сен-Дени или на целый день уезжали в Булонский лес. Винсенте был нежен и заботлив. Его возраст придавал любви мудрость, но не мешал терять голову рядом с ней. Пропустив волан, измазавшись кремом, сев на шляпу, он хохотал вслед за Рамоной. И однажды, после такого хохота, откашлялся кровью в платок.
Оказавшись в неполные тридцать дважды вдовой, Рамона еще несколько лет прожила во Франции. Она познакомилась с Симоной Огюстен, одной из первых французских суфражисток и прониклась симпатией к их делу. Коль скоро ни женой, ни матерью ей стать решительно не удавалось, она подумала, что быть может, женщине на этом свете уготован иной удел, более благородный. К примеру, стать независимой. В этом был шарм и общественный вызов. Она стала посещать собрания, разносить прокламации. Увы. Вскоре она убедилась, что ее втянули в игру, не имеющую смысла. Все эти многословные барышни, гордые амазонки в платьях от лучших кутюрье, мгновенно теряли голос, попадая в орбиту влиятельных мужчин и, как собачонки, устремлялись на поиск удачной партии.
Там, в Париже она повстречала Рафаэлу Кайо, сестру Габриэля, друга далекого гаванского детства. Они стали переписываться. Позже к ним присоединился и сам Габриэль. В Сантьяго-де-Куба он уже несколько лет возглавлял Управление общественной помощи. Рамоне казалось, что письма, приходившие с родины, пахли манго, океанской солью и табаком. Когда Габриэль, вскользь упомянул о вакансии директора детского приюта в Баямо, синьора дель Торо поступила, как настоящая суфражистка. Она решила стать хозяйкой своей судьбы. Ее образования и опыта жизненных трагедий для этого хватало с лихвой.
V
Первое, что она сделала, – распорядилась спилить решетки на окнах. Старух рассчитали. Вместо них, по личной просьбе префекта, из монастыря Святых Блаженных Марии и Иосифа прислали двух сестер-кармелиток. Пришлось пригласить врача. Дети были завшивлены и запущены. Здание нуждалось в ремонте, поскольку со времен его первого хозяина здесь ничего не менялось. Старые обои на стенах выцвели и кое-где свисали огромными лопухами. Потолки почернели. Лепные амуры напоминали детей истопника.
Не дожидаясь ассигнований из казны, новая директриса наняла маляров за свой счет. Обои содрали и сожгли. Стены подрехтовали и окрасили в светло-кремовые тона. Когда ведра, лестницы перенесли из большого зала, и, проутюжив скребками дюйм за дюймом, а затем натерев мастикой, вернули к жизни старый паркет, – она привезла пианолу и большой книжный шкаф.
В приюте жили семнадцать сирот – девять мальчиков и восемь девочек.
Самому старшему – Хьюго Моралесу- исполнилось десять. Самой младшей – Марии-Луизе – два. Кроме них тут были оставшиеся сиротами после пожара трехлетняя Алисия Фуэнта со своим старшим братом Диего (7), Пабло (3), Бонита (6), мальчик без кисти на правой руке Даниэль (8), Филомена (9), чьи родственники умерли от холеры, Хавьер (7), Мартина (7), Мигель (6), родившаяся в тюрьме Сантина Наварро (9), Габриэла Карлос (8) с родимым пятном на пол-лица и пятилетняя Эмма.
Дети-подкидыши, больные, нагулянные, осиротевшие, нежеланные и те, кто прежде чем попасть в приют, долго бродяжничал. У многих не было фамилий.
Рамоне дель Торо удалось создать попечительский совет. После того, что натворил ее предшественник, паразитируя на человеческих чувствах, было это совсем не просто. Но на помощь снова пришел Габриэль Кайо. С его легкой руки в совете, один за другим, оказались мудрые и влиятельные люди, готовые не только сочувствовать, но и ощутимо поддержать. Что было исключительно важно, ибо бюджет, выделяемый казной, оставался весьма скромным, позволяя закрывать лишь самое необходимое.
Перемены коснулись всего. Вместо однотонной бурды из злаков с тертой морковью, необъятная, вечно смеющаяся Лусия Ортега, принесла с собой звон кастрюль и сковородок. Запахи, от которых начинало сосать под ложечкой не только у соседей клерков из Управления земельных дел и клиентов цирюльни, но и у случайных прохожих. Готовила она божественно, и что не менее важно – умела сочетать и разнообразить. От мадурос – сладких жареных бананов – до рагу из бычьего хвоста и флангов с подливами, которые дети вылизывали до глянца. Однажды Рамона даже попросила ее уменьшить порции. Синюшность лиц прошла, суставы спрятались. Дети начали бродить, как сонные мухи. Дальше нужно было двигаться спокойно и размеренно.
Внутренний двор приюта, который раньше напоминал пустынный кастильский пейзаж, обрамленный редкой порослью самшита, претерпел невиданные метаморфозы. Старик Эрнесто, всю жизнь проработавший в имении у графа Вальдеса, и ушедший на покой по возрасту, был рад применить свои знания и оставшиеся силы в камерном пространстве. Он работал не покладая рук. Земля была сухой. Бог знает, сколько тачек с жирной почвой ему пришлось привезти и мульчировать, прежде чем вокруг дававшего целительную тень и прохладу столетнего платана зазеленел сочный, английского типа, газон. По всему периметру он разбил цветники, клумбы и альпинарии. Сохранив при этом место для игр и прогулок. Древняя, покосившаяся беседка в ближнем углу была отремонтирована, перекрыта черепицей и заново покрашена. Появились не виданные прежде птицы. Ранним утром и глубокой ночью сад наполнялся благоуханием цветов. Эрнесто подбирал их не столько за броский вид, сколько за обладание особым, неповторимым ароматом. В этом неземном изобилии бабочки, прекратив порхать, надолго задумывались, смежив крылья, а жадные пчелы теряли разум.
Окна угловой комнаты, выходившие в сад, были постоянно открыты. Кто-то из посетителей, приглашенных Гомесом, когда-то назвал ее Комнатой скорби. В этой части приюта жили дети-инвалиды и присматривавшие за ними монахини.
Самым тяжелым из них был девятилетний Хуан, прозванный детьми Королем за то, что никак не мог расстаться с бумажной короной, надетой ему много лет назад в шутку на Рождество. Картон давно обветшал. Позолота на нем стерлась. Но любые попытки лишить его короны заканчивались истерикой. Худой как жердь, он не держал головы, не мог сосредоточить взгляд, и конечности его жили своей, не связанной между собой, жизнью. Мозг трехмесячного ребенка остался в нем навсегда. Хуан никогда не покидал кровати, монахиням приходилась ежедневно, по нескольку раз мыть его и перестилать постель. Говорить он не мог. Кормили его с ложки. Хуже всего было ранней весной и осенью, когда болезнь обострялась. В такие дни он истерил, пока сестра не давала настойку беладоны и он в изнеможении проваливался в забытье. Обычно же он вел себя тихо. Иногда ранним утром из комнаты доносились стоны – это Хуан радовался солнечным бликам на потолке.
Жившему рядом с ним Фернандо исполнилось восемь. Это был умный, любопытный и наблюдательный мальчик, который не мог ходить. Нижняя часть его тела была парализована. Несмотря на это, он не сдавался, стараясь все делать сам. Он умел мастерить поделки из дерева, а когда Рамона научила его читать, стал глотать книги одну за другой, постоянно выпрашивая добавки.
Третьим был застенчивый Паскуаль. В свои семь лет, он являл образец послушания. Его можно было посадить на стул и, вернувшись через три часа, застать там же, в той же позе, глядящим перед собой. Паскуаль был нем. Припадки Хуана он переносил стоически, с полным безразличием. Как впрочем, относился ко всему, что происходило вокруг. Наблюдая за ним, Рамона предположила, что за этим непритязательным фасадом кипит какая-то иная жизнь. Однажды она принесла бумагу, карандаши и оставила на подоконнике. Без изменений. Тогда она, у него на глазах, нарисовала контуры кота. А когда вернулась на следующий день, кот был педантично окрашен в голубой цвет. С тех пор Паскуаль мог рисовать, не переставая. Другой его страстью стало собирание открыток. Любой рисунок, разрезанный на сотни мелких кусочков, он мог сложить за несколько минут, даже если смотрел на него в первый раз. Он видел то, чего не могли видеть другие.
Комната монахинь располагалась по соседству. Старшая, методичная, недалекая, но трудолюбивая Урсула ухаживала за лежачими заботливо и дотошно. Благодаря ей удалось победить доставшиеся в наследство от времен Гомеса пролежни Хуана, из-за которых тот едва не погиб. Сестра Урсула носила очки. Вставала она ни свет ни заря. Час выстаивала на коленях в молитве. Затем еще около часа посвящала чтению сборника поучений. Компедиум был большим и тяжелым. Сестра Урсула не могла носить его с собой, чтобы читать при случае. Поэтому, оказавшись в приюте, она, каждое утро делала заметки на отдельных листах, которые стопкой прятала в переднике. Если кто-либо из воспитанников начинал донимать ее заумными вопросами или высказываться неподобающе, стопка тут же опускалась на голову несчастного. При этом сестра строго напутствовала: не богохульствуй!
Младшая из сестер, Изабель, наоборот была легка и мечтательна. Девочки с первого дня потянулись к ней. Когда Рамона привезла из больницы трехлетнюю Лию – слепого, безногого, запущенного ребенка, почти не говорившего по-испански, которого моасские цыгане возили по ярмаркам и церковным папертям, а когда она заболела пневмонией, бросили умирать в кустах на городской окраине – Лия прижалась к Изабель всем, чем могла. И не хотела отпускать. Она ела и спала рядом с ней. Даже после того, как в комнату к сестрам поставили кровать для девочки, она засыпала с рукой, забытой на чужой подушке.
Рамона не унималась. Обновив стены, покончив с голодом и приодев воспитанников за счет попечителей, нужно было как-то менять досуг. Дети, большей частью, слонялись без дела или играли в глупые уличные игры. Это никуда не годилось. Инспекторат общественных заведений помог ей раздобыть старые, но все еще пригодные, школьные парты. На стене в одной из комнат появилась большая черная доска. Рамона стала учить их грамоте. Поскольку прилежанием никто из них не обладал, первые уроки превратились в пытку, как для учителя, так и для учеников. Писать никто не хотел. Они предпочитали слушать. То и дело вспыхивали перепалки, и Рамона, срывая голос выгоняла заводилу вон. Малыши нередко давали фору старшим. В целом же, обучение продвигалось медленно и бессистемно. Однажды Рамона пришла к осознанию того, что разорваться она не сможет. Слишком много дел приходилось ей вести. Всюду поспевать не удастся. Приюту нужен был учитель, который проводил бы занятия регулярно, по основным школьным дисциплинам.



