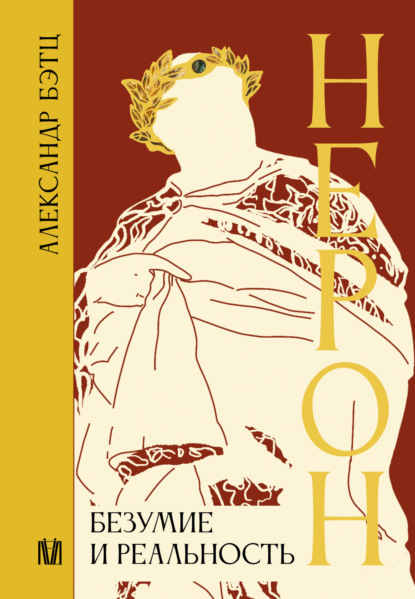
Полная версия:
Нерон. Безумие и реальность
Победителем в этой системе был император, который стал центральной точкой отсчета для реализации любых политических амбиций. Только он решал, кому будет разрешено сохранить latus clavus, пурпурную кайму, которой была оторочена сенаторская туника, получить должность или лишиться ее. Таким образом, удаление или, напротив, близость к принцепсу часто определяли факты биографии сенаторов и их близких. Тем не менее из-за республиканских традиций, перенятых новым порядком, отношения между императором и сенатом оставались решающими на протяжении всей императорской эпохи, причем в обоих направлениях. Это особенно хорошо видно из истории Нерона.
Дополнительный дисбаланс в отношениях с сенатом возникал по мере того, как другие социальные группы все чаще получали доступ к власти и привлекались для выполнения деликатных задач в армии, императорской администрации и городском самоуправлении. Уже Август сделал серьезную ставку на ordo equester, сословие эквитов, или всадников, второе по значению сословие римского общества, представителям которого полагалось иметь минимальный капитал в 400 000 сестерциев[131]. Деятельность всадников включала финансовые и торговые операции, крупные строительные контракты – короче говоря, крупное предпринимательство практически любого толка. Подобными сделками занималась бо́льшая часть всадников, примерно 20 000 человек. Однако небольшой процент пошел на государственную службу, где они заняли офицерские должности в армии и административные должности в непосредственном окружении принцепса или в провинциях. Одним из них был Понтий Пилат – префект из всаднического сословия в Иудее между 26 и 36 годами, в период правления Тиберия стяжал бессмертие благодаря своей роли в Страстях Христовых.
Высшие всаднические должности в Риме занимали два префекта претория, командиры недавно созданной лейб-гвардии императора. Вполне вероятно, что Август предусмотрительно воздержался от передачи наиболее близких к нему мечей в руки сенаторов. Тем не менее в последующие столетия преторианцы достаточно часто создавали и уничтожали императоров. Калигула был первым, кто пал под их ударами в 41 году.
Пиком карьеры всадника была высокооплачиваемая должность praefectus Aegypti, префекта Египта. Земли на берегах Нила обладали огромным экономическим потенциалом, который не стоило раскрывать сенаторам, занимали центральное место в снабжении Рима зерном и в целом считались сложным участком, полным чудес и суеверий, из-за своих великих – и вовсе не римских – традиций[132]. Осторожность Августа дошла до того, что без предварительного согласия императора сенаторам въезд в Египет был запрещен[133].
Рабы и вольноотпущенники
В самом низу социальной иерархии находились рабы. Как и во всех древних обществах, рабство в Римской империи было распространено повсеместно. По словам географа Страбона, на огромном невольничьем рынке Делоса в Эгейском море за один день могли продать до 10 000 рабов[134]. По некоторым оценкам, до 40 % всего населения Италии во времена Августа составляли рабы[135]. Даже если это число было меньше, неудивительно, что никогда не предпринималось никаких серьезных усилий, чтобы упразднить такое положение вещей – ни по нравственным причинам, ни тем более по практическим. Большинство рабов доставлялись в Италию в качестве военнопленных в ходе расширения римского владычества в Средиземноморском регионе начиная со II века до н. э. Поскольку дети рабынь также рождались несвободными – независимо от отца – рынок пополнял себя сам[136].
Раб был живой вещью, принадлежавшей человеку той эпохи, как и другое имущество: участок земли, инвентарь, мебель, скот. Он продавался и передавался по наследству, личностью в юридическом плане он не являлся. В труде Катона Старшего о рациональном управлении поместьем расчеты рационов для животных и рабов неслучайно помещены друг за другом. Старые волы, а также недоеденный скот и овцы, продолжает Катон, подлежат продаже так же, как и негодные повозки, старые инструменты, дряхлые и больные рабы, а также все остальное, что бесполезно в хозяйстве[137].
У всех рабов была общая участь – выполнять неоплачиваемую работу. Однако в этих рамках виды работ и конкретные формы использования рабов были весьма разнообразны. Они варьировались от работы в городе, которая предполагала самые разные обязанности, тяжелой работы в сельском хозяйстве и непредсказуемого существования между славой и смертью в качестве гладиатора до карьеров и рудников, где рабов не ожидало ничего, кроме медленного угасания.
Кроме того, рабы обладали весьма разнообразными навыками. В зависимости от места рождения и обстоятельств потери свободы цивилизационные различия выходили на передний план. Когда товар выставлялся на невольничьем рынке, это не бросалось в глаза. Здесь можно было увидеть изможденные, изломанные тела людей, похищенных в самых невероятных местах, унесенных войной за пределы родных рубежей, брошенных в сточные канавы в городских центрах Востока. Глядя на большинство из них, невозможно было определить, кем они были в прошлой жизни – уважаемыми гражданами или обычными преступниками. Стать рабом было легко, даже когда со времен Августа условия содержания рабов стали значительно лучше, чем в мрачные годы республики. Опытные работорговцы тем не менее понимали, как правильно сочетать спрос и предложение. Грубого киликийского пирата вряд ли удастся перевоспитать, отправив его работать при дворе знатного сенатора. А грека с определенным складом ума и хотя бы элементарным образованием навсегда отправляли под землю в шахту, где добывали свинец, только в том случае, если это было абсолютно неизбежно.
В соответствии с широким спектром навыков цены на рабов сильно разнились. В то время как раб без особой квалификации уже стоил 1000 сестерциев[138], Сенека в период правления Нерона оценивал раба, способного воспроизводить наизусть стихи греческих поэтов Гомера и Гесиода в устной и письменной форме, в 100 000 сестерциев[139]. Рабы нередко были атрибутами статуса господина.
В домах богатых римлян иногда насчитывались сотни рабов. После того как в 61 году римский сенатор Луций Педаний Секунд был убит одним из своих рабов, все рабы, которые жили под крышей убитого, но не сделали ничего ради его спасения, были приговорены к смертной казни. Тацит упоминает их число как бы невзначай, но, по-видимому, оно не было из ряда вон выходящим: речь шла о 400 людях[140].
Количество рабов, находившихся на службе у императора и императорской семьи, значительно превышало это число. В частности, благодаря надписям, высеченным на камне, судьбы многих рабов из familia Caesaris становятся видимыми, но лишь на мгновение, подобно яркому блику света, часто в момент смерти, в то время как жизнь упомянутых лиц остается сокрыта мраком неизвестности: например, там встречается Паэзуса, парикмахер Октавии, дочери Клавдия, а позже жены Нерона. Ее сожитель Филет, также раб Октавии и ответственный за императорскую серебряную посуду в должности ab argento, подарил Паэзусе, умершей в возрасте 18 лет, мраморную надгробную плиту с соответствующей надписью[141].
Не только при императорском дворе разнообразие и объем трудовых обязанностей привели к тонкой дифференциации и, таким образом, к формированию сложной иерархии внутри сообщества рабов. Гротескно преувеличенный, но все же вполне достоверный в своей хореографии пир вольноотпущенника Трималхиона, описанный поэтом Гаем Петронием Арбитром в его романе «Сатирикон» в эпоху Нерона, дает представление о задачах, которые за обычным ужином выполняют десятки рабов и рабынь[142].
Массовое использование рабов было обычным делом и для сенаторских латифундий в Италии. Рабы исполняли обязанности полевых рабочих, виноградарей, пастухов или слуг в больших сельских особняках. Вилик, управлявший поместьем в отсутствие хозяина, как правило, тоже был рабом[143]. В частности, предприятиям с высокой долей полевых работ требовалось большое количество рабов. Согласно эмпирически выведенному правилу, на каждые 100 гектаров – довольно небольшое поместье[144] – приходилось использовать около 50 рабов[145]. В 8 году до н. э. крупный землевладелец Гай Цецилий Исидор оставил в своем завещании около 260 000 голов крупного рогатого скота, 60 миллионов сестерциев и 4116 рабов[146].
Как бы ни различались сферы применения труда рабов, их перспективы также были несопоставимыми. Рабы-шахтеры обычно умирали в течение нескольких лет, отравленные парами свинца или предельно истощенные от бесконечных физических нагрузок и недоедания. С другой стороны, личные и домашние рабы часто выстраивали близкие человеческие отношения с dominus или domina, что в какой-то момент приводило к реализации цели всей жизни – освобождению. Предварительными его условиями являлись безупречная служба и зачастую peculium – сумма[147], которую раб мог получить от хозяина или накопить для выкупа[148].
Освобожденные рабы оставались в неформальной зависимости от бывшего хозяина[149]. Юридически их связь была аналогична связи между отцом и сыном и включала право бывшего хозяина наказывать вольноотпущенника. При Нероне в 56 году велись дискуссии о том, следует ли бывшим хозяевам вновь порабощать вольноотпущенников, которые вели себя недостойно[150]. Вольноотпущенники публично поддерживали бывшего dominus как сторонники на выборах. Они также принимали его родовое имя с добавлением libertus или liberta. Но все это было вполне терпимо ввиду тех перспектив, которые открывал новый социальный статус: вольноотпущенникам разрешалось жениться, а их сыновья уже с рождения являлись римскими гражданами[151].
Вольноотпущенники работали во всех сферах экономики и, в зависимости от своего происхождения, могли нажить значительное богатство. Это относилось, в частности, к некоторым вольноотпущенникам, принадлежавшим к императорской фамилии[152]. Такой субъект, как вышеупомянутый Нарцисс, вольноотпущенник Клавдия, сумел накопить в результате деятельности в качестве советника и работы управляющим императорской канцелярией невероятное состояние в 400 миллионов сестерциев[153]. Клавдия Акта, давняя возлюбленная Нерона, добилась успеха в качестве предпринимательницы. Она владела кирпичным заводом на Сардинии, который также производил амфоры для хранения различных пищевых продуктов, и загородными поместьями в современных Веллетри и Поццуоли. В свою очередь, на liberta Акту работали десятки рабов и вольноотпущенников[154]. С моральной точки зрения это не было противоречием. В мире, где рабство было повсеместным явлением, даже бывшая рабыня не могла позволить себе идти против сложившихся обстоятельств.
Многие свободнорожденные римляне считали liberti декадентствующими парвеню, лишенными образования и вкуса. Они упускали из виду, что вольноотпущенники часто были дееспособными и трудолюбивыми людьми, которым приходилось пробиваться вверх по карьерной лестнице без какой-либо помощи со стороны семьи. Несмотря на постоянную стигматизацию их как бывших рабов, некоторые вольноотпущенники, как уже упоминалось, приобрели наибольшее влияние в период ранней империи, поскольку Калигула, Клавдий и, не в последнюю очередь, Нерон чувствовали себя чрезвычайно комфортно в окружении преданных liberti. Правители молчаливо признавали, что доступ к телу часто был возможен только через вольноотпущенника, который занимал высокое положение в иерархии императорского двора. Преодоление этой преграды иногда даже сенаторам стоило немалых взяток, какой бы недостойной ни казалась им подобная сделка.
Рим и plebs urbana
Несмотря на расширение империи, начавшееся со времен Августа, центром мира оставался Рим. В раннюю имперскую эпоху этот город был подобием Римской империи: красочный, жестокий, шумный и грязный плавильный котел культур, в котором проживало около миллиона человек самых разных оттенков кожи и религий, самых разных социальных статусов. Мир еще не знал городских агломераций такого масштаба, и на протяжении веков Рим оставался совершенно уникальным городом. Только в ходе индустриализации аналогичных размеров достиг Лондон в конце XVIII века[155].
Рим сочетал в себе невероятное богатство и ужасающую нищету в тесном пространстве. На холмах и их склонах располагались дома богачей. В долинах, на приличном расстоянии от суеты, Целий или Квиринал обрамляли величественные особняки аристократов и богатых карьеристов. Палатинский холм был закреплен за императорами со времен Августа. Там были цветущие сады и водопровод, роскошь праздничных столов и пресловутый декаданс. Под ними, в низинах между холмами, в Субуре, в районе Circus Maximus (Большого цирка) или «за Тибром» (ныне район Трастевере), город приобретал иной характер. Здесь царили насилие, преступность, болезни и грязь.
Пульс города бился на улицах. Богатые сенаторы отправлялись туда, где вершилась политика, в надушенных паланкинах в сопровождении энергичных рабов, часто не владевших латынью, но зато ловко орудовавших дубинкой, прокладывая путь своим господам. Искалеченные нищие, возможно, пострадавшие в ходе войн империи и с незапамятных времен проживавшие на улицах Urbs[156], в лохмотьях бродили по переулкам.
Из многочисленных продуктовых лавок, расположенных вдоль плотно застроенных улиц, доносился запах кровяных колбас и горячего рубца. В полуденную жару он смешивался с вонью кожевенных мастерских, скотобоен и ремесленных лавок, образуя мерцающее пахучее марево, проникавшее в поры. На улицах было шумно. Мулы ржали, люди кричали, повозки, запряженные волами, грохотали по мостовой. Слышались смех, споры и гогот пьяниц. Из цирка над крышами домов проносились крики разгоряченной толпы[157].
Городское население Рима, не принадлежавшее к знати, plebs urbana, в имперский период практически утратило свое политическое влияние[158]. После Тиберия народные собрания больше не созывались в качестве органов голосования по важным политическим вопросам, но сохранили функцию конфирмации, или утверждения принятого постановления, что носило скорее символический характер (например, при присуждении императору tribunicia potestas). Привилегия римского гражданства, которая, по крайней мере, освобождала людей от уплаты прямых налогов[159], теперь распространялась на всю Италию[160]. С юридической точки зрения ничто не отличало свободного крестьянина, проживавшего в долине реки По[161], от владельца гончарной мастерской в Риме. Богатый работорговец в Помпеях был таким же римским гражданином, как и почти нищий учитель в Патавии (совр. Падуя). Обязательными условиями были: рождение свободным и мужской пол.
Для многих бедняков Рим оставался проклятым местом, в котором не было никаких возможностей для политического самовыражения. Это были те, кому сатирическое сокращение насущных потребностей плебса до сакраментального «хлеба и зрелищ», panem et circenses, на самом деле казалось заманчивым посулом[162]. Август лично взял на себя заботу о нуждающихся и регулярно обеспечивал раздачи зернового хлеба из государственных амбаров. Во 2 году до н. э. подобные раздачи получили около 200 000 горожан[163]. Чтобы прокормить семью из нескольких человек (или даже одного трудолюбивого взрослого), такого пайка было недостаточно – это была лишь благотворительная помощь, а Риму было далеко до «государства всеобщего благосостояния».
Всеобъемлющее чувство сопричастности и самосознание plebs urbana не могло сформироваться из-за его неоднородности, и совместные организованные акции в публичном пространстве также происходили сравнительно редко. Однако дефицит продовольствия (прежде всего нехватка зерна), безусловно, вынуждал людей выходить на улицы. В 51 году Клавдий с трудом скрылся от разгневанной толпы, с которой лицом к лицу столкнулся на форуме из-за сорванных поставок зерна[164]. Подобные выражения чувств оказывали воздействие на власть и, таким образом, приобретали политическое измерение[165].
Редкий случай явно согласованных совместных действий римских граждан, не принадлежавших к элите, был связан со смертью Германика, деда Нерона. После смерти Германика в октябре 19 года сенат одобрил все мыслимые почести, в том числе предложение plebs urbana о размещении статуй Германика в триумфальном облачении в ряде общественных мест. Plebs urbana, как прямо указано в постановлении сената, взял на себя все расходы[166]. Германик был настоящим народным героем своего времени, его смерть травмировала целое поколение.
В аристократической литературной традиции существует строгое разделение между сословиями. Термин plebs обычно употребляется в уничижительном смысле, и императоры, которые в течение определенного периода времени заигрывали с этими «простыми» слоями так же виртуозно, как и Нерон, автоматически вызывали подозрение у античных авторов. Однако, несмотря на оскорбительные замечания интеллектуалов, уже Август, который был гораздо более чутким к любым сентенциям писателей, нежели Нерон, интуитивно понимал, что завоевание симпатий не только аристократии, но и городского плебса придаст его положению бо́льшую устойчивость. Рим был городом императора. Его постройки, раздачи и зрелища стали неотъемлемой частью повседневной жизни многих римлян, и, когда это считалось целесообразным, они принимали их от имени императора. Наряду с сенаторами, плебеи были вторым столпом, на котором базировалось признание принцепса и его роли. Нерон это не выдумал[167].
Солдаты
В результате победы Октавиана в гражданской войне впервые за 500 лет во главе римской армии стоял единоличный и бесспорный главнокомандующий. Серьезная проблема поздней республики, заключавшаяся в том, что в принципе любой политик мог получить командование армией и, таким образом, добиваться личных целей силой оружия, была решена благодаря выдающемуся положению Октавиана во власти. Август больше не выпускал единоличную военную власть из своих рук. Она составляла важнейшую основу властных полномочий всех римских императоров.
Чтобы справиться с задачами в изменившихся реалиях, Август коренным образом реформировал армию. Самым важным нововведением было то, что на смену республиканскому ополчению пришла профессиональная армия. Это было дорого – особенно с учетом выходного пособия для ветеранов – и поглощало значительную часть государственных доходов. Августу потребовалось несколько лет, чтобы создать жизнеспособную модель финансирования. В итоге нашлось компромиссное решение, включающее, с одной стороны (и прежде всего), налоговые поступления из провинций, а с другой – недавно введенный налог на наследство, который платили римские граждане[168].
Основной задачей новой постоянной армии была оборона границ. Август отправил в общей сложности 28 легионов в императорские провинции, где они среди прочего охраняли границы вдоль великих рек Евфрата, Дуная и Рейна[169]. Около 150 000 солдат жили в укрепленных лагерях, к которым за короткое время присоединились гражданские поселения. Лагеря легионов, такие как Могонциак (совр. Майнц), Бонна (совр. Бонн) или Карнунт под Веной, быстро превратились в региональные центры, где происходил активный обмен между римскими солдатами, провинциалами и варварами, обитавшими за пределами империи.
Солдаты ежегодно присягали на верность императору, sacramentum militare – в общей сложности до 20 раз, что соответствует сроку службы легионера, установленному в 6 году[170]. Принцепс демонстрировал свое «двойное» присутствие посредством выплаты жалования и специальных донативов, например в день рождения императора, поскольку на монетах был отчеканен его портрет. Еще сильнее присутствие императора ощущалось в лагерных святилищах, где наряду со штандартами почиталось и его изображение. И наоборот, несмотря на дистанцию и тот факт, что подавляющее большинство солдат никогда не видели его во плоти и крови, Август говорил о «своей армии»[171]. В этом не было ничего плохого, поскольку император лично назначал многих центурионов и трибунов, но главное – каждого командира легиона[172]. Все офицеры в итоге были всего лишь подчиненными, состоявшими под верховным командованием принцепса. Все императоры династии Юлиев-Клавдиев подолгу пребывали в лагерях провинциальных армий и таким образом укрепляли личную связь с войсками. Первым, кто не уважил солдат империи личным присутствием, был Нерон. Тем не менее он также неоднократно демонстрировал свою близость к армии, например с помощью изображений на монетах с военной символикой.
Элитные военные подразделения Римской империи располагались не в провинциях, а в Италии, причем со времен Тиберия исключительно в Риме. Во 2 году до н. э. Август создал вышеупомянутую преторианскую гвардию численностью 4500 человек, которая, помимо прочего, отвечала за личную безопасность императора и его семьи: целая когорта (500 человек) круглосуточно охраняла императорский дворец. Кроме того, преторианцы сопровождали принцепса в поездках, а также использовались в качестве сил быстрого реагирования в чрезвычайных ситуациях и элитного подразделения в завоевательных войнах[173]. После того как Август распределил преторианцев по Риму и близлежащим городам (как минимум одна когорта первоначально базировалась в Остии, тогдашнем порту Рима), по рекомендации префекта претория Сеяна Тиберий в 23 году разместил гвардию в Риме[174]. На северо-востоке города, на холме Виминал, теперь возвышался лагерь преторианцев Castra Praetoria – мощное сооружение, окруженное кирпичной стеной, размером 440 на 380 метров[175].

Рис. 3. Шесть преторианцев на рельефе арки Клавдия, возведенной в честь покорения Британии. Благодаря преторианцам Клавдий стал императором. Рим, 51–52 гг.
Carole Raddato/Flikr.com по лицензии (CC BY-SA 2.0)
У полководцев всегда были телохранители, но постоянная дислокация войск в Риме в мирное время была в диковинку. Помимо огромной армии, расположенной в провинциях, преторианцы, в частности, продемонстрировали военную монополию императора всем, кому следовало о ней знать (рис. 3).
За свои особые заслуги преторианцы могли рассчитывать на достойное вознаграждение, поэтому им платили значительно больше, чем солдатам провинциальных армий (3000 сестерциев в год), кроме того, они чаще получали большие денежные подарки[176]. Статус элитного подразделения не в последнюю очередь проявлялся в размещении гвардейцев. В Castra Praetoria было больше удобств и пространства, чем в обычном военном лагере[177]. Но даже во время походов когорта преторианцев располагалась лагерем площадью в два раза больше площади обычной когорты и в палатках бо́льшего размера[178].
Во главе преторианской гвардии стояли два префекта из сословия всадников, каждой из девяти (во времена Нерона – из двенадцати) когорт командовал трибун. Надписи дают представление о биографиях отдельных офицеров, например Гавия Сильвана, который участвовал в заговоре Пизона против Нерона в 65 году: заняв должность старшего центуриона (primipilus[179]) в заслуженном legio VIII Augusta, дислоцированном на берегу Дуная, Сильван переехал в Рим, где в ранге трибуна командовал когортой вигилов, а позже городской когортой. Его военная карьера достигла своего апогея, когда он стал трибуном 12-й преторианской когорты[180].
От Атлантики до Евфрата
В 37 году, в год рождения Нерона, Римская империя занимала площадь около пяти миллионов квадратных километров[181]. Когда солнце садилось в городке Олисиппо Фелицитас Юлия (ныне Лиссабон) в провинции Лузитания, на востоке река Евфрат уже несколько часов как была погружена в темноту. Самая северная точка римской территории находилась в устье Рейна в провинции Белгика. На юге Римская империя простиралась до первого порога Нила, недалеко от того места, где сейчас находится Асуан, в императорской провинции Египет.
При Августе наступили новые времена в отношениях центра с провинциями. Понимание империи на более высоком уровне проявилось значительно сильнее, чем в республиканские времена. В эпоху республики римское господство расширялось в результате не связанных между собою акций. Каждая провинция существовала сама по себе, изолированно и исключительно в интересах Рима. Драконовские налоговые системы прессом давили на провинции и наполняли карманы немногих бенефициаров в столице богатством и роскошью. Империя стала ареной для войн, мотивированных внутренней политикой. Характерно, что решающие сражения гражданской войны римские полководцы давали не в Италии, а в Греции и Северной Африке.
Установившийся в империи мир позволил Августу сосредоточиться на внутренней политике, на укреплении империи и стабилизации ее границ. С этой целью на всем протяжении своего долгого правления он предпринимал масштабные военные и дипломатические действия, которые в очередной раз значительно расширили сферу римского влияния и заложили основу для постепенного нивелирования Римской империи в последующие столетия[182].



