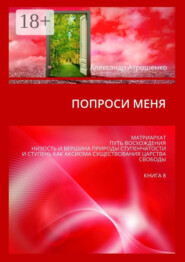
Полная версия:
Попроси меня. Матриархат. Путь восхождения. Низость и вершина природы ступенчатости и ступень как аксиома существования царства свободы. Книга 8
Новый политический кризис начался с отставки 2 июля с Министерских постов кадетов, не согласных с намерением министров-социалистов* признать до Учредительного собрания автономию Украина. Сами Кадеты расценили свой выход из Временного правительства как знак протеста против его нерешительных действий. Большего драматизма ситуации придало стихийное выступление солдат 1-го пулеметного полка, недовольные тем, что Съезд Советов призвал их к отправке на фронт. Придя 3 июля в 10 часов вечера к Таврическому дворцу, временной резиденции Петросовета, они вначале услышали выступление большевистских лидеров Зиновьева и Каменева с призывом, выработанным еще на дневном заседании ЦК, не допускать самостоятельных вооруженных выступлений. Однако уже, в 23 часа 40 минут того же дня на совместном заседании второй Петроградской общегородской конференции РАСДРП (б) и делегатов от заводов и воинских частей была принята новая резолюция: «Создавшийся кризис власти не будет разрешен в интересах народа, если революционный пролетариат и гарнизон определенно и немедленно не заявят о том, что они за переход власти к советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. С этой целью рекомендуется немедленное выступление рабочих и солдат на улицу для того, чтобы продемонстрировать выявление своей воли!»141
Ленин в это время прибывал в Финляндской деревушке Нейвола (совр. Горьковское) и без него другие лидеры партии «рулили» как могли, то есть когда началась новая волна уличных беспорядков они сразу стали призывать к обычному ленинскому лозунгу – вся власть Советам.
Разбуженные революционной агитацией большевиков восставшие пулеметчики послали своих представителей в другие части с предложением выступить против Временного правительства. Солдаты столичного гарнизона, еще в марте гарантированные от участия в военных действиях, охотно откликнулись на предложение «поддержать своих товарищей». Не желавшие отправляться на фронт солдаты и матросы стали стягиваться в Петроград, направляясь к штабам своих вождей – к Петросовету и ЦК РСДРП (б). Назревала массовая акция неповиновения Временному правительству. 4 июля демонстрация, в которой принимало участие более 400 тыс. рабочих, солдат и матросов направились к Таврическому дворцу с требованием передачи власти в руки Советов. Однако ЦИК Советов отклонил требования и обвинил большевиков в попытке военного заговора.
Тем временем о событиях в Петрограде извещают Ленина. Прибыв в столицу, он активно включается в водоворот событий, но его политическая активность, в этот острый для власти момент, на удивление очень умеренна. На балконе особняка Кшесинской поочередно появлялись сначала Луначарский, а затем Ленин, которые приветствовали кронштадтцев «как красу и гордость революции»142. На балкон вынесли красные знамена с надписями: «Центральный комитет Российской социал-демократической [рабочей] партии», «Петроградский комитет Российской] соц [иал] -дем [ократической] раб [очей] партии» и знамя Военной организации той же партии. Приветствуя кронштадтцев от имени Центрального комитета партии большевиков, «Свердлов указал, что Центральный комитет никогда не сомневался в том, что в исторические минуты авангард русской революции, истинные кронштадтские революционеры, придут на помощь петроградскому пролетариату, активно выступившему за немедленное свержение министров-капиталистов, играющих злую роль во Временном правительстве и тормозящих дальнейшее победоносное»143 шествие русской революции. Луначарский произнес длинную зажигательную речь, заметив: «Верьте, ваш голос – это голос всего русского народа, это требование дня, это требование всей России, мы не должны останавливаться ни перед какими средствами, чтобы заставить имущих классов подчиниться воле демократии»144. Выступление Ленина было еще более демагогично. Сказав, что он не здоров, «Ленин далее заявил, что с радостью ему приходится констатировать, как постепенно, на первый взгляд, туманные и отрывочные идеи претворяются в жизнь, как лозунг „Долой 10 министров-капиталистов“, так недавно выдвигавшийся только как политический лозунг, сегодня уже становиться фактом действенным, воспринимаемым большими массами революционного народах». В «заключение Ленин высказал уверенность, что сегодняшнее выступление лучших сынов революционного пролетариата и солдат приведет к осуществлению давнишней мечты Центрального комитета и что власть теперь, наконец, перейдет к истинным представителям русской демократии – Советам рабочих и солдатских депутатов»145.
Н. Н. Суханов (Гиммер) отмечал: «От стоящей перед ними, казалось бы, внушительной силы Ленин не требовал никаких конкретных действий, он не призывал даже свою аудиторию продолжать уличные манифестации, хотя эта аудитория только что доказала свою готовность к бою громоздким путешествием из Кронштадта в Петербург. Ленин только усиленно агитировал против Временного правительства, против социал-предательского Совета и призывал к защите революции, к верности большевикам»146. Зиновьев вспоминал причину двусмысленного положения Ленина: «В июльские дни весь наш Ц. К. был против немедленного захвата власти. Так же думал и Ленин. Но, когда 3 июля высоко поднялась волна народного возмущения, тов. Ленин встрепенулся. И здесь, наверху, в буфете Таврического дворца, состоялось маленькое совещание, на котором были Троцкий, Ленин и я. Ленин, смеясь, говорил нам: а не попробовать ли нам сейчас? Но он тут же прибавлял: нет, сейчас брать власть нельзя, сейчас не выйдет, потому что фронтовики не все еще наши, сейчас обманутый Либерданами фронтовик придет и перережет питерских рабочих»147. Ленин здесь был искренним, но отчасти. Он прекрасно понимал, что взять власть переворотом одной партией большевиков не получится, эта удача будет быстро опрокинута прибывшими с фронта войсками. Ему нужна была моральная поддержка более мощной организации, то есть Советов. Брать власть для Советов в данный момент бессмысленно, во-первых, Советы сами ее не желали, и во-вторых, самого Ленина в Советах еще нет, пока лишь только проводилась работа по увеличению в ней авторитета и влияния партии большевиков.
То, что Советы должны были послужить инструментом прихода к власти большевиков, не до конца понимали другие лидеры партии, принимая ленинский лозунг, «Вся власть Советам», за правдивую и конечную точку в его стремлениях. Тем не менее, большевики поддержали солдатское выступление, вначале как революционную грозу, а после приезда Ленина перестраивая его на мирный, организованный характер. В своем воззвании от 4 июля они вновь подчеркнуто поддерживали Советы: «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВЛАСТЬ СОВЕТОВ! …Нужна новая власть, которая в единении с революционным пролетарием, революционной армией и революционным крестьянством решительно взялась бы за укрепление и расширение завоеваний народа, такой властью может быть только власть Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Вчера революционный гарнизон Петрограда и рабочие выступили, что провозгласить этот лозунг: „Вся власть Совету!“»148. В глазах меньшевиков, по выражению Б. О. Богданова, присоединение к движению большевиков и выдвижение лозунга «Вся власть Совету», придало выступлению «несколько организованный характер». «Большевики вмешались в это движение, – говорит он, – дали лозунги и благословили самоё движение», содействовали привлечению к нему «симпатий рабочих масс», которое до этого можно было отнести «к бунтарству, к вспышкопускательству примитивных легкомысленных людей»149.
Народное выступление 3—4 июля, прошедшее во многих городах России, закончились трагически кроваво. Демонстрация в Петрограде была разогнана правительственными силами, в результате чего погибло 56 человек и около 650 ранено. Желая переломить настроение Петроградского гарнизона, министр юстиции Временного правительства П. Н. Переверзев опубликовал часть собранного материала против Ленина с обвинениями его в шпионаже в пользу Германии. Однако независимо от газетных обличений поздно вечером руководство большевиков приняло решение о прекращении демонстрации. Временного правительство перевело столицу на военное положение, 5 июля в город выступили вызванные с фронта войска.
О событиях 3—4 июля сообщал прокурор Петроградской судебной палаты: «Следствием выяснено, что вооруженному возстанию предшествовали систематические митинги в войсковых частях, на которых произносились речи, призывающие войска к возстанию… Разследование самаго факта вооруженнаго возстания 3-5-го июля показало, что оно возникло и протекало по указаниям центрального комитета большевиков»150. Член военной организации большевиков В. И. Невский (Ф. И. Кривобоков) писал в 1932 г.: «Некоторые товарищи в настоящее время задаются вопросом о том, кто был инициатором июльских событий – ЦК или Военная организация или движение вспыхнуло стихийно. / …Конечно, движение созревало в глубине самых широких масс, недовольных политикой буржуазного правительства и жаждавших мира. Конечно, это движение, вызванное объективными условиями революционного процесса, было взять под руководство ЦК через нашу военную организацию и П. К. [Петроградский комитет] … / Однако, теперь уж нечего скрывать, что все ответственные руководители В. О. [военной организации], т.е. главным образом И. И. Подвойский, пишущий эти строки, К. А. Мехоношин, Н. К. Беляков и другие активные работники, своей агитацией, пропагандой и огромным влиянием и авторитетом в военных частях способствовали тому настроению, которое вызвало выступление»151. Большевики, делая вид лояльности к Временному правительству, даже уговаривали солдат не выступать, но как сам Невский заявлял: «Я уговаривал их, но уговаривал так, что только дурак мог бы сделать вывод из моей речи о том, что выступать не следует»152.
Напуганная вероятностью заключения сепаратного мира между Россией и Германией, Франция в лице министра обороны А. Тома, передала Временному правительству документы о связи большевиков с немцами. 7 июля было принято решение о закрытии большевистской газеты «Правда», и об аресте и привлечении к уголовной ответственности лиц по факту «вооруженнаго возстания 3—5 июля»153 в Петрограде с целью свержения Временного правительства.
Вектор движения революционных россиян был нацелен на возвышение уровня своего достоинства. Здесь следует заметить, что достоинства у большевиков было больше чем у Временного правительства, соответственно дух достоинства был к ближе расположен к большевикам, и соответственно благословил их.
Предупрежденный за несколько минут до прихода сыщиков Ленин, под видом рабочего К. Иванова, вместе с Г. Зиновьевым бежали от ареста в Разлив, расположенный в нескольких километрах от финской границы, где под видом косарей, скрывались в сарае рабочего Емельянова.
Об уходе вождей большевиков в подполье среди партии были различные мнения. Предлагалось явиться им в суд и использовать выступление для критики Временного правительства. Сам Ленин, оправдывая свое подпольное положение. 8 июля он опубликовал статью «К вопросу об явке на суд большевистских лидеров», в которой утверждал: «Суд есть орган власти… / А где власть? Кто власть?» «Власть в руках военной диктатуры, и без новой революции власть эта может лишь укрепиться на известное время, на время войны прежде всего. / Я не сделал ничего противозаконного. „Суд справедлив. Суд разберет. Суд будет гласный. Народ поймет. Я явлюсь“. / Это – рассуждение наивное до ребячества. Не суд, а травля интернационалистов, вот что нужно власти. Засадить их и держать – вот что надо гг. Керенскому и К°». Затем следовал совет: «Пусть интернационалисты работают нелегально по мере сил, но пусть не делают глупостей добровольной явки!»154
Ленин указывал, что в стране действует беспощадная военная диктатура, однако арестованные большевики, а также сочувствующие им, более 130 человек, в том числе Троцкий, Каменев, Коллонтай, Луначарский, Невский и др., в августе-сентябре 1917 года были освобождены именно по причине страха перед реальной военной диктатуры в лице генерала Корнилова (с Лениным могли поступить иначе, так как его обвиняли германским шпионом).
8 июля в отставку ушел премьер-министр князь Г. Е. Львов. ВЦИК объявил июльские события военным заговором большевиков с целью вооруженного захвата власти. В Петрограде было объявлено военное положение, военные части, участвующие в демонстрации были расформированы. Запрещались уличные собрания и шествия. 13 июля в газетах было опубликовано сообщение о восстановлении на фронте смертной казни и военно-революционных судов. Второе коалиционное правительство удалось сформировать лишь 24 июля. Пост премьер-министра в нем получил 36-летний А. Ф. Керенский, за которым сохранился портфель военного и морского министра. Всего в новый кабинет вошли 7 социалистов*, 4 кадета и 2 члена от радикально-демократической партии.
Александр Фёдорович Керенский родился 22 апреля 1881 г. в Симбирске, в городе, где родились последний царский министр внутренних дел А. Д. Протопопов и Владимир Ульянов, жизни которых сплелись в критические дни истории России. Более того, между семьями Керенских и Ульяновых были тесные дружеские отношения. Отец Керенского, Фёдор Михайлович, был выходцем из семьи бедного приходского священника, не пожелавшего, однако идти по стопам своего родителя. Окончив Казанский университет, где он изучал историю и классическую филологию Ф. М. Керенский быстро продвинулся по службе: инспектор средней школы, затем директор школы, позже – директор мужской гимназии, той самой, в которой учились братья Ульяновы, Александр и Владимир. Мать Керенского была дочерью начальника топографического отделения при штабе Казанского военного округа, а по материнской линии – внучкой крепостного крестьянина, который, выкупившись на свободу, сделался в Москве преуспевающим купцом. Согласно воспоминаниям Керенского два сильных впечатления вынес он с детской поры: идею личного самопожертвования во имя народа, взятую из канонов православной церкви, и ощущение родины, как нечто священное, почерпнутое им из ставшей основной привычкой его жизни – чтения. В 1889 г. семья переехала в центр Туркестанского края, Ташкент, куда Ф. М. Керенский был назначен инспектором учебных заведений. Посещение в Ташкенте отца Керенского Сергеем Юльевичем Витте (сторонника ограничения монархии), знакомство с письмами Льва Толстого (1892 г.), с обвинительным томом к самодержавию, способствовало становлению мировоззрения будущего премьера. В 1899 г. Керенский стал студентом Санкт-Петербургского университета, первоначально предполагая закончить два факультета: исторический и юридический. Однако в конце первого курса вышел приказ министра просвещения И. П. Боголепова, запрещающий одновременное обучение на двух факультетах, и Керенский предпочел юридическое образование. В студенческие годы, под воздействием профессоров, у Керенского складываются рационалистические воззрения, искать формы общественных отношений, основанных не на насилии, а на праве и законе (идеи века Просвещения). Грубые материалистические теории, в частности крайний гуманизм марксизма, оказались не для него, понятнее и ближе были либеральные народники, убежденные в том, что шли к освобождению человека для мира свободы и гуманизма мягким путем. Со временем созвучным его настроениям стал и земский либерализм, идеи которого благодаря журналу «Освобождение», получили широкое распространение в интеллектуальных, радикальных и социалистических* кругах. «Мы спорили обо всем на свете»155 – вспоминал Керенский, указывая на революционную атмосферу университета. Вскоре проявились и ораторские способности, а первая политическая речь, произнесенная на студенческой сходке, повлекла умеренное наказание: временное отлучение от университета и отбытие домой в Ташкент на трехмесячный срок. В 1904 г. Керенский окончил университет, и не случайно избрал карьеру защитника в политических процессах, будучи принятым в коллегию адвокатов. Под впечатление 9 января 1905 г. он приходит к убеждению о неизбежности индивидуального террора, начал сотрудничать в революционном бюллетене «Буревестник», вскоре ставшем печатным органом социал-революционеров*. Пытался даже войти в эсерскую боевую организацию, но его просьба была отклонена руководителем организации Е. Ф. Азефом, тайным агентом Департамента полиции (1901—1908 гг. выдал полиции много эсеров, в 1908 г. разоблачен В. Л. Бурцевым, скрылся заграницей). Арест в декабре 1905 г. и четырехмесячное заключение в «Кресты», за найденные при обыске листовки «Организации вооруженного восстания», связанные с «Буревестником», способствовали освобождению Керенского от юношеского романтизма и осознании необходимости сплочения «всех демократических партий в России» для ее освобождения. Манифест 17 октября 1905 г. Керенский встретил с восторгом, считая его важным достижением революции и полагая, что со временем конституция может быть реальностью для России. После разгона I Государственной думы, 8 июля 1906 г., из тюрем выпустили многих политических заключенных, в том числе и Керенского, которому было предложено вновь отправиться «домой», в Ташкент, и не появляться в столице до осени. По возвращению в Санкт-Петербург Александр Фёдорович начал работу в качестве защитника в Ревеле по делу крестьян, разграбивших поместье местного барона. Ему так удалось построить свою защиту, использовав факты жесточайшей расправы над ними, что большинство обвиняемых крестьян под бурю аплодисментов было оправдано. Успешный дебют в общенародном деле морального противостояния режиму власти принес Керенскому настоящую известность. В последующие годы он так неоднократно выступал защитником на многих громких процессах, что способствовало росту его личной популярности. В 1912 г. Керенский успешно выступил кандидатом в IV Государственную думу от группы трудовиков по Саратовской губернии и поддержанного на общем губернском собрании. В Думе он оказался единственным из пятнадцати новых кандидатов, баллотировавшихся от Трудовой группы, став в 1915 г. председателем.
Этот период был насыщенным для Керенского. В числе 25 видных адвокатов Санкт-Петербурга в октябре 1913 г. он подписал протест против Менделя Бейлиса, считая его сфабрикованным, за что был привлечен к судебной ответственности и приговорен к восьми месяцам заключения как инициатор принятия соответствующей резолюции адвокатской коллегии. Еще в 1912 г. Керенский получил предложения вступить в масоны и вскоре стал одним из членов масонской ложи «Великий Восток народов России», а со временем генеральным секретарем ее Верховного Совета. Участием в масонской деятельности Керенский объяснял, прежде всего, политико-прагматическими целями: установить связи между многими видными членами общества и использовать эти связи для установления в России демократии на основе широких социальных реформ и федерального устройства государства. В это время масонами являлись более трехсот видных представителей либералов, социалистов*, офицеров и даже члены царской фамилии, в частности – кадеты В. А. Маклаков и А. И. Шингарев, октябрист А. И. Гучков, князь Г. Е. Львов, правые социалисты* Е. Д. Кускова и С. Н. Прокопович, меньшевики Н. С. Чхеидзе и М. С. Скобелев. В своей сути либеральная масонская ложа сыграла в Думе определенную роль в координации усилий различных политических сил в попытках отразить либеральные настроения русского народа и сделать все, чтобы направить страну на либеральный путь развития. «Мы, – писал впоследствии Керенский, – ощущали пульс национальной жизни и всегда стремились воплотить в нашей работе чаяния народа»156.
В качестве защитника Керенский объехал почти всю Россию, притом он не ограничивался чисто профессиональными делами, а стремился узнать настроения людей, установить контакты с местными представителями либеральных и демократических групп. В Государственной думе, участвую в различных прениях, он приобрел славу одного из лучших ораторов левых фракций. Известие о начале войны застало Керенского в Саратовской губернии, в одной из многочисленных поездок как депутат Думы. Возвращаясь в Санкт-Петербург он надеялся и работал над программой примирения царя и народа. В те дни аналогическую позицию заняли все думские фракции, кроме большевиков. Народ дружно встал на защиту отечества, и в день объявления войны огромные толпы на площади перед Зимним дворцом исполняли «Боже, Царя храни!» Подавляющее большинство в оппозиции считало, что борьбу, которую они вели с абсолютизмом, можно «на время отложить». Керенский стал на позицию «революционного оборончества», считая, что поражение России в войне грозило ей экономической и политической изоляцией. Однако из-за дальнейших событий ситуация изменилась не в пользу монархии. История с Распутиным, военные неудачи в первые годы войны, экономические трудности, вытекающие из войны, наступивший для всех очевидный хаос управления страной, постоянные слухи о возможности сепаратного мира. Из всего этого, моральная пленка монархии стремительно падала, а Дума только расшатывала ситуацию своими выпадами против царицы-немки, ее «любовника» Распутина и «безвольного» царя Николая II. После военного поражения образовавшийся в августе 1915 г. «Прогрессивный блок», куда вошли представители почти всех партий, кроме крайне левых и крайне правых, поставил своей задачей создание правительства из лиц, «пользующихся доверием страны». Но поскольку Николай II не желал идти навстречу думской оппозиции, то вскоре появился план проведения «дворцовой революции». Керенский был участником, состоявшийся в сентябре 1916 г. тайной встречи некоторых лидеров «Прогрессивного блока», на котором было решено сместить правящего монарха и заменить его наследником Алексеем, назначив при нем регента в лице Великого князя Михаила Александровича. Возникали и другие аналогичные планы, но подготовка к перевороту, по словам Керенского, шла «ужасающе медленно. Его дата была намечена на середину марта. Но конец наступил 27 февраля, и совсем по-другому»157.
В дни февральской революции Керенский оказался в центре событий, в Таврическом дворце. Он первый из членов Государственной думы благодаря своим связям с революционными организациями и воинскими частями узнал об образовании Временного исполнительного комитета Совета рабочих депутатов, так как именно к нему обратились представители Совета за содействием в получении помещения в Таврическом дворце. Когда в ночь с 27 на 28 февраля Совет старейшин Думы создал ее Временный комитет с целью взятия в свои руки «возстановление государственнаго и общественнаго порядка»158, Керенский был назван вторым в его составе после председателя Думы М. В. Родзянко, лишь после него шли Н. С. Чхеидзе, В. В. Шульгин, А. Н. Милюков и др. Не участвуя на первом заседании Петроградского Совета рабочих депутатов Керенского избирают товарищем председателя. И, несмотря на то, что первоначально его отношение с руководителями Совета (социал*-демократами Н. С. Чхеидзе и М. И. Скобелевым) носили напряженных характер из-за его неприятия «теоретического социализма», судя по всему, последние стремились использовать популярность Керенского для утверждения авторитета только что избранного органа. В эти первые дни революции Керенский постоянно выступал перед воинскими частями, казачьими отрядами, испытывая при этом «чувство пьянящего восторга»159. 2 марта вопреки решению Исполкома Совета о запрещении совмещать должности в советском государственном аппарате, Александр Фёдорович вошел во Временное правительство, приняв пост юстиции. Он считал, что вхождение в правительство члена Совета должно было способствовать формированию коалиционного правительства из представителей демократических и социалистических* партий.
Таким образом, ораторские способности, многочисленные связи, участие во множестве делах противопоставления царской власти, умеренность во взглядах, все это способствовало росту уважения и известности Керенского и становление политически лидерской личности. Не соответствует действительности взгляд, что включение Керенского в состав Временного правительства было инсценировано масонами. Один из руководителей Верховного Совета «Великого Востока народов России» А. Я. Гальперн утверждал, что: «революция застала нас врасплох1… Говорить о нашем сознательном воздействии на формирование правительства нельзя: мы все были очень растеряны и сознательно задачи сделать состав Временного правительства более левым во всяком случае не ставили2»160. В марте 1917 г. Керенский вступил в партию эсеров, во многом будучи лишь формально связанным с ее руководителями. Находясь в атмосфере травли царского режима и приложив к этому немало и со своей стороны, революция врасплох Керенского не застала, в чем и заключается главная причина его головокружительной карьеры. 23 марта 1917 г. «Петроградский листок» писал о его успехе: «Керенскому лучше не показываться: восторженность тянется за ним, как в свое время мазинистки и собинистки за певцами. Вот головокружительная карьера! В 33 года еще не избранный, но уже признанный глава российскаго государства. Не только министр юстиции, – министр правды. / – Если бы Керенскаго не было, его пришлось бы выдумать!…»161 Меньшевик И. Г. Церетели так охарактеризовал Керенского: «Хотя формально он примыкал к партии социал-революционеров, он был по всей своей природе беспартийным индивидуалистом. Идейно он был близок не к социалистической среде, а к той демократической интеллигенции, которая держалась на грани между социалистической и чисто буржуазной демократией. / …Он хотел быть надпартийной, общенациональной фигурой. / …Он любил эффектные жесты, показывавшие его независимость от организации, к которой он номинально принадлежал»162. Аналогично высказался и В. М. Чернов: «Керенский же чувствовал, что ему суждено стать „солистом“ революции, „некоронованным королем“, властителем дум и сердец россиян, жаждавших обновления, человеком, которого без всяких усилий с его стороны волна вынесет наверх, и народ скажет: „Веди нас! Указывай нам путь!“ Что же касается его конкретной роли в строительстве новой жизни, то Керенский, будучи по натуре дилетантом, представлял это вдохновению и откладывал до последней минуты»163. Близкий к либерально-кадетским кругам литератор и публицист Ф. А. Степун выразил свое впечатление от выступления Керенского перед председателем армейских делегаций в Таврическом дворце: «В его речи были стремительность и подъем. Он говорил как власть имущий… Было ясно, что Керенскому, как единственному среди членов Временного правительства кровному сыну революции (на Гучкове, Львове и Милюкове явно лежала печать адаптации), придется рано или поздно встать во главе ее. В ее центре он уже стоял…»164



