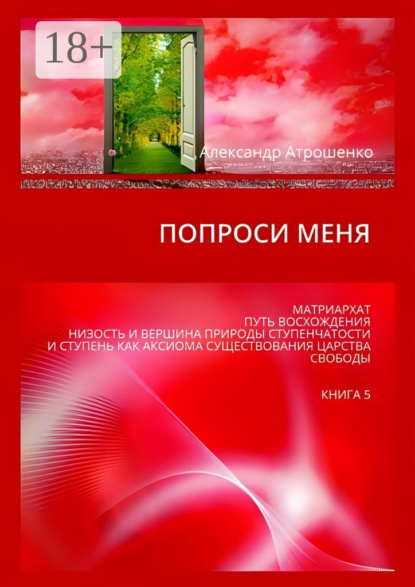
Полная версия:
Попроси меня. Матриархат. Путь восхождения. Низость и вершина природы ступенчатости и ступень как аксиома существования царства свободы. Книга 5
К значению.
Царствовать для Екатерины было любительским делом, спортом, а не профессией, предуказываемой происхождением или законом. Поэтому для нее большим развлечением было пренебрежительно смотреть на профессиональных государей, которые «по уши погрязли в свои предания, обычаи, церемонии» (Ср.: Записки Екатерины II. С. 601). «Да покорает небо»… Как истая дилетантка власти, она щеголяла оригинальностью своих правительственных приемов. Разговоры с С. В. Поповым и Храповицким.
У нее были идеи торжественные, праздничные для манифестов и идеи будничные, деловые для указов по текущим делам управления. Мысли гостинные и обиходные.
Правление Екатерины – та же деспотия, только смягченная приемами, европейски прикрашенная законами, которые не исполнялись, и учреждениями, которыми распоряжались лица.
Она постоянно должна была напрягаться, делать что-нибудь обращающее на себя внимание, важную реформу, издавать популярный закон. Перед ее глазами ходил обличитель, напоминавший ей о праве, законности, ею нарушенных, и недостаток права ей нужно было возмещать обилием дела, хотя бы показного».
Обзор Российской государственности XVIII века
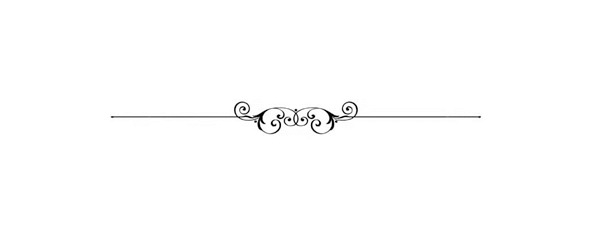
XVIII век заложил те мировоззренческие основы, которые удобренные стараниями XIX века в XX обнажились плодом казавшимся вначале невозможным противоречием – просвещение и человеконенавистничество, в виде образа мировоззрения лучшести, свободы, справедливости, фактическим итогом оказались одной парой сапог. Поэтому рассматривать историю кризиса человеческих взаимоотношений XX века, двигаемого непреклонными практиками, невозможно без правильного осмысливания философских лириков века Просвещения. В начале этого идейного движения европейской культуры, характеризующееся развитием общественной, философской и научной мысли, лежали принципы свободомыслия и рационализма, а деятели просвещения видели в знаниях мощный двигатель прогресса всего человечества. Россия в этом ключе, хоть и отставала от передовых европейских стран, но, в целом, придерживалась общего русла, ориентировалась на Запад, перенимая от него новшества цивилизованного мира.
В России XVIII век – это век распространения образования и науки. Основным центром научной деятельности, как и во второй четверти века, оставалась Академия наук. При Екатерине к ней прибавился новый научный центр – Московский университет, а также Горное училище в Санкт-Петербурге, открытое в 1773 г., в 1783 г. создана Российская академия, занимавшаяся изучением русского языка и грамматики (с первых дней по 1794 г. Российскую академию возглавляла Е. Р. Дашкова, сподвижница Екатерины II по перевороту, единственная женщина, занимавшая в то время государственную должность, незадолго до этого назначенная Екатериной II и директором С-Петербургской Академии Наук). Центром научной мысли и главным учебным заведением Левобережной Украины была киевская академия
В развитии общественной науки выдающееся место занимал М. В. Ломоносов. В Санкт-Петербургской АН в течение 31 года работал крупнейший математик XVIII века Леонард Эйлер. Многие его открытия вошли в современную науку и технику, на его трудах воспитывалось не одно поколение русских учёных. Среди них был С.К.Котельников, разработавший вопросы теоретической механики и математической физики. Им написаны учебники по математике, механике, геодезии. Другой ученик Эйлера, С. Я. Румовский стал основоположником отечественной астрономии.
С упрочением в стране капиталистических отношений всё острее ощущается необходимость изучение её просторов, природных ресурсов. Вместе с тем, приобретения новых географических знаний расширяли базу для развития естественных наук – геологии, физики, ботаники, географии и т. п. Так, с целью обследования различных районов России была возобновлена практика организации комплексных экспедиций. Всего было отправлено 5 экспедиций. Три из них – Оренбургские (их возглавляли И. И. Лепёхин, П. С. Паллас, И. П. Фальк) и две – Астраханские (под руководством С. Г. Гмелина, И. А. Гильденштедта). А после присоединения Крыма к России, в 1783 г. для изучения края было организовано путешествие адъюнкта АН В. Ф. Зуева. Освоением востока страны занимались промысловые люди, параллельно составлявшие более подробные и точные карты восточных границ империи и прилегающих островов. Среди исследователей (Д. Кука и его отряда, И. Биллингса, П. К. Крашенинникова, М. Д. Левашова) выдающееся место занимает купец и землепроходец Г. И. Шелихов. В 1775 г. он создал первую компанию для пушного и звериного промысла на Алеутских островах и Аляске. Им же на Аляске основаны первые русские поселения. На основе компании Шелихова в 1799 г. была основана Российско-американская компания, с правом монопольного пользования промыслами и ископаемыми. В последней трети XVIII в. географическим департаментом АН составлена «Генеральная карта Российской империи по новейшим наблюдениям и известиям сочинённая» (1776 г.), «Новая карта Российской империи, разделённая на наместничества» (1786 г.), издан новый «Атлас Российской империи»» (1792 г.)
Успехи прослеживаются и в развитии медицины. Если во времена Петра I в России существовало единственное медицинское училище, то в конце столетия их стало три. Кроме того, были открыты Медико-хирургическая академия, а при Московском университете – медицинский факультет. В 1768 г. Екатерина II, первая в России сделала себе прививку от оспы. В то время оспопрививание не избавляло от заболевания, но значительно сокращало число смертных исходов. Мировое признание получили труды Д. С. Самойловича о чуме, его вывод, что чума передаётся не по воздуху, а от соприкосновения, имел большое практическое значение позволившее наметить эффективные средства борьбы с эпидемией.
Вторая половина века ознаменовалась взлётом технической мысли. Сын простого солдата И. И. Ползунов, окончивший лишь Екатеринбургскую арифметическую школу в 1764—1765 гг. прославился изобретением парового двигателя. Пуск его машины был назначен на 20 мая 1766 г., а 16 мая 38-летний механик скончался от чахотки. Некоторое время паровая установка действовала, но затем её забросили «за ненадобностью». Лишь только через 20 лет английский изобретатель Джеймс Уатт изобрёл свою паровую машину (патент 1784 г.) Оказавшись в ином обществе, оно сразу нашло применение на практике.
Другим необычайным изобретателем того времени был И. П. Кулибин, сын нижегородского мещанина. Он преподнёс императрице сделанные им необычные часы «яичной фигуры», сохранившиеся до наших дней. Крышка их открывалась каждый час, являя взору храм Воскресения Христова, а ровно в 12 часов играли сочинённую изобретателем мелодию. Кулибин был награждён одной тысячей рублей и назначен механиком при Санкт-Петербургской АН с жалованием 300 руб. в год и казённой квартирой. Он смастерил телескоп, микроскоп, разработал проект «самобеглой коляски», протезы для инвалидов, лифт, создал «зеркальный фонарь» (прототип прожектора), семафорный телеграф и многое другое. Но ничего из этого не имело практического применения. В 1776 г. по объявленному конкурсу он разработал проект и построил модель одноарочного деревянного моста через Неву, пролётом 298 метров, одобренного академиком Эйлером, но «за ненадобностью» так и не воплощённого в жизнь. Судьба всех изобретений, как правило, разбивалась об атмосферу равнодушия, отсталости общественного строя.
Во второй половине XVIII века помещичьи хозяйства, ища прибыль, всё больше ориентируются на экспорт хлеба, что вызывает повышенный интерес к агрономической науке. У её истоков стоял А. Т. Болотов, создавший первое руководство по введению севооборота и организации сельскохозяйственных территорий в работе « О разделении полей» (1771 г.), разработал принципы лесоразведения и лесопользования. Другой учёный-агроном И. М. Комов, автор труда «О земледельных орудиях». (1785 г.), первого русского руководства по сельскохозяйственным машинам и орудиям. Пропагандист травосеяния, улучшения естественных сенокосов и пастбищ.
Во второй половине столетия появляются первые исторические труды. Широко издаются древние летописи. В 1767 г. по инициативе М. В. Ломоносова появилось издание «Русской летописи». М. М. Щербатов опубликовал открытую Татищевым «Русскую правду», а в 1770—1772 гг. – «Журнал, или Подённую записку императора Петра Великого». Большое значение в пополнении исторической базы имело второе издание Н. И. Новикова, его «Древней Российской Вивлиофики», состоящей из 20 томов источников: грамот великих князей, дипломатических документов, отрывки из летописей и др. В 1768—1784 гг. вышли в свет 4 книги Татищева «История Российской и самых древнейших времён». М. М. Щербатову принадлежит «История Российская от древнейших времён», доведённая им до 1613 г. Работа содержала много неточностей, мнений, основанных на отзывах своего окружения (особенно это касается Петра III и Павла I), но ценным было уже то, что установление хронологической последовательности событий требовало выяснения причинной связи между ними. И. Н. Болтин связывает исторический процесс с природным фактором, который, по его мнению, имеет «главное влияние» на общество. Свою роль в развитии отечественной истории сыграл и отзыв Болтина на «Примечания на историю древния и нынешняя Россия г. Леклерка». Французский медик Леклерк, после 10-дневного пребывания в России, вернувшись во Францию, написал сочинение на Россию и русский народ, обличая его в очевидной издержке крепостного права, невежестве духовенства, непросвещённости народных масс, попутно допустив множество мелких и частных нелепостей. Отзыв же Болтина скорее был направлен на разбор этих нелепостей и выискиванием аналогичных фактов в странах Западной Европы, в целом является политической пропагандой в ответ на критику французского автора.
В конце XVIII в. Россия представляла собой огромное государство континентального масштаба. Занимала площадь Восточной Европы, Северной Азии, Аляску и Алеутские острова. По данным 1-й ревизии (1719 г.) в России насчитывалось 15,6 млн человек, по 5-й (1795 г.) – 37, 4 млн человек. Более 9/10 населения проживало в сельской местности. Самыми крупными городами являлись обе «столицы» – Санкт-Петербург и Москва. Численность жителей Санкт-Петербурга насчитывала 335 тыс. человек, Москвы – 275 тысяч. Многие же города представляли собой, фактически, большие сёла, жители которых занимались земледелием на отведённых городом землях, отчасти торговлей и мелкими промыслами. В то же время, было немало крупных торгово-промышленных селений, которые по характеру занятия жителей и по внешнему своему виду были настоящими городами, как Павлово, Кимры, Городец, Вичуга, Мстёра, но они продолжали оставаться на положении сёл, т.к. принадлежали помещикам-магнатам – Шереметевым, Паниным, Голицыным, Юсуповым, Воронцовым, что тормозил процесс городообразования.
В административном отношении европейская часть России делилась на 47 губерний и пять областей (Астраханская, Таврическая, Кавказская, земля Войска Донского и земля Черноморская). В дальнейшем численность губерний увеличилась за счёт деления некоторых из них и присоединения новых территорий. Области Астраханская и Таврическая получили статус губерний. Сибирь по административному делению 1822 г. была разделена на Тобольскую, Томскую, Омскую, Иркутскую, Енисейскую губернии и Якутскую область. (В 50-х г. XIX века были образованы Камчатская, Забайкальская, Приморская и Амурская области).
К концу царствования Екатерины II в стране насчитывалось 610 городов. Число городских жителей составляло всего 6% от общего населения страны. В одной деревне в среднем проживало 100 – 200 человек. Крестьяне по своему социально-правовому положению делились на помещичьих (53,2%) и государственных (46,8%). Последние, в свою очередь, подразделялись на черносошных, однодворцев (потомков мелких служилых людей) и пришлых (в 19 веке их стали звать посессионными или заводскими). На всю империю приходилось примерно 100 тысяч деревень и сёл. Если говорить о благосостоянии крестьян, то 80% из них были середняками. «Кто имел 100 рублей, считался богатеем беспримерным»103. 17 копеек в год тратил на покупки среднестатистический житель империи (через полвека будут в 20 раз больше). В 1796 г. число фабрик и заводов (не считая горных) было 3161 (в момент вступления на престол Екатерины II – 984).
Сведения о численности дворянства в XVIII в. недостаточны. В 1737 г. насчитывалось 64,5 тыс. помещичьих владений с 6млн крепостных обоего пола. В 1782 г. в России было свыше 108 тыс. дворов (0,79% населения). В 1795 г. – свыше 362 тыс. (2,22%). В имущественном отношении дворянство было неоднородным. Например, в 1777 г. мелкопоместное (по 20 душ крепостных мужского пола) составляло 59% сословия, среднепоместное (20—100 душ) – 25%, крупнопоместное (свыше 100 душ) – 16%. Некоторые дворяне, Ф. А. Апраксин, А. Р. Брюс, А. Д. Голицын, М. Ф. Головин, А. Н. Демидов, В. В. Долгорукий, А. Л. Нарышкин, А. М. Черкасский, П. Б. Шереметев и др., владели десятками тысяч крепостных.
По подсчетам русского историка Ю. В. Готье по 2 ревизии (1743 г.) в Великороссии было 3.443.292 д.м.п. крепостных, что составляло 53,7% от всех крестьян, и 3.000.000 д.м.п. государственных крестьян. 3 ревизия (1763 г.) нашла 3.786.771 д.м.п. крепостных (53%) и 3.400.000 Государственных крестьян, 4 ревизия (1783 г.) 5.092.869 д.м.п. крепостных (53%) и 4.470.600 Государственных, 5 ревизия (1796 г.) 5.700.465 д.м.п. крепостных (53%) и 5.000.000 Государственных.
Таким образом, на протяжении XVIII в. крепостные крестьяне составляли чуть более половины в общей массе великорусского крестьянства. Были в России целые провинции, по своей территории превосходившие целые европейские государства, где крепостного права не было вообще – Поморье, Сибирь. Характерно, что на вошедших в Российскую империю западных территориях процент крепостного населения был гораздо выше. Так в Прибалтике 85% крестьянства составляли крепостные.
Во второй половине XVIII в. больше половины сельского населения составляли помещичьи крестьяне. Их быт и уклад не был абсолютно единообразным. Так, жизнь барщинного крестьянина протекала под бдительным надзором помещика и вотчиной у администрации, властью, вторгавшейся не только в хозяйственную деятельность, но и семейные отношения. Оброчный же крестьянин располагал большей свободой, иногда жили за пределами вотчины, не занимаясь земледелием. Уклад жизни дворовых крестьян, удовлетворяющий разнообразные потребности барина, также существенно отличался от жизни остальной массы крестьян. Материальная же жизнь капиталистического крестьянина, только формально остающегося в рядах своего сословия, существенно отличалась от быта его собратьев.
Основной производственной ячейкой сельского и городского населения оставалась семья, где старший по возрасту мужчина, как и раньше, являлся главой семьи. Ритм крестьянской жизни определялся циклом сельскохозяйственных работ. Самым напряжённым периодом считалось время весеннего сева, сенокоса и жатвы, когда на сон отводились считанные часы. Зимой объём работ значительно сокращался, в основном выполнялся объём работ по ремонту и устройству своего быта. Ненужные в работе члены семьи отправлялись на заработки в извоз, плотничать, шить шубы и кафтаны. Весной все крестьяне, занимавшиеся отхожим промыслом, возвращались в свои деревни. Женская половина семьи зимние месяцы проводила более напряжённо. С утра до вечера они пряли и ткали полотно, шили бельё. После ужина жители деревни отдыхали – пели песни, качались на качелях, а также с гор, покрытых льдом, отгадывали загадки. Питались крестьяне простой пищей: ржаной хлеб да щи из кислой капусты, а также сваренная на воде каша из «грешневых, полбенных, ржаных, или овсяных, так же просяных круп»104, и немалая доля «даров природы». Мясо в большинстве регионов было блюдом сезонным – после осеннего и зимнего забоя скота.
В праздничные дни зажиточный крестьянин довольствовался жареным мясом, студнем, птицей, яичницей с ветчиной, различной выпечкой (калачи, пироги, кулебяки, оладьи, ватрушки и др.), пил квас, домашнюю брагу, пиво, медовуху, покупал хлебную водку. Крестьяне питались 3 раза в день, немалая их часть – два.
Интересно заметить, из множества художественных произведений русских классиков, воспоминаний современников и других исторических источников, в особенности советского периода, известно множество описаний бедственного, буквально нищенского существования русского крепостного крестьянства, Однако существуют и другие воспоминания современников, притом тех же иностранцев, которые бывали в крепостнической России, и многие из них отмечали, например, что в XVIII веке уровень жизни крестьян России был выше, чем во многих странах Западной Европы.
Конечно, с точки зрения юриспруденции, «закон все более обезличивал крепостного, стирая с него последние признаки правоспособного лица»105 (Ключевский). А глава тайной полиции А. Бенкендорф писал в личном послании императору Николаю I: «Во всей России только народ-победитель, русские крестьяне, находятся в состоянии рабства; все остальные: финны, татары, эсты, латыши, мордва, чуваши и т. д. – свободны»106.
Действительно, частью повседневной жизни Российской империи были многие элементы рабовладения. Например, торговля людьми. Какое-то время в Санкт-Петербурге даже функционировал рынок крепостных. С другой стороны, государственная власть никогда не относилась к таким вещам, как к чему-то само собой разумеющемуся. Невольничьи рынки в итоге были запрещены, как было запрещено и размещение в газетах объявлений о продаже людей. Впрочем, ориентированность на поддержку интересов дворянского сословия не позволяла императору жёстко добиваться исполнения своих требований. Торговля людьми продолжалась в частных домах, а объявления подавались в газеты иносказательно – вместо «продается» писали «отдается в услужение».
Однако на фоне ужасного рабовладения, к примеру, А. С. Пушкин отзывался о состоянии крепостных крестьян иначе: «Повинности вообще не тягостны. Подушная платится миром; барщина определена законом; оброк не разорителен… Крестьянин промышляет, чем вздумает, и уходит иногда за 2000 верст вырабатывать себе деньгу… / Взгляните на русского крестьянина: есть ли и тень рабского уничижения в его поступи и речи? О его смелости и смышлености и говорить нечего. Переимчивость его известна. Проворство и ловкость удивительны»107. Конечно, эти слова Пушкина можно по-разному расценивать, вызывает скепсис уже только то, что крестьянин должен уходить на заработки за 2000 верст, но, так или иначе, по настроению автора судьба крепостного не была уж так затоптана грязью.
Подобную ситуацию отмечали и иностранцы. Капитан британского флота Джон Кокрэйн писал в своей книге «Рассказ о пешем путешествии по России и Сибирской Татарии к границам Китая, замерзшему морю и Камчатке», что «деревни на дороге многочисленны и многолюдны. Многие металлургические и соляные заводы, а также спиртзаводы, видны во всех направлениях, и везде преобладает деятельный и трудолюбивый дух»108, так же отмечал, что «можно увидеть стада крупного рогатого скота, блуждающие и пирующие на почти пустынных пастбищах»109. Примечательно, в те времена иметь корову крестьянину в Европе был признаком роскоши, а в России наоборот, неимение коровы было чертой крайней бедности.
Другой британский путешественник, Бремнер, говорил: «Есть области Шотландии, где народ ютится в домах, которые русский крестьянин сочтет негодными для своей скотины»110. Впрочем, далее он добавлял, что русский крестьянин по сравнению с английскими совершенно бесправен: «Не следует, однако, полагать, что даже если мы признаем русского крестьянина во многом уважающего больше комфорта, чем некоторые из наших, но, в целом, мы рассматриваем его судьбу более зависимым, чем крестьянина свободной страны, как наша. Расстояние между ними неизмеримо широкое… Хижина самого подлого крестьянина в Британии неприкосновенна; что русский может без разрешения и без предупреждения? Бедный человек у нас не привязывается к своему жилищу, но волен распоряжаться своим мастерством и трудом там, где, по его мнению, они принесут ему наибольшую отдачу, даже не посоветовавшись с землевладельцем или выплатив ему часть „шляпы“, которую он может заработать на протяжении всей жизни. Прежде всего, он не подлежит перевозке в качестве осужденного, как русского в Сибирь по прихоти своего господина, безжалостно разрывая связь с женой, друзьями, с домом, без права на протест и апелляцию»111.
Однако положение крепостных в России не было одинаковым. Большое значение имела форма повинности: барщина или оброк. Барщина заключалась в том, что крестьянин был обязан отработать на земле помещика определённое количество дней. Оброк же – это регулярная денежная выплата, зарабатывать на которую крестьянин мог множеством способов, от того имея свободу действия и предпринимательства.
Разницу в положении подобных крестьян отмечают и современные учёные. Доктор исторических наук И. М. Супоницкая пишет: «В России не все крепостные работали на барщине. Перед отменой крепостного права около 40% крепостных являлись оброчниками‚ отдавая помещику оброк натурой или деньгами. Крепостной-оброчник был несравнимо свободнее. Он сам решал‚ куда уйти на заработки. Целые деревни, получив паспорта, отправлялись на промыслы, в города. Одни деревни поставляли ямщиков‚ другие – ремесленников‚ третьи занимались промыслами у себя дома»112.
Французский путешественник Астольф де Кюстин в книге «Россия в 1839 году» писал, что крепостные были «главными торговыми деятелями» нижегородской ярмарки. Однако «закон запрещает крепостному просить, а вольным людям предоставлять ему кредит более чем на пять рублей, – добавлял де Кюстин, – И вот с иными из них заключаются сделки под честное слово на двести – пятисот тысяч франков, причем сроки платежа бывают весьма отдаленными. Эти рабы-миллионщики, крепостные Агуадо, не умеют даже читать. Действительно, в России человек порой возмещает свое невежество необыкновенными затратами сообразительности»113.
Многие из тех, кто был успешен, впоследствии покупали себе вольную и переходили в купеческое сословие. Некоторые зарабатывали баснословные деньги – например, семья Морозовых, основанная выкупившимся из крепостной зависимости в 20-х годах XIX века Саввой Морозовым, в 1914 г. признавалась журналом Forbes шестой богатейшей семьёй в Российской империи.
Осознавая необходимость соблюдения правопорядка на местах царское правительство, наученное горьким опытом историей с Салтычихой, старалось отслеживать отношения между помещиками и крестьянами, делая попытки пресечения беспределу. Так, Екатерина II в 1775 г. уполномочила даже своих генерал-губернаторов преследовать помещиков за жестокое обращение с крестьянами вплоть до конфискации имений и передачи их в управление опекунским советам. Александр I в 1817 г. указал за произвол помещиков предавать их суду и брать имения под опеку казны.
Из исторических источников известно, что только за период с 1834 по 1845 гг. к суду было привлечено 2838 дворян, из них осуждено 630 человек. В правление Николая I в опеке находилось ежегодно около 200 имений, взятых за плохое обращение помещиков с крестьянами. Следует отметить, что наказание несли и крестьяне, так за тот же самый период с 1834 по 1845 гг. в России было осуждено 0,13% крестьян за неповиновение своим помещикам, и почти такое же число 0,13% помещиков за превышение власти над крепостными крестьянами.
Правительство старалось регулировать отношения, но, судя по всему, предпринимаемых мер было не достаточно. В целом продворянская политика не была заинтересована в сильном ущемлении прав сословия, который был гарантом стабильности всей системы.
Интересно обратить внимание ещё на один факт. Крепостное крестьянство составляло, приблизительно, от половины всех крестьян в XVIII в. до одной трети перед упразднением крепостничества. То есть, количество не крепостного крестьянства было весьма существенно. Но что удивительно, этот тип крестьянства за время своего существования не показал ни чего особенного с точки зрения культуры взаимоотношений, хотя казалось бы… Данный непреложный факт говорит о том, что в действительности не крепостное право было тормозом развития социальных отношений, но, наоборот, оно само являлось следствием глубокого умственного тормоза, невежественности («Срезать надо с земли всех образованных, тогда нам, дуракам, легче жить будет, а то – замаяли вы нас!»114, – передал настроение крестьянства к городу, т.е. европейской цивилизации, М. Горький в письме «О русском крестьянстве»), не понимания элементарного – чего хочет Бог? Поэтому не крепостное крестьянство, своею аморфностью, больше озабоченное возможностью блеснуть своим повышающимся достоинством, стало один в один повторять картину отмены в XVII в. систему местнических отношений, – бездарность и бесчестность оставались там типичной чертой в деле управления государством. Подобное положение вещей полного успокоения с зацикливанием на личной выгоде можно вообще перенести на всё население российского государства, приведшее, в конце концов, страну в состояние абсолютной аморфности принципа резвости высокого достоинства.



