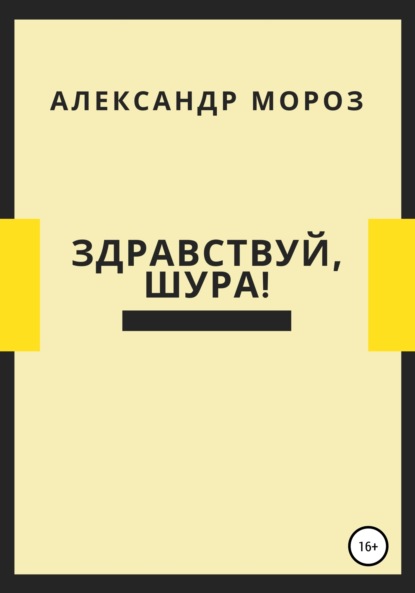 Полная версия
Полная версияЗдравствуй, Шура!
Очень необычная дружба на почве книголюбия возникла у меня мальчишки-ученика с семейной парой Красько. Жили они за железнодорожным мостом, недалеко от нашей старой квартиры. Они нанимали частную квартиру. Небольшая комната была перегорожена ширмой. Муж, Михаил Давыдович Красько, работал помощником машиниста на железной дороге. Его жена Юлия Михайловна – домохозяйка. Детей у них не было. Чета Красько также, как и я, любила книги, и это сближало нас, несмотря на разницу в возрасте. Частенько, особенно в последние годы нашего проживания в Либаве, я шел к ним с приобретенными книгами, еще не читанными мной.
Невольно пришлось быть свидетелем такого комичного случая. Я принес им комплект выпусков «Гарибальди». Дядя Миша возвратился с поездки, и я, чтобы не мешать ему переодеваться, сел за перегородкой и уткнулся носом в книгу. Поглядывая украдкой в узкую щель, я видел, как тетя Юля помогала ему раздеваться, и они о чем-то шептались. Она сняла ему штаны, и он встал двумя ногами в большой таз и начал мыться. Тетя Юля помогала ему, присев на корточки, потом она хихикнула, дотронулась руками до одного, обычно закрытого, места, пощекотала, а дядя Миша взъерошил ей волосы на голове. Я чуть не заржал при виде такой картинки, но сдержался. Они, по-видимому, или забыли о моем присутствии, или были уверены в моем благородстве и скромности. Когда вымытый дядя Миша появился из-за перегородки, я с самым смиренным видом читал книгу и ничем не выдал, что был свидетелем их маленькой семейной тайны. Потом они отправили меня домой, и так получилось, что больше я их в Либаве не видел. Начались события, помешавшие мне хотя бы забрать у них свои, нечитанные еще, книги.
Уже будучи пенсионером, я в 1967 году зимой шел за гробом моей матери. Хоронили ее на новом Щорском кладбище (прим. – г. Щорс иногда упоминается как Сновск) в лесу за семафором на расстоянии двух километров от дома. Я обратил внимание на идущего вблизи старичка, вижу, и он на меня поглядывает. Спрашиваю: «Кто это?», отвечают: «Это Красько». Вот, поистине гора с горой не сходится, а люди – да. Так, через более чем полсотни лет мы снова возобновили знакомство. Я заходил к ним, навещал уже больную тетю Юлю, которая все сетовала, что мы так поздно встретились. Вспоминали либавский период жизни, книги. Они по-прежнему книголюбы: берут книги в библиотеке. Тетя Юля, кроме чтения книг, сочиняет стишки. Некоторые из них сохранились у меня, правда, стихи далеки от совершенства. Умерла тетя Юля в 1968 году, на кресте табличка: «р. 30/VIII 1892 г. ум. 1968 23/IX».
Красько М.Д. после смерти жены жил в г. Сновске на ул. Володарского, 36. Ходил в библиотеку, любил выпить. Наезжая в Сновск, я заходил к нему, он был мне рад. Умер он в 1974 году в возрасте 91 года. На его могиле, рядом с могилой жены, табличка: «р. 21/IX 1883 ум. 3/II 1974».
Наследники Михаила Давыдовича передали мне альбом 100-летия Сновского депо, подаренный ему как бывшему работнику руководителями депо. Альбом бережно хранится у меня.
Уже несколько дней носились тревожные слухи о войне. И вот, 18 июля 1914 года, наконец, было официально сообщено об объявлении Германией войны России.
За насыпью, около пакгаузов с овсом, где жил сторож Карпович, погрузочная площадка заполнилась новобранцами. Либавцы были встревожены слухами о возможном нападении немцев с моря. Ведь пограничный город Поланген находился всего в 80 километрах от Либавы. Действительно, 20 июля 1914 года, т. е. через два дня после объявления войны, вдруг с моря раздались залпы орудий. Это с немецкой эскадры летели снаряды в пролетарский район новой Либавы, в так называемую Чертову деревню. Мы жили в старой Либаве, которая заселена была немцами и буржуазией, и поэтому обстрел не задел нашего района. Кирха в центре старой Либавы служила ориентиром, указывающим немцам, куда не следует стрелять.
По газетным сведениям, немцы выпустили в этот день 300 снарядов, в основном на район новой Либавы, а также обстреляли госпиталь в конце старой Либавы около Розовой площади.
Так закончилась мирная жизнь, и для либавцев наступили тревожные дни.
Осколки от снарядов стали сувенирами, за которыми охотились не только дети, но и многие взрослые. Помню, вскоре после начала войны над Либавой появился дирижабль типа «Цеппелин», сбросил над заводом пару бомб, не причинив никакого вреда, и когда удирал, то его подбили за городом наши солдаты. Началось паломничество к месту катастрофы. Кусочек желтой оболочки с «Цеппелина» был у каждого ученика. Особо предприимчивые мальчишки хорошо поживились, меняя кусочки оболочки на разную мелочь.
Помню, несколько раз появлялся высоко в небе аэроплан, и по нему бесполезно стреляли из винтовок солдаты. Иногда аэроплан сбрасывал над заводом пару бомб, и этим ограничивались редкие воздушные налеты. Но все же у либавцев появился страх ожидания беды не только со стороны моря, но и с воздуха.
Началась эвакуация. Водокачку закрыли, отчиму приказали разобрать машину и погрузить в вагон. Его назначили машинистом водокачки, расположенной около паровозного депо и мастерских.
С нашей квартиры, где мы прожили семь лет, мы переселились в другую, тоже казенную, около проволочного завода. Двор нашей новой квартиры был отгорожен высоким забором завода. Виднелись заводские трубы, продырявленные немецкими снарядами.
В этом несчастливом 1914 году в нашей семье произошло изменение – родился еще один брат Петр. И уже на новой квартире заболел и умер брат Миша. Возможно, что от менингита. Похоронили его на кладбище в конце Суворовской улицы. Смерть эту особенно болезненно восприняла моя мать. Да и мы все горько плакали. Это была первая смерть в семье Гавриловых. Движимый чувством любви и жалости к умершему братику, я даже пытался сочинить стихи, посвященные его памяти. Начинались они примерно так:
«Умер наш славный братик Миша,
Над ним появилась земляная крыша».
На этих двух строчках творчество мое бесславно выдохлось. Да и дальнейшие события сложились так, что было не до сочинительства.
Я уже перешел в последнее, пятое, отделение в 1914–1915 учебном году. В этом отделении появился новый предмет – «Гигиена и подача первой помощи». Осваивал я эту помощь на тройку. Улучшений в отметках против прежнего не было – средняя тройка. Оно и неудивительно – ученье уже не шло на ум. На уроках не столько прислушивались к словам учителя, сколько к шумам за окном. Если люди на улице не шли, а бежали, значит, что-то заметили, может быть, эскадру на море или самолет. Тогда и мы срывались и выбегали на улицу. Правда, было много случаев необоснованной паники, но были и обстрелы с моря, и бомбы с аэроплана. Тревожно жили. Следили за движением немцев на фронтах, и каждый день приносил невеселые новости. Говорили и писали о зверствах немцев над мирным населением. Наиболее предприимчивые эвакуировались из города. Особенно тревожило нас приближение немцев к Либаво-Роменской железной дороге.
Один день особенно запомнился мне. Шли занятия в школе. Школа была на углу Александровского шоссе и Вокзальной улицы, а наша новая квартира – на аллее около паровозного депо в районе новой Либавы по соседству с Чертовой деревней. От школы до дома около двух километров. И вдруг – суматоха! Не помню, каким путем сообщалось жителям о появлении неприятельской эскадры, вернее всего жители передавали эту весть друг другу, но вся Либава очень быстро приходила в движение: кто бежал домой, кто, уже с узлами, бежал из дома к окраине. Разбегались из школы мы под гром орудий. Я бежал домой во время обстрела, над головой свистели снаряды. Немцы били по ориентиру – заводским трубам проволочного завода, рядом с которым была наша новая квартира. День был солнечный, и снаряды блестели, пролетая над домом. Дома уже повязали узлы, и все наше семейство двинулось в конец города на Александровское шоссе. Миновали последний завод (кажется, Беккера) и подходили к пороховым погребам, в это время целая серия снарядов упала по обочине дороги в болото. К счастью, упавшие близко от нас два снаряда нырнули в болото справа от дороги и не взорвались, и мы отделались испугом. Когда это произошло, движение беженцев приостановилось. Старый латыш пытался спрятаться под фартук своей супруги, и хоть было и не до смеха, беженцы невольно заулыбались, и это несколько разрядило общую тяжелую атмосферу.
Беженцы шли и ехали сплошной толпой, одни – чтобы только уберечься от стрельбы, а потом вернуться по домам; другие – чтобы больше вообще не возвращаться в Либаву.
Мы не принадлежали ни к тем, ни к другим. Мы решили временно пожить у кума Бардашевича на станции Прекульн (прим. – латышское название Приекуле). Шли до ближайшего разъезда. Петю несли на руках, Иван и Аня шагали сами. Дошли до разъезда, сели в товарный вагон стоящего там состава, и нас довезли до станции Гавезен. В Гавезене солдаты грузили снаряды крупного калибра. И вот, мы приехали на станцию Прекульн, где временно остановились у Бардашевича. Квартира у него была небольшая, а семейство чуть поменьше нашего, спали на полу вповалку.
Бомбардировка Либавы, которая загнала нас сюда, была одной из самых крупных, и мы некоторое время не возвращались домой – так напугались. Отчим вернулся сразу же, ему нужно было работать, я через день-два тоже поехал. Наша квартира была цела, а квартира ремонтного рабочего в доме напротив была разбита попавшим в нее снарядом. Люди не пострадали – были в бегах, а их нехитрое имущество было испорчено.
Несколько дней я ездил из Прекульна в Либаву в школу. Занятия в школе шли. После учебы ехал в Прекульн, где, кое-как переспав, рано утром высматривал огоньки товарно-пассажирского поезда, который вез меня в Либаву. Наконец, мои домочадцы осмелели, и мы все вернулись домой в Либаву.
Я учился. Можно судить, какое качество учебы было! Отчим уже оформил перевод в Сновск и разбирал свою новую водокачку около паровозного депо. Получили наряд на вагон, погрузили в него вещи, а так как вещей нажили не ахти как много, то догрузили вагон тремя кубометрами дров. Я с бабушкой Гавриловой должен был остаться, дабы окончить свою «академию». Оставили на нашу долю энное количество вещей, подушек, одеял и прочего, а я сдуру и немало книжек, и все пассажирским поездом укатили на Украину в Сновск. Вагон с вещами своим маршрутом покатил туда же.
И вот, остались мы вдвоем: бабушка Екатерина Ивановна Гаврилова и я.
Я бегал в школу, которая продолжала функционировать. Некоторых учеников нашего отделения уже было не видно. В том числе и Мани Малевич, красивой черненькой девочки, на которую многие из учеников поглядывали на уроках. Ученье можно было только условно назвать уроками. Они почти не интересовали ни учителей, ни учеников. Все ждали развязки. До выпускных экзаменов оставалось немного времени, и надо было, хоть с грехом пополам, окончить школу и получить свидетельство. Ведь около семи лет жизни протекло в ее стенах!
Прислушивались к разных слухам: и правдивым, и ложным. Правда, ложных было больше – кому-то нужно было сеять панику. При малейшем подозрении на налет или при появлении в море немецкой эскадры мы разбегались по домам. Бабушка усиленно курила, а курила она так, что самые завзятые курильщики не могли с ней соревноваться. Часто даже ночью вставала и дымила. Удивительно, что ее неумеренное курение никак не отражалось на ее комплекции – полнота ее была сверх всяких габаритов.
Каждый день узнавали нерадостные вести об успешном продвижении немцев на фронтах, и однажды нас как громом поразила весть: немцы заняли станцию Бейсагола около Радзивилишек. А это означало, что наша Либаво-Роменская железная дорога перерезана, и прямой путь на Сновск нам заказан, удирать придется окружным путем через Ригу.
Писем из Сновска от наших не было. Нам казалось, что они не успели проехать злосчастную Бейсаголу, и их захватили в плен немцы.
С каждым днем немцы все ближе подходили к Либаве, и когда заговорили о занятии ими станции Муравьево, что в сотне километров от Либавы, то наша тревога и боязнь очутиться в плену у немцев, о зверствах которых писали газеты, сменилась решимостью удирать во что бы то ни стало и любым путем туда, в родной Сновск, где ждут нас наши родные. Мы все же верили в то, что они добрались благополучно.
Ни о каких экзаменах уже не было и речи, нас распустили.
Поскольку станция Муравьево, от которой был путь на Митаву, была уже у немцев, а узкоколейка на Газентоп бездействовала, и ее паровозы были эвакуированы, то железнодорожных путей отхода для нас не было. Оставался единственный – пеший ход. К нему мы и начали готовиться. Бабушка навязала узлов из подушек, одежды и прочего. Я связал объемистую пачку книг, и когда взвесили эти свои ноши, то стало понятно, что далеко нам с этим багажом не уйти. Уменьшили вес, выбросив лишнее и оставив наиболее дорогое, и все же вес узлов был непосильным. На нашу беду началась какая-то суматоха: не то обстрел с моря, не то налет с воздуха, и мы, бросив свои облегченные узлы, с тяжелым чувством окинули взглядом квартиру, свое нехитрое остающееся имущество, и вышли. Не помню, закрыла ли бабушка на замок дверь. Возможно, что и нет. Тяжело было расставаться с Либавой! У бабушки в руках маленькая сумочка, у меня тоже какая-то мелочь. Узелок с едой. Вышли на Александровское шоссе и влились в толпу беженцев. Вдали виднелась Либава, в нескольких местах были пожары. Прощай, Либава! Хорошее воспоминание осталось о тебе, несмотря на все невзгоды военных 1914–1915 годов!
Миновали Гробин, издали посмотрели на развалины замка – место наших нелегальных паломничеств, и к вечеру подошли к какой-то избушке. В каморке, напоминающей хлев (за перегородкой что-то мычало), на грязном полу вповалку с такими же бедолагами мы переспали и рано утром продолжили путь к Газентопу. На ноге у меня появились волдыри, но идти босиком было холодно. Не помню точно, дошли мы до Газентопа или свернули на дорогу, не доходя до него. И вот, мы идем по дороге на Гольдинген. Редкие встречные местные жители пугают нас слухами, что, де, уже недалеко видели немецких кирасир в касках. Это придало нам энергии, и мы стали двигаться быстрее. Перспектива встретиться с отрядом немцев страшила нас. Бабушка только пыхтела, но шла.
Впереди показался городок Гольдинген, и вот мы уже на одной из его улиц. Остановились у дома с какой-то полицейской вывеской. Отряхнули пыль, бабушка решительно вошла в большую комнату, я за ней. У широкого стола сидел какой-то полицейский чин в форме, у окна стоял мужчина в штатском. Бабушка пустила слезу, я шмыгал носом. Она просила о помощи, жаловалась, что ей трудно идти пешком, что нет денег. Полицейский со скучающим видом слушал бабушку и, когда она замолкла, изрек: «Бабка, беженцев много – не вы одни, обращайтесь в эвакопункт». Штатский подошел к бабушке, вынул бумажный рубль и дал ей. «Дай вам Бог здоровья», – поблагодарила бабушка, и мы вышли.
Гольдинген расположился в живописной местности, в основном одноэтажный городок. Видны некоторые высокие сооружения: кирхи или древние замки. Я был бы не прочь походить по городку, но бабушке побоялся даже заикнуться на эту тему – ей было не до экскурсий. Запомнился высокий мост, внизу река Вента. Теперь город Гольдинген называется Кулдига.
Расспросили ближайшую дорогу к станции железной дороги. Впрочем, особенно уточнять маршрут не приходилось. Потому что к ней двигался поток беженцев, нужно было только влиться в этот поток. И вот, мы влились, позади остался Гольдинген.
Прошли несколько километров, и бабушка, уверявшая меня, что денег у нее только рубль, достала из сумки три рубля и договорилась с извозчиком, и мы поехали. Не выдержала старушка пешего хождения и пожертвовала деньги из своего «НЗ»! Да и мои волдыри на ногах при виде подводы заболели еще больше. Местами я шел пешком – так договорились при найме, потому что воз был нагружен разной рухлядью, но все же большую часть пути я ехал. Миновали густой лес, и перед нами появился железнодорожный путь. С каким восторгом смотрел я на этот путь с обычными железными рельсами! Эти рельсы должны были спасти нас от немецкого окружения и плена, они подняли наш упавший дух и вселили надежду на скорое свидание с родными. Ведь за эти тревожные дни, после занятия немцами Бейсаголы, и Сновск, и наши дорогие родные, стали казаться чем-то недосягаемым.
Подъехали к небольшому пассажирскому зданию с вывеской «Стенде». На пути в тупике вагон. Это была небольшая станция Виндаво-Рыбинской железной дороги. При станции поселок. Бабушка рассчиталась с возчиком. Мы переночевали на квартире старичков-латышей. Старики, муж и жена, приняли нас весьма приветливо, но чувствовалось, что они не прочь были бы получить с нас за ночевку. К сожалению, денег у нас уже не было. Да и вещей никаких не было.
Потом попали в поезд, идущий по направлению к Риге. В поезде тесно. Ехали без билетов как беженцы. Проехали город Тункум, почти весь деревянный, миновали его и скоро сошли на вокзале в Риге. На вокзале многолюдно, потолкались около него, а дальше идти не решились. Да и домой стремились. Так и не повидав красавицы Риги, о которой я слышал много интересного в школе, мы сели в поезд, идущий в Двинск.
В Двинске на вокзале много людей, маршируют солдаты. В эвакопункте подкрепились и ждем поезд на Вильно. Из Двинска до Вильно поезд идет по родным местам Охотинского, которому я писал письма в город Видзы.
В Вильно опять пересадка. Походили с бабушкой по узким улочкам Вильно. Были у Остробрамской Божьей матери – это у поляков нечто похожее на московскую Иверскую Божью матерь. К сожалению, ничего кроме этой иконы мне не запомнилось о Вильно.
Потом Минск. Вообще, в Минске я бывал несколько раз. Это когда ездил на смотр «потешных», потом с матерью по сиротскому делу, теперь с бабушкой. Во время этих поездок я в Минске встречался с теткой Лукашевич Е.А. и с ее родней.
И, наконец, Сновск! Наш родной Сновск. Была радостная встреча со слезами радости. Ведь, если мы, будучи отрезанными, чувствовали себя, как в плену, то и они много тяжелых дней прожили в тревоге за нас.
Некоторое время жили почему-то в деревне Низковка, в четырех километрах от станции Низковка, а от Сновска в 24 километрах. Может быть, из-за наплыва беженцев в Сновске не было квартир, и нам пришлось временно жить в деревне Низковка. Что-то делал на водокачке отчим.
Как оказалось, доехали они из Либавы пассажирским поездом без всяких приключений. Вещи, отправленные по наряду в товарном вагоне, где-то путешествовали и прибыли через несколько месяцев в Сновск. Из-за неисправности вагона где-то, чуть ли не в Двинске, была перегрузка в другой вагон. Кое-что из вещей было поломано, чего-то не оказалось, но дрова получили целыми, без повреждений.
Мы еще долго рассказывали о своих дорожных невзгодах. Вспоминали Либаву, мирную жизнь в этом чистеньком, уютном городе, ставшим нам чуть ли не второй Родиной.
После Низковки, где мы недолго жили, перекочевали в Сновск, в район между Костельной улицей и Черниговской, недалеко от ветряной мельницы. Мы жили на квартире у Некрасова по соседству с Пуговкиными и Туриком. Недалеко проживала тетка Меланья (так ее все называли), которая пекла хлеб и продавала его на базаре. Хлебопекарен тогда не было – пекли каждый сам себе или покупали на рынке. Правда, была булочная австрийца Щица (тайного революционера), но его пекарня выпекала в основном булочки.
Помню, как раз ночевали в хатке под соломенной крышей, стоявшей на углу Костельной и нашей улицы, принадлежавшей главному кондуктору Борисенко. У Борисенко был сын Иван и дочь Христина. В последствии Иван был председателем месткома, а Христя трагически погибла – утонула в реке Сновь.
Вскоре нас, выпускников Либавской школы, вызвали в г. Минск для сдачи выпускных экзаменов, которые мы из-за эвакуации не успели сдать в Либаве. После экзаменов взамен временного удостоверения дали свидетельство об окончании двухклассной Либавской железнодорожной школы 15 апреля 1915 года. Свидетельство выглядело так: по двум предметам – 5, по шести предметам – 4, и по трем – 3.
Отчим работал в Сновском паровозном депо слесарем. Зарплата небольшая. Семья порядочная, уже семь душ (с бабушкой). Мне уже 14 лет. В Сновске из учебных заведений только железнодорожная школа, и если бы стоял вопрос о дальнейшей моей учебе, то ближе Гомеля учебных заведений не было. Конечно, определить меня в учебное заведение в Гомеле отчиму было не по средствам. Да и особого стремления и способностей я не обнаруживал, и единственный выход был работать.
По натуре своей я лентяем не был, и, хотя меня никто не неволил, я сам стремился определиться на какую-нибудь работу. Можно было попытаться поступить на железную дорогу «подметалой», благо мусора на путях после беженцев и пленных было предостаточно, но я помнил, что у меня за плечами семь лет учебы и, хоть и маленькое, двухклассное, но образование. И я нацелился на должность конторщика при дежурном по станции.
Заявление мое начальник со станции Коваленко благосклонно принял и разрешил приходить в дежурную комнату в качестве бесплатного практиканта – списчика вагонов подвижного состава. В обязанности списчика входила перепись номеров вагонов, прибывающих в Сновскую поездов (прим. – железнодорожная станция Сновская). Если состав прибывал ночью, то списывание усложнялось тем, что мешал фонарь, а он частенько потухал. А если было холодно, то руки не держали карандаш. Штатным списчиком был Юльян Круховский, живой черноглазый паренек, тот самый, который впоследствии женился на Рае Ботиной. Дублером к нему я и был приставлен. Вначале бегали вместе, а потом он посылал меня самостоятельно. Вспоминаю, как темной ночью при сильном холодном ветре я бегу списывать прибывший состав вагонов в сорок. Состав остановился в карьере около «горы счастья», примерно в километре-полтора от станции. Кругом лес – ни зги не видать! Руки мерзнут, с носа капает, и, конечно же, страшно. А номера шестизначные. Кончил списывать – бегу к станции. Круховский, посмеиваясь, подпускает меня к грубке (прим. – печь) погреться.
Помню его дурачество с коверканьем слов. Например, вместо слов: «Мороз, печка не горит», он говорил: «Ромоз, печка на рагит» и т. п. Сам смеялся от души и дежурные, находя в этом нечто смешное, тоже гоготали.
Дежурный по станции, некто Миланович, запомнился мне как виртуозный сквернослов: речь его никогда не обходилась без ввода матерщины. Его не стесняли ни присутствие начальства, ни женщины. Пассажиры оторопело глядели на окошко дежурного – это в телефонную трубку орал Миланович.
Немало ночей «клевал» я над грубкой, и вот, вскоре, практика моя закончилась. Начальник станции объявил, что после длительного бюрократического разбирательства пришел ответ: «Морозу в приеме на работу отказать из-за малолетства». Даже взяв во внимание трагическую смерть моего отца на железной дороге и многосемейного отчима, принимать юнцов моложе 16-ти лет запрещено.
Итак, по службе движения мне не повезло. Остался один путь – на путь!
1915–1920 гг. Город СновскЕсли до Либавы, живя в Сновске, мы были домовладельцами, и у нас проживали квартиранты, то после эвакуации из Либавы мы сами превратились в квартирантов.
После временного и недолгого проживания в Низковке в Сновске мы основательно и надолго осели квартирантами у Аникеенко Данилы Артемьевича на Старопочтовой улице, дом № 27. Хозяин Аникеенко ездил главным кондуктором, и, как болтали злые языки, эта его прибыльная должность помогла ему приобрести два довольно больших дома. В большем жил сам хозяин и сдавал еще две квартиры, а во втором, меньшем, поселились мы и наш сосед, поездной машинист Бычковский, живший с женой и сыном.
В семье Данилы Артемьевича преобладали женщины. Сама хозяйка была женщина болезненная, что не помешало ей пережить своего здоровяка Данилу. Дочери: Анна и Мария, ставшие потом учительницами, Валентина – комсомолка 20-х годов, и маленькая Саша. Сыновей было двое: Данила Данилович и Николай.
По соседству жила Козлиха (Козлова) с мужем – столяром депо, и сыновьями Иваном и Андреем, была и дочь – высокая девица. Козлиха, женщина злая и вздорная, напоминала ведьму.
Однажды, когда моя мать пожаловалась на ее сына, побившего меня, Козлиха схватила метлу и набросилась на мою мать с криком: «А насрать, ты еще щалиться здумала, хай собi бьются. А ты не встрiвай!».
Через улицу стоял дом машиниста Колбаско Павла с высоким крыльцом. У него три сына: Трофим, Иван и Василий, и дочери. По соседству с Козлихой – очень ветхий дом с крышей из соломы, в нем живет старушка Овчинникова, у нее сын Аркадий Мышастый и дочь Шура. Далее живут Вестфали с сыном Павлом Константиновичем, а еще далее – Николаенко, Руковичи, Табельчуки. На развилке Старопочтовой и Мостовой (Церковной) квартируют машинист Ботин с женой и дочкой Раей, почти лилипутского роста. По соседству с ними жил старик Пенников с женой, дочкой Верой и сыновьями Сергеем и Жоржем. Пенников вел себя очень оригинально: собрав ватагу подростков, он играл с ними в войну. Через улицу, напротив нас, жили в своем доме Ковальковы. Ковальков был родом из Людиново, около Брянска, работал в железнодорожном депо чуть ли не мастером. Жена его, сколько я ее помню, всегда сидела за шитьем. У них сыновья Николай и Александр и две дочери Мария и Лиза. Рядом с нашим домом был дом поездного машиниста Горобцова, жена его – учительница, она учила Щорса Н.А. в железнодорожной Сновской школе. У них сын Ваня. Ну и дальше такие фамилии, как: Кисель, Святский, Фадеевы, Морозовы, Колпаковы – с ними я мало сталкивался и не общался.



