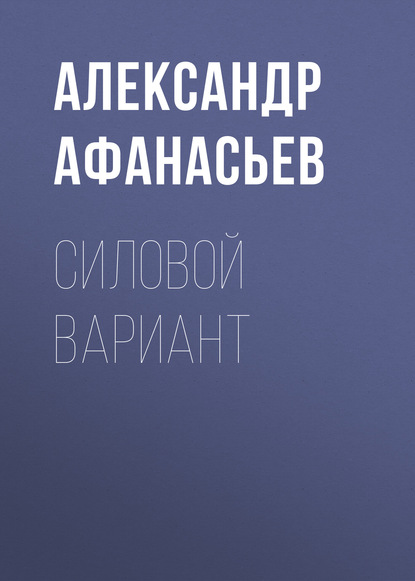
Полная версия:
Силовой вариант
Потом они наткнулись на свалку. Во время бунта, больше смахивающего на начало гражданской войны в стране и с трудом подавленного, жители Карачи с удовольствием жгли машины, которые им чем-то не нравились: в итоге в городе остались десятки, если не сотни тысяч сожженных машин. Их вывозили сюда, в несколько километров от города, в пустынную местность и бросали тут, превращая мирный пейзаж в апокалиптическую свалку. Сначала их свозили в порт, вроде как японцы планировали бесплатно вывезти их на металлолом, но потом пустили слух, что машины эти – из зоны заражения, и японцы вежливо отказались. Так и громоздилась здесь эта свалка, прирастающая в размерах каждый день – памятником политической ненависти и религиозному безумию.
На обочинах дорог жили люди…
Эти палаточные города простирались километров на двадцать от города по любой дороге, ведущей в сторону от Карачи, единственного крупного города, где поддерживается какое-то подобие порядка, где можно найти хоть какую-то работу или сесть на пароход и уплыть. Куда угодно уплыть, только прочь из этой страны с ее мертвой, не дающей урожаев землей, с ее диким народом, с ее радиацией, убивающей медленно, но верно.
Палатки, контейнеры, какие-то куски шифера, стали, доски, сложенные в безумного вида хижины, дети, полно детей, нищих, голодных, разутых, протягивающих руки к проходящим по дороге машинам – гуманитарную помощь не прекратили разворовывать даже перед угрозой социальной катастрофы. Такова была цена политических решений маньяка у власти. Такова была цена военного угара, охватившего страну. Такова была цена джихада, цена отказа от цивилизации во имя торжества варварства.
Джекоб Шифт вдруг подумал, что все это напоминает ему Апокалипсис. Если и не сам апокалипсис – то его преддверие. Проигранную третью мировую войну.
Когда его отправили сюда – директор ЦРУ, так же как и Шифт ненавидящий СССР до зубовного скрежета сказал ему – вы будете работать на переднем крае. На самом переднем крае. Мы проигрываем войну Советам. Наша страна, наши ценности, весь наш образ жизни, вся западная цивилизация – под угрозой.
Теперь он видел, что это значит на самом деле.
Потом палаточные лагеря и свалки кончились, и пошла земля. Где-то распаханная – но большей частью нищая, урожаев не дающая. Здесь, больше чем на сто миллионов человек – приходилось меньше акра пашенной земли на каждого.
Колонна шла по дороге, встречая другие колонны – пустые, спешащие в порт на погрузку грузовики под белым флагом ООН. Здесь была, без преувеличения – дорога жизни для миллионов людей…
Шли очень медленно. Кое-где останавливались, часть машин уходила из конвоя, часть – принимали.
К утру следующего дня, преодолев примерно несколько сот миль, они прибыли к самому жерлу ада. Погранпереход на границе Афганистана и Пакистана. Южный переход, после прорыва крупных сил моджахедов и пакистанцев афганцы здесь все заминировали, выставили сторожевые посты. Каждый день несколько десятков человек подрывалось на минах в самоубийственной попытке проникнуть в Афганистан – где есть советская помощь и нормальное, пытающееся быть справедливым общество. Ходили слухи, что севернее есть тайные тропы в горах, там людей проводят в Афганистан за большую плату.
Джекоб Шифт заметил ориентир – примерное место, оно было на фотографиях в досье как отправная точка его путешествия в Афганистан. Позиция пакистанского пограничного патруля, пара километров от самой границы, на холме, господствующем над местностью. Там было выстроено что-то вроде опорного поста пограничников, мини-крепость, каменная, с бойницами. Шифт знал, что это одно из любимых мест для посещения высокопоставленными американскими разведчиками во время их визитов в Афганистан: фотографии с этого места были и у бывшего директора ЦРУ Кейси и у нынешнего Одома, и у Збигнева Бжезинского и у конгрессмена Чарли Уилсона, вложившего огромный вклад в финансирование моджахедов и не раз лично бывавшего в Пакистане. По преданиям, ходившим в ЦРУ – особенно неистовствовал здесь Бжезинский: взобравшись на крышу, маленький злобный поляк обратился лицом на Запад и долго что-то орал на смеси русского, польского и английского, потрясая сухоньким кулачком. После того, что произошло в Пакистане – Бжезинский не показывался на людях, по Вашингтону ходили недобрые слухи, что он проходит лечение в закрытой психиатрической клинике…
Здесь – табор начинался километров за двадцать до таможенного и пограничного поста, дозиметры были везде, их колонна пробиралась в час по чайной ложке, а потом и вовсе встала. Потом они продвинулись вперед на несколько сотен метров – и водитель автобуса заявил, что дальше их не повезет. Дорога и впрямь была перекрыта, лучше туда было не соваться…
В отличие от обычных пассажиров автобуса, Джекоб Шифт путешествовал налегке – с дорожным чемоданом и большим баулом, здесь это было налегке. Стоило ему только сойти с автобуса – как толпа бачат осадила его со всех сторон, бачата вопили, кто-то хватался за чемодан, то ли предлагая помочь нести, то ли пытаясь украсть, кто-то откровенно лез в карман, кто-то протягивал руку, прося о помощи. Вспомнив советы более опытных товарищей, не раз бывавших в таких странах, Шифт разделил все наличные деньги, какие у него были на несколько частей, две тонкие стопки купюр засунул под стельки ботинок, еще две – в нашитые изнутри карманы безрукавки. Туда же сунул и паспорт, и карточку с аккредитацией, и рекомендательные письма, в карманах не оставил ничего. «Деньги» на фарси было «пуль», он знал фарси, и можно было бы бросить горсть медных монет, чтобы отстали – но человек, готовивший его к заброске, и сам не раз здесь бывавший, делать подобное не советовал. Ограбят уже по-серьезному, а то и убьют.
Через это людское месиво он проталкивался только полчаса, чтобы встать в конец изнывающей под солнцем очереди, стоящей к таможенному посту, там, как и везде на востоке, работой себя особо не утруждали. Взглянув в начало очереди, Шифт понял, что стоять придется часа два или три, и беспомощно оглянулся по сторонам. Несмотря на местную одежду у него не было чалмы, и можно было запросто заработать солнечный удар.
– Мистер, мистер! Товарищ! Рафик! Эфенди!
Кто-то назойливо дергал его за рукав. Посмотрев, Шифт увидел стоящего перед ним пацаненка лет десяти. В отличие от других таких же бачат, на этом были ботинки, а это само по себе было признаком. Ботинки здесь были роскошью.
– What do you want? – спросил Шифт по-английски.
– Афганистан? Афганистан? – пацаненок ткнул пальцем туда, где было начало очереди.
– Yes, Afghanistan.
– Фифти доллар! Фифти доллар – Афганистан. Афганистан – фифти доллар.
Доллары у журналиста Шифта были, но он не хотел их пока светить. Достал две сиреневые банкноты с профилем В.И. Ленина, показал их бачонку. Бачонок моментально сориентировался – показал шесть пальцев. Ага, значит, три советских рубля стоят один доллар, такой курс на границе и скорее всего, в самом Афганистане. И даже в Пакистане знают, как выглядят советские деньги и что они стоят. Интересно, интересно…
Джекоб Шифт отсчитал требуемую сумму и протянул ее бачонку, тот сноровисто, как банковский кассир пересчитал купюры, и спрятал их так быстро, что Шифт не успел понять, куда именно. Потом, вцепившись ему в рукав, потащил из очереди.
Сопровождаемыми усталыми, безразличными, а то и ненавидящими взглядами, они подошли к пакистанскому таможенному посту. Тут пацаненок потащил Шифта прямо в здание поста, и он испугался – там его могли схватить, мало ли что придумают пакистанцы, ведь они в своем поражении обвиняют и Америку тоже. Но они – всего лишь прошли темным коридором, и вышли на ничейную землю между двумя постами.
На афганском посту бачонок о чем-то коротко переговорил с одним из пограничников, судя по звездам на погонах, это был старший лейтенант или что-то подобное, соответствующее звание в афганской армии. Ничего и никого не стесняясь, протянул пограничнику купюры. В разговоре Шифт уловил проскальзывающее «Вроу». Ах вот в чем дело! Вроу – на пуштунских диалектах «брат», значит, старший стоит на пограничном посту, а младший – ищет клиентов по ту сторону границы. Пятьдесят долларов с клиента – это больше, чем среднее жалование старшего лейтенанта в афганской армии за месяц. Его предупреждали о царящем здесь разложении, причем с обоих сторон – а теперь он столкнулся с этим лично.
Как и прошлый раз – бачонок провел его через афганский пост, никакие документы с него не спрашивали и не досматривали. Вывел – уже на афганскую землю.
– Ташаккор, бача… – поблагодарил бачонка Джекоб Шифт.
– Бамона хода[7], мистер – отозвался бачонок, и со всех ног припустил обратно, к афганскому посту.
Агент ЦРУ Джеком Шифт только что «порвавший нитку», «инфильтровавшийся», «заброшенный с заданием» в Афганистан за сто пятьдесят советских рублей – вздохнул и пошел вглубь афганской территории. Где-то тут должна была быть стоянка такси, автобусов, или что-то в этом роде, что позволит ему доехать до Кандагара и дальше.
* * *Пограничник, только что получивший от своего маленького брата шесть сиреневых купюр по двадцать пять рублей, прошел в здание пограничного поста, в узком и темном коридоре столкнулся с советским военным советником, который учил их работе на границе. Шесть сиреневых купюр – незаметно поменяли хозяина…
* * *Автобусная станция конечно же была. Рядом стоял в беспорядке целый выводок такси, машин пятьдесят, не меньше, но Шифт решил ехать на автобусе. Ему рекомендовали пользоваться именно общественным транспортом, потому что так меньше шансов погибнуть или быть похищенным. Кроме того – он справедливо подозревал, что водители такси, возящие клиентов от самой границы – все как один стучат в ХАД, а в толпе – намного проще затеряться.
В этом он был прав.
На автобусах были надписи, куда они едут – на пушту, на дари (фарси) и к его счастью – на русском, который он знал. Пройдя мимо длинного ряда автобусов – это были советские ПАЗ, венгерские РАБА и чешские Шкода, разваливающиеся на ходу, он нашел автобус, на котором по-русски было написано Кандагар, потом подошел к группе шоферов, куривших около соседнего автобуса. Пушту – а это были пуштуны – он знал, но немного.
– Салам алейкум – сказал он.
– Ва алейкум ас салам… – нестройно ответили водители.
– Ин отобус кей херокад миконад?[8]
– Ен саад, эфенди[9] – отозвался один из водителей, он говорил не на чистом фарси (дари) а на каком-то диалекте.
– Коджа ман харидан белит?[10]
Расставшись с шестьюстами афганями – довольно дорого – агент Шифт стал обладателем билета, который продал ему один из водителей, здесь все было по-простому. Оставался еще час до отправки – и можно было осмотреться по окрестностям, не слишком, в общем, отходя от автобусной станции…
* * *Агента ЦРУ Джекоба Шифта сотрудники КГБ СССР взяли под контроль сразу при прохождении границы. Только один из офицеров был в форме – форме пограничных войск, он был военным советником при афганской пограничной страже и контролировал непосредственное прохождение американским агентом границы. Этот офицер находился здесь не просто так: КГБ контролировало здесь «лаз» через границу, которым могли воспользоваться иностранные разведчики – не подозревая, что с момента прохождения лаза они попадают под контроль советской разведки. Деньги, которые ему передал «коррумпированный» афганский пограничник – советский офицер положил в пакет – с очередным вертолетом, он отправит эти купюры в Кабул, чтобы там поискали отпечатки пальцев, возможно, так удастся точнее идентифицировать пришельца. Немаловажно было узнать и то, являются ли эти деньги подлинными, или фальшивыми, напечатанными в лабораториях ЦРУ. Когда прошел обмен крупных купюр – американцы лишились огромных сумм, накопленных в подвалах швейцарских и американских банков для того, чтобы в нужный момент, в сотрудничестве с врагами народа выбросить их на потребительский рынок, вызвав инфляцию. Теперь эти деньги можно было выбрасывать – но советская разведка получила информацию, что американцы наладили печать двадцатипятирублевых купюр, чтобы компенсировать потери. То, что у иностранного агента оказались именно двадцатипятирублевые, пусть и потрепанные купюры – было интересно.
Когда американский агент прошел границу и направился к находящейся тут же стоянке автобусов и такси до Кандагара и даже до Кабула – офицер дал условный сигнал рукой (по-иному было нельзя, не исключено, что с той стороны пересечение границы обеспечивалось радиотехнической разведкой противника, и любой радиовсплеск был бы засечен) выводному – агенту, который должен был начинать слежку. Выводной, одетый как пуштун провел американца несколько десятков метров и остановился, передав его двум другим агентам, сам же он направился к стоявшим неподалеку такси. Один из агентов прошел к автобусам, вслед за американцем, и купил билет на тот же автобус, что и он. У агента были два больших баула с бытовой техникой – он купил ее подешевле здесь, чтобы довезти до Кабула и продать там, на базаре с наценкой. Когда пассажиры в автобус набились как сельди в бочку, водитель автобуса, усатый афганец – этнический таджик – завел двигатель и выехал со стоянки. Проехав примерно с километр, он пристроился к хвосту большой колонны, которая шла в Джелалабад под конвоем Советской Армии. Такие колонны ходили каждый час, место в них стоило недорого, и для торговцев это было намного выгоднее, чем терять товар в нелегальных караванах.
Агент, который купил билет вместе с американцем, сидел сзади, это был невысокий и жилистый, загорелый, бородатый мужчина, обнявший объемистую сумку с товаром, и настороженно смотрящий по сторонам, как будто кто-то хотел отнять у него сумку с товаром. В сумке был дорогой и не слишком крупный товар, так называемые «вокмены», небольшие магнитофоны, которые надо было подвесить на пояс, и они играли музыку со стандартной кассеты, последний писк моды кабульских базаров, на которых стало меньше шурави, но сами афганцы стали жить лучше и покупать больше. Тридцать девять вокманов, которые этот человек купил здесь, в приграничье, ровно тридцать девять и один точно такой же, который он привез с собой и положил в ту же сумку. Потому что где лучшего всего спрятать дерево – как не в лесу.
В нескольких машинах от автобуса к колонне присоединился пикап, в нем сидели еще двое пуштунов…
Ровно в одиннадцать часов по местному времени – колонна тронулась.
Афганистан, Кандагар. Аэродром. 12 июня 1988 года
Аэродром Кандагара, почти полностью уничтоженный во время афгано-пакистанской войны – быстро восстановили, но не до конца. Старое здание управления полетами решили не трогать, построили новое. На нем, почти разрушенном – теперь была грубо сработанная плита из афганского мрамора, на которой были выбиты имена погибших здесь, в жестоком и неравном бою с душманами и солдатами регулярной пакистанской армии. Теперь – это был памятник, и в развалинах – всегда стоял накрытый кусочком хлеба стакан с техническим спиртом, который сливали с самолетов. Это было именно то, что пили покойные при жизни, этим поминали их и в смерти…
Уаз – 469 батальона аэродромного обслуживания выкатил на залатанную военными строителями полосу нечто странное. Это был самолет, размером примерно с Як-52, только без кабины. Тот же самый движок от Яка, длинные крылья, позволяющее самолету дольше оставаться в воздухе, фюзеляж, в котором место пилота занимало топливо. На самолете была разведывательная аппаратура последнего поколения и аппаратура, позволяющая передавать данные (в том числе видеосигнал) либо на самолет – ретранслятор, либо на наземный пост управления, размещавшийся в обычном КУНГе с антеннами.
Это и был аппарат «Ворон», произведенный МОЭПО, Московским опытно-экспериментальным производственным объединением, созданным при поддержке людей из ЦК КПСС на московском заводе «Знамя труда», производящем самолеты Миг. Началось все с того, что нескольким молодым инженерам попал в руки аппарат, который упал в расположении сирийских войск в восемьдесят втором году, во время войны с Израилем. Тупая советская привычка все засекречивать обходилась дорого – если бы не настойчивость одного из выпускников МАИ, искавшего тему для дипломной работы – этот аппарат так бы и пролежал в спецхранилище без толку. Советские инженеры просто не понимали, зачем советской армии нужен разведывательный аппарат, который можно сбить удачной очередью из пулемета – им подавай сверхвуковой «Ястреб» Туполева, который запускался с четырехосной машины. Урок долины Бекаа, когда благодаря наведению с таких вот аппаратов была наголову разгромлена мощнейшая система ПВО – впрок не шел… по крайней мере до какого-то момента. Истратив несколько литров спирта, выпускник МАИ все же сумел ознакомиться с примитивным творением израильской военщины и сварганил примерно такой же аппарат – только на восемьдесят процентов состоящий из уже освоенных советской промышленностью компонентов. Защита дипломной работы едва не провалилась. Почувствовав опасность советские «ученые» решили дать бой неопытному в бюрократических баталиях юнцу, который тот обречен был проиграть – если бы об аппарате случайно не узнал инструктор отдела оборонной промышленности ЦК КПСС, заглянувший в МАИ. Председатель Государственной технической комиссии Юрий Дмитриевич Маслюков требовал новых разработок. Спешно организовывался в отдельный род войск спецназ, Комитету государственной безопасности по настоятельной просьбе товарища Алиева передали три мотострелковые дивизии, которые предстояло довести до ума и сделать из них три дивизии войск специального назначения КГБ СССР – все это требовало неких новых подходов к вооружению и оснащению. Дальше – все произошло примерно так же, как с ударным самолетом Скорпион, для производства которых сейчас открыли отдельный цех в Ташкенте. Поездка на Старую площадь, разговор нескольких неопытных юнцов лично с товарищем Маслюковым – и через два дня постановление ЦК КПСС о создании МОЭПО на базе завода в Луховицах с конструкторской поддержкой КБ Яковлева и Микояна. Советская бюрократическая машина была косной и неповоротливой – но в то же время, если счастливчикам удавалось добраться до самой верхушки – решения принимались быстро, жестко и правильно. Юрий Дмитриевич, успевший согнать немало толстых задниц с насиженных ими кресел – был не тем человеком, с которым можно было шутить и саботировать его распоряжения. Все на собственной шкуре убедились – расправа следовала конкретная.
Благодаря тому, что Ворон собирался почти весь из уже освоенных промышленностью узлов и агрегатов – производство удалось пустить через полгода. На последней встрече с молодыми конструкторами, которым работу по Ворону зачли как дипломную – Юрий Дмитриевич посоветовал работать и в направлении гражданской продукции, заметив, что еще Леонид Ильич Брежнев приказал, чтобы на всех военных заводах страны на один рубль военной продукции выпускалось как минимум на один рубль продукции гражданской. В Жуковском в этом году организовывали слет конструкторов – самодельщиков, которые должны были представить свои наработки в области легкой и сверхлегкой авиации – а МОЭПО должно было отобрать самые лучшие конструкции для производства как военных, так и гражданских образцов. Сейчас, на стапелях МОЭПО стояли образцы: Коршун – размером больше, чем АН-2, с бомбами, НУРСами и в перспективе с управляемыми ракетами и Воробей. Этот аппарат должен был перевозиться в машине и запускаться с руки человека. В качестве основы этой конструкции – приняли работу ребят из дворца пионеров.
Первые Вороны прибыли в Афганистан пару месяцев назад и с самого начала заслужили глубокое уважение военных. А ну-ка – идет колонна, а над ней кружит этот аппарат, в колонне идет машина управления, в ней экран и командир колонны видит, что происходит перед ней. Прямо сразу видит, в режиме реального времени! Аппарат может пролететь дальше, осмотреть склон, опасный поворот, место, где часто бывают засады, подозрительный кишлак. Если видно, что впереди засада – тут любому дураку понятно, что делать. Развернули минометы – да и накрыли место засады, корректируя огонь по тому же Ворону, по картинке, которую он дает. Или зеленка. Кружит над зеленкой аппарат, авианаводчик смотрит и передает команды летчикам или группе спецназа, действующей в зеленке. Самое главное – увидеть противника прежде, чем он увидит тебя, если увидел – шансов у душманов нет, как нет шансов у любой банды против частей регулярной армии.
УАЗ, бодро фырча мотором, вывел аппарат на полосу, там один из летных техников отцепил водило[11]. В УАЗе же находилась стартовая аппаратура контроля, ею управлял инженер.
– Предполетный контроль – громко крикнул инженер – питание!
– Есть! – отозвался техник, включая питание вручную.
– Плоскости!
На аппарате зашевелились элероны, которые были здесь как на обычном самолете.
– Норма!
– Хвостовое!
– Норма!
– Тормоза!
Техник нагнулся и осмотрел тормоза.
– Норма!
– Потребители!
– Норма, есть движение!
– От винта!
– От винта выполнил… двигатель запущен!
Двигатель – простейший, питающийся бензином, специально переделанный так, чтобы потреблять его как можно меньше – схватился «с полтолчка», уверенно зажужжал.
– На полосе чисто, предполетный выполнен… вышка!
– Мы вас видим – отозвалась вышка – есть разрешение.
– Управление!
– Принято, готовы – отозвался КУНГ, в котором находились «потребители» разведывательной информации. Как только аппарат оказывался в воздухе – управление переходило от группы запуска к группе управления…
– Принял решение произвести запуск. Обороты…
Самолет едва удерживался на месте, готовый сорваться в полет, его удерживали лишь тормозные колодки. Мотор работал ровно и стабильно.
– Полоса!
– Чисто!
– Взлет!
Самолет рванулся вперед, его начало заносить влево по полосе – но инженер парировал это ручкой управления. Пробежав сотню с лишним метров, аппаратик оторвался от земли и начал набирать высоту, превращаясь в едва заметную точку в небе…
– Так… запуск… шестьдесят три… успешно, без претензий – инженер заполнял журнал летной работы – иди, распишись. На сегодня, наверное, отмучались.
– Навряд ли… – техник служил здесь больше, чем инженер и чувствовал обстановку по только ему известным признакам – какая-то ерунда серьезная делается, если ретранслятор подняли. Не дадут нам сегодня покоя…
Самолетик, который запустили с Кандагарского аэродрома, покачиваясь в восходящих воздушных потоках, спиралью поднимался над городом. С левой плоскости уже была видна плотина ГЭС Суруби, которую тогда чудом удалось уберечь от подрыва, видна были и нитка дороги Кандагар – Кветта, запруженная транспортом. Заняв положенный эшелон, самолетик завершил последний при наборе высоты круг и полетел на восток…
Воздушное пространство Афганистана. Борт самолета Ан-12РТ 86 ОДРАЭ. Операция «Сеть». 12 июня 1988 года
Окрашенный в светло-серый цвет четырехдвигательный Антонов-12РТ, выделявшийся среди других самолетов уродливыми наростами антенн по бокам – неспешно описывал круги над пустыней, стараясь держаться на максимально выгодных с точки зрения экономии топлива высоте и скорости полета. Официально – это был самолет – ретранслятор, призванный обеспечить надежной связью все отряды и группы, действующие в приграничье, а так же нормальную связь с Кабулом джелалабадской группировки. На самом же деле – самолет принадлежал к восемьдесят шестой отдельной разведывательной эскадрилье и функции его были несколько шире…
– Береза, Береза, я Купол два, Купол два. Аппарат семь вошел в зону, мы его видим. Передавайте управление, передавайте управление.
– Купол два, передаю управление, все системы стабильны, до передачи пять четыре три два один – управление передал.
– Береза, управление принял.
Оператор на борту модернизированного Ан-12РТ покачал штурвалом, чтобы убедиться в том, что самолетик слушается – и показания авиагоризонта и других приборов подтвердили, что самолет перешел под воздушный контроль.
Управление беспилотным аппаратом с борта большого самолета было для советской военной науки и практики совершенно новым направлением – да и не только для советской. Во Вьетнаме американцы использовали небольшие самолеты – они запускались либо с земли, либо с борта С130, почти такого же турбовинтового транспортника. Разница была в том, что они летели по раз и навсегда заданному маршруту и не могли отклониться от него – а тут нужно было реализовать именно управление. Но это реализовали – в войска поступили уже три Ан-12РТ, модернизированных для управления беспилотными аппаратами с воздуха, на каждом из них было по два операторских места для управления беспилотниками. Уже были отработаны все элементы управления – и даже такие сложные, как взлет и посадка на аэродром по управлению с воздуха…



