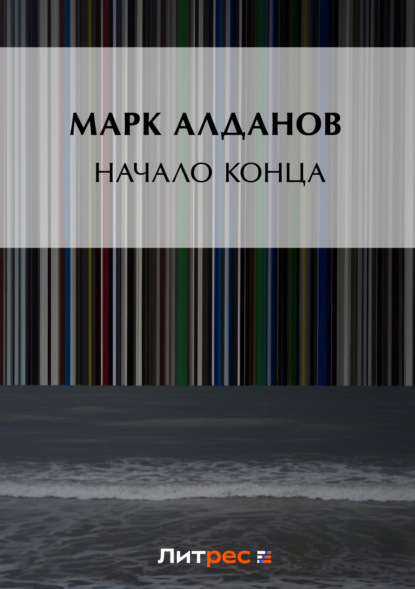 Полная версия
Полная версияНачало конца
Вода, вопреки договору с хозяином дома, была не горячая, а разве чуть теплая: и посидеть в ванне нельзя, и сон окончательно сорвешь. Это чрезвычайно его раздражило. «Завтра же ему написать: сказать Альвера, чтобы написал на машинке, иначе он еще продаст автограф, мерзавец этакий!.. От холодной воды после такого обеда может случиться удар…» Хотя он знал (или так как знал), что едва ли с ним удар случится в эту ночь – давление крови шестнадцать, – с полной ясностью себе представил, как будет хрипеть в ванне до утра, пока не придет старуха. «Она бросится за консьержкой, консьержка прибежит сюда, они общими силами постараются поднять меня и перенести на постель…» Трагическое безобразие этой сцены поразило его и заняло. «Через полчаса приедет доктор, констатирует смерть и с торжественным видом позвонит куда следует: «Луи Этьенн Вермандуа скончался!» Через час прискачут журналисты, откуда-то появится какая-то книга (или нет: кажется, листы с черной каемкой) и начнут расписываться друзья. Тот молодой психопат сообщит репортерам подробности моего образа жизни, колеблясь между горем – «больше не будет жалованья» – и радостью, – «вот ты отправился к отцам, а я еще лет пятьдесят проживу!» Графиня, как «ближайший друг», будет, сдерживая глухие рыдания, принимать представителей президента республики и министра народного просвещения. «Еще вчера мы с ним провели вечер, он был весел и блестящ, как никогда…» В Академии произойдет сильное волнение: неожиданно открылась вакансия, на которую никто из собратьев и не надеялся… Эмиль приедет с постной физиономией и, расписываясь со своим росчерком, выдавит: «Какая потеря!» Журналисты тотчас запишут: «Какая потеря!» – сказал он».
Мысли эти, несмотря на иронический тон, его взволновали: ему показалось даже, что с ним и в самом деле произошел какой-то припадок. Правда, это лишь показалось: все-таки знал, что припадка не было и что давление крови шестнадцать. «Ну, не сегодня, так через год, особенно если из-за всего волноваться, как сумасшедший. Нет, положительно, бросить Париж, продать Ван Лоо, продать всю эту фарфоровую и порфирную дрянь, выручить что можно, благо ценность дряни дополняется моей славой: «из коллекции Луи Этьенна Вермандуа», и уехать, – и пусть романы пишет, до самой своей безвременной кончины, мой друг Эмиль!..» Как всегда, мысль, что Эмиль теперь пишет плохо, очень плохо, с каждой книгой все хуже, немного утешила Вермандуа. «Если б и вправду сейчас умирать, то было бы маленьким утешением, что больше никогда не увижу Эмиля…» Он разделся и, стараясь не глядеть с отвращением на свое старческое тело, сел в воду.
В ванне настроение у него становилось все мрачнее. Иронический тон чувств отлетел совершенно. Теперь в самом деле был припадок: припадок полного, казалось бы, беспричинного отчаяния. Он не видел просвета ни в чем: все было гадко, плоско, ужасно, ни о чем без стыда нельзя было вспомнить. И по сравнению с этим, собственным, личным, отходило на второй план то, что мир приближался к бездне, – нет, не отходило на второй план, но так тесно переплеталось, что было невозможно отделить одно от другого. От еле теплой воды у Вермандуа застучали зубы, он опять, с тем же морально-тяжким усилием, встал, закончил свой ночной туалет, вошел в спальню и лег в постель. Погасил было свет и полежал с четверть часа в надежде, что заснет; затем почувствовал, что заснуть нельзя и что нет силы бороться с тоской. Он снова зажег лампу и взял со столика книгу.
Это было французское издание разговоров Гёте с канцлером Мюллером – вполне приличная livre de chevet[118], такая, которую можно было смело назвать в задушевно-глубокой беседе с интервьюером. На прошлой неделе Вермандуа и в самом деле сказал явившемуся за задушевно-глубокой беседой журналисту, что предпочитает эту книгу Эккерману: «У Эккермана парадный Гёте в понимании недалекого, если не глупого, юноши. А у Мюллера Гёте непричесанный и капризный, в спорах с умным, пожившим и культурным человеком». Ему потом было совестно, что он назвал Эккермана недалеким юношей, это было клише, и неверное клише. А дня через три он с ужасом и отвращением прочел украшенное его портретом интервью, где что-то говорилось о «cet immense bonhomme de Johann-Wolfgang vu par Louis-Etienne Vermandois»[119], и даже нельзя было понять, просто ли это пошлая фраза или в почтительной форме коварная насмешка – глаза я улыбка у интервьюера были хитрые.
Он перелистал книгу с предвзятым сознательным недоброжелательством, «так, собственно, и надо читать всех замечательных писателей, если не хочешь попасть к ним в рабство…» – «Жизнь госпожи Крюденер подобна древесным опилкам: из нее в лучшем случае можно извлечь немного пепла для производства мыла…» – Образ из тех, что годятся для беседы или для черновика, но в беловую рукопись Гёте попасть не могли. Да и о какой человеческой жизни, собственно, нельзя было бы сказать того же самого?.. – «Надо было бы, чтоб немцы были рассеяны, как евреи, по всему лицу земли: только тогда они и могли бы дать меру своих способностей…» – Это был тоже «сверкающий парадокс», и политический деятель, канцлер Мюллер, вероятно, слушал его с уныло-покорным видом: нельзя же помешать великому человеку, да еще в 80 лет, говорить какой ему угодно вздор… – «Цензура полезна, так как приучает к полускрытому, и потому более тонкому и остроумному, выражению мыслей. Прямое выражение мысли обычно тяжеловато…» – Может быть. Однако это довод, придуманный нарочно для оправдания веймарских цензоров. Он верил в свободу духа и в блага цензуры, в величие дела французской революции и в величие дома Ротшильдов, издевался над бессмертием души, но находил, что мир погибнет, если обер-гофмаршал женится церковным браком на еврейке… Впрочем, очень многое говорил, конечно, назло своим собеседникам: его, должно быть, интеллигентное лицо канцлера Мюллера раздражало еще больше, чем восторженно-наивная физиономия Эккермана: «как бы не пропустить какой-нибудь новой гениальной мысли Его Превосходительства…» И самое замечательное то, что в такой нелепой обстановке, из этих долголетних ежедневных интервью он сумел создать интереснейшие, ценные книги.
Даже в редкие минуты профессиональной мании величия, вообще ему почти не свойственной, Вермандуа не сравнивал себя с Гёте. Но ему приятно было видеть, что и этот навсегда, на весь мир прославленный человек жил почти в такой же обстановке, как он, так же тяготился людьми, так же не мог без них обойтись, так же терпел обиды, так же подчинялся требованиям своего общества. «Самый Мефистофель его – общедоступный, конформистский черт: недаром им трепетно восторгается десяток поколений немецкого юношества, и недаром он в опере теряет так мало по сравнению с поэмой…»
– Требовал себе права не верить ни во что, в минуты откровенности не скрывал, что ни во что и не верит. – Издевался над глупостью королей, над зверством революций, над истинами откровения, над верой, над собственным своим неверием. – И больше всего завидовал простодушным людям, все равно портным или художникам. Гайдна спросили, отчего так радостны его мессы. – «Оттого, что, когда я благодарю Творца, я всегда неописуемо счастлив». Услышав это, престарелый Гёте прослезился.
Вермандуа в смертельной тоске отложил книгу. «Да, так больше жить невозможно… Чем жить? Для чего жить? Допустим, я сейчас умру: поднимет ли мою душу близость смерти? Нет, едва ли, и я не могу этого приписывать только собственному ничтожеству, вот и этот человек, один из величайших в мире, почти так же был опутан жалкими чувствами – не так же, пусть по-своему, а все-таки был опутан, – и в ненужно откровенные свои минуты сам в этом сознавался – не одному себе, но и другим людям. Старый, так много знавший, так много о разном, обо всем, о жизни думавший человек, чему ты можешь научить без «парадоксов», без стихов, без звонких речей, чему ты можешь по-настоящему научить другого старого человека, которому тоже осталось жить недолго? Не заглядывая в книги, помня только общий твой облик, посметь думать за тебя, попытаться, не пользуясь твоими словами, проникнуть в твою не книжную, а настоящую «мудрость»?
– Делать в жизни свое дело, делать его возможно лучше, если в нем есть, если в него можно вложить хоть какой-нибудь, хоть маленький разумный смысл. Пусть портной шьет возможно лучше, пусть писатель пишет, вкладывая всю душу в свой труд… Не уверять, что трудишься для самого себя, – ведь и он мечтал об огромной аудитории и откровенно советовал тем, кто не ждет миллиона читателей, не писать ни единой строчки… Не задевать предрассудков, по крайней мере, грубо, не сражаться ни с ветряными мельницами, ни даже со странствующими рыцарями, если только не в этом заключается твоя профессия, профессия политического донкихота, такая же, по существу, профессия, как труд сапожника или ветеринара… Не потакать улице и не бороться с ней: об улице думать возможно меньше, без оглядки на нее, без надежды ее исправить. Но в меру отпущенных тебе сил способствовать осуществлению в мире простейших, бесспорнейших положений добра. На склоне дней знаменитый врач говорил, что верит только в пять или шесть испытанных лекарств вроде хинина. Бесспорные принципы добра почти так же немногочисленны… Для себя же, для немногих свободных людей можно пойти и дальше. «Холодное наблюдение» имеет свою ценность. В мысли, как в жизни, всего выше можно подняться при пониженном душевном жаре. Рядовые удачники жизни «горят», но у Наполеона сердце билось со скоростью 60 ударов в минуту.
– И как кровь возвращается по венам в сердце, отдав по пути свои питательные вещества, так всего дороже возвращающиеся в сердце, больше ничего не питающие истины. Эти истины беречь про себя и в то время, когда больше не ждешь ничего, кроме пристойных некрологов. Жить спокойно, зная, что мир лежит во зле. Радоваться редкому добру, принимая вечное зло как общее правило мира.
Он снова раскрыл книгу. В ней ничего этого не было.
Часть вторая
I
Подъемной машины в особняке знаменитого врача не было. Вислиценус медленно поднялся по лестнице. Он замечал, что боли (упорно не хотел называть их припадками) появляются чаще всего при подъеме. «Хорош, очень хорош, – подумал он в недавно принятом тоне насмешки над собою, точно он был мнимый больной. – Вот как оно отлично совпало: сразу и инвалид, и пат…»
В первой комнате бельэтажа сидела некрасивая девица в черном платье, с лицом, очевидно, испуганным раз на всю жизнь. Узнав фамилию, она нервно справилась по тетради в кожаном переплете и с видимым облегчением сказала: «Да, да, вы записаны на 3 часа 30. Но вам придется подождать: к профессору недавно вошли, и другой пациент ожидает в приемной. Точно рассчитать профессор никогда не может…» Она говорила «профессор», без фамилии, таким тоном, будто других профессоров на свете не существовало. Говорила негромким голосом, как в больнице, и, невольно этому подчиняясь, Вислиценус столь же тихо спросил, где приемная. «Налево первая дверь», – изумленно сказала она, как будто он сам был обязан это знать.
«Нет, не пришла», – с некоторым разочарованием подумал Вислиценус, войдя в приемную. Эта комната, впрочем, больше походила на библиотеку. Стены были выстланы книгами. Посредине стоял стол с сиротливым номером иллюстрированного журнала; еще было несколько кресел и стульев, расставленных как на сцене передового театра. У камина сидел старик, почему-то державший в руке светлые перчатки. Вислиценус слегка ему поклонился и раздражился, получив в ответ удивленный взгляд. «Много, много хамов развелось на свете», – подумал он и, отвернувшись, сел у окна. «Оно на улицу. Посмотрим, что гороховое пальто… Да, тут как тут». Филер, неотступно следовавший за ним по пятам от самого дома, был не в гороховом пальто, а в сером, но так называть его было приятно по воспоминаниям молодости. Низкорослый плюгавый человек медленно гулял по противоположному тротуару, и по его виду нельзя было сказать, кто он такой по национальности.
«Экий, однако, болван», – подумал, усмехаясь, Вислиценус. Его раздражала младенческая техника слежки. «За старым революционером этот шпик следит так элементарно и грубо, как за каким-либо студентиком-пижоном». Он и думал на устарелом языке своей молодости: шпики старого времени вызывали у него теперь некоторое умиление. Ему вдруг вспомнилась ссылка – Енисей, сорокаградусный мороз, Марья Васильевна, жарко натопленная комната с продавленным ситцевым диваном, горячий чай с клубничным вареньем, книга Бельтова в красном коленкоровом переплете – все сразу, все как одно, – и он почувствовал такую тоску, точно то было самое лучшее время его жизни. «Может, и действительно было самое лучшее».
С воспоминаниями о поэзии ссылки и о поэтических шпиках тоже лучше всего было, как он знал по опыту, бороться иронией да еще деловитостью. «Ну хорошо, кто же этот нынешний не поэтический шпик? Я говорю себе, что заметил его тотчас. Вероятно, так оно и было; слава богу, кое-какой опыт есть. Все же тут логическая несообразность: заметил – когда заметил, а установлена слежка, быть может, давно. Так кто же: гестапо или ГПУ?» – в десятый раз спросил себя он, стараясь теперь рассуждать хладнокровно; в первую минуту, когда заметил слежку, почувствовал боль в сердце и удушье с тяжкой тоской – то самое, чего не хотел называть припадками. «Почему же такое волнение, молодой человек? Казалось бы, это для вас дело довольно привычное! Можно сказать, под всеми широтами. Да, было привычное, недавно отвык. В последние годы все больше сам устанавливал слежку за другими… Разумеется, есть нечто неизбежно-трагикомическое в переходе от революции к правительству, от правительства к революции. Кажется, это явление новейшее: прежде этого не могло быть, по крайней мере, в таком масштабе… Ну, и черт с ними!»
Он отошел к столу, взял иллюстрированный журнал и вернулся на свое место. Ждавший приема старик с любопытством на него поглядывал. «Если бы работа у них была тонкая, то именно этот пациент, пришедший раньше меня, должен был бы оказаться шпиком, как в уголовном романе. Технически это было бы не так трудно сделать…» От скуки он стал соображать, как именно это можно было бы устроить: посадить шпиона в приемную врача для наблюдения над человеком, который должен к врачу прийти. «Фантазия полицейских руководителей почти всегда питается уголовными романами, и все они до таких романов охотники необычайные. И Феликс их любил, и скотина Генрих тоже… Да и я любил: и тогда, когда был дичью, и тогда, когда сам стал охотником. Да, есть, есть трагикомическое в этих переходах! Что ж, быть дичью, пожалуй, мне лучше, больше к лицу, больше соответствует всей жизни, – подумал он и ответил себе: – Неправда, не лучше, а хуже, гораздо хуже. Но узнать, что я буду у первого в мире, они никак не могли, кто бы они ни были. Нешто если Надя у них на службе», – с улыбкой сказал себе Вислиценус.
Лениво скользнул глазами по объявлениям, по цезарям в футбольных костюмах, по красавицам, улыбавшимся ослепительной улыбкой из окон автомобилей, по знаменитым людям, восхвалявшим минеральные воды, зубные порошки и безопасные бритвы. Все это было ему приятно, как лишнее, незначительное, но забавное свидетельство о пошлости и продажности буржуазного мира. «Ne pas connaître Unic c’est alter nu pieds…», «Le Burberry est chaud. Le Burberry est frais…»[120] – читал он. Потом ему надоело, заглянул в отдел политической хроники. Японские генералы с женскими именами одерживали победы на Дальнем Востоке; журнал не вполне одобрительно отдавал должное таланту генералов, истреблявших при помощи аэропланов по тысяче и по две беззащитных людей в день. Что-то такое же происходило и в Испании, «но тут у генералов имена среднего рода». И кто-то кому-то делал энергичное представление, и кто-то кому-то заявлял самый решительный протест.
Он положил журнал на колени и задумался. «Все скверно, все мерзко, все, политическое, личное, всякое. И астма – хорошо еще, если астма, – и эти испано-японские дела, и слежка, и торжество зла в мире», – «заодно снова подумал, что Надя могла бы прийти сюда, хоть теперь и это большого значения не имеет. «Разлюбил, разлюбил. Кармен этакая. Да, перестал валять дурака. Вероятно, тоже из-за астмы и из-за Москвы».
Надежда Ивановна позвонила ему по телефону три дня тому назад. Узнав ее голос, он обрадовался, но совсем не так, как обрадовался бы год тому назад. Надя сообщила, что приехала в Париж ненадолго («С ним, конечно», – подумал он) и очень, очень хочет его повидать. «Я слышала, что вы плохо себя чувствуете? что с вами? здоровье неважнецкое?» – «Да, не очень хорошее». – «Кто вас лечит?» – «Никто не лечит». – «Помилуйте, это совершенно невозможно!» – «Возможно, как видите. Да мне еще в Москве врач сказал, что это астма и что тут делать нечего». – «В Москве! Вы шутите! Сколько же времени прошло с Москвы! Вам необходимо теперь же пойти к врачу, и к хорошему, к настоящему». – «Вот еще! Что за нежности». – «Не нежности, а непременно пойдите. Я это вам обстряпаю, а до того и уславливаться ни о чем не хочу. Завтра же вам позвоню. До свидания». Она повесила трубку. На следующее утро позвонила опять: «Ну вот, все устроено. Вы послезавтра в 3 часа 30 у Фуко». – «У какого Фуко? Что за ерунда?» – «Нет, не ерунда, а делайте, что я вам говорю, иначе я вас больше знать не желаю. Послушайте, это вам будет стоить триста франчиков, но на такие вещи денег жалеть нельзя. Вы поставите в счет, а если у вас сейчас нет, то возьмите у меня!» – «Какие триста франков, в чем дело? Это доктор, что ли?» – «Это знаменитый профессор. Неужели вы не слышали: Фуко? Он теперь первый в мире по сердечным болезням и берет шестьсот, но я для вас устроила за триста». – «Да помилуйте, зачем я к нему пойду? У меня решительно ничего серьезного нет». – «Ну так вот, он так и скажет, что у вас решительно ничего серьезного нет. А я, по крайней мере, буду спокойна. Вы не только нужны партии, вы нужны и мне. Кроме того, я вас записала, так что, если вы откажетесь, то мне придется выложить триста франчей своих, и без всякой пользы. Нет, право, пойдите, ну, для меня, для моего успокоения!» – «Лицемерка, вы так обо мне тревожитесь? А хоть одну строчку за все время написали?» – «Я не мастерица писать письма. У Гоголя сказано: «письма пишут аптекари». А я другое пишу…» – «Что?» – «Да и вы мне тоже ни одной строчки не написали. Так пойдете?» – «Ну, что ж, если вы требуете». – «Требую, требую, категорически требую! Спасибо, милый!» (Это «милый» все-таки очень его тронуло; в действительности она на мгновение забыла имя-отчество Вислиценуса.) «Значит, послезавтра, в половине четвертого». – «А почему мне у этого Фуко скидка?» – «Ах, это целая история… Я ведь здесь с амбассадером, – сказала она, и ему показалось, что в голосе ее прозвучала злоба, – вы, верно, слышали?» – «Нет, я не знал (так и есть), но какое же это имеет сюда отношение?» – холодно спросил он. «Такое, что амбассадер тоже лечится у этого профессора Фуко. Он, видите ли, помешался на своих болезнях, хоть здоров как бык. Зафатигела[121] я с ним совсем, описать вам не могу, как зафатигела! Ну так, естественно, амбассадер платит по полному тарифу, шесть билетиков, я на этом основании добилась через нашего врача скидки для вас». – «Совершенно напрасно. Я не желаю быть бесплатным приложением к вашему амбассадеру». – «Во-первых, не бесплатным. Во-вторых, вы можете заплатить ему хоть тысячу двести, мне все равно. А в-третьих, амбассадер не мой… Если б вы знали, как я им поужинала! Да и они все! У них там теперь пошел такой хамеж! Ну, да об этом по телефону говорить незачем. А насчет платы, если два пациента, то Фуко всегда делает скидку», – экспромтом солгала она; в действительности профессор ответил, что вопрос о деньгах не имеет значения. «Что? Ну так, знайте, что, если вы не пойдете, то я о вас больше слышать не хочу!» – «Ну, хорошо, хорошо, не сердитесь, вы очень милы. А повидать вас вообще можно?» – «Разумеется, не можно, а должно! Я вам позвоню, и мы условимся. Запишите адрес Фуко, хоть он, конечно, есть в аннюэре[122]…»
Вислиценус отошел от телефона с улыбкой: конечно, это очень мило с ее стороны. Однако прежде, год тому назад, ее заботливость тронула и взволновала бы его гораздо больше. Что-то проскользнуло и неприятное в разговоре – в ее новом, развязном тоне, даже в языке: это был какой-то загранично-советский жаргон, на котором в России не говорили – так выражались советские молодые люди, прожившие год во Франции и уверенные, что раскусили западную культуру и, в частности, насквозь постигли все самое что ни есть парижское. «Да, но не это главное неприятное… А вдруг правда?!» Месяца два тому назад при нем советский человек сообщил, что Кангаров-Московский живет со своей секретаршей. «Нет, вранье. Не живет, разве живнул», – ответил другой. «Только кушнул, вы думаете?» Вислиценус ничего не сказал, в скандале было бы нечто глупо-рыцарское. Он не поверил, но не раз потом почти с физическим отвращением вспоминал этот разговор.
О необходимости же серьезного лечения подумывал и сам: у него за последние два месяца раза три были сердечные боли, с каждым разом все более острые. При случайном разговоре знакомый, не врач, но интересовавшийся медициной, сказал, что по симптомам это скорее не астма, а ложная грудная жаба. «Может быть, даже не ложная, а правдивая?» – неудачно и невесело пошутил Вислиценус. «Может быть, хоть едва ли, – равнодушно ответил знакомый, – да и ту теперь отлично лечат». Вислиценус был почти рад, что дело устроилось само собой. «Триста франков – деньги, но теперь и с деньгами все неясно: если прекратят выплату жалованья, тогда эти триста франков ровно ничего не меняют».
«А может быть, мое письмо было все-таки слишком резко? – Он опять все проверил по датам. – Письмо в Москву пришло тринадцать дней тому назад. Слежка замечена позавчера. Разумеется, одиннадцати дней достаточно для принятия решения и для установления слежки. Быстро? Но он все делает быстро. Что сподвижник Ильича, это теперь никакого значения не имеет: скорее довод в пользу этой гипотезы…» У Вислиценуса закололо в груди. «Нет, нет, это гестапо», – сказал он себе и мотнул головой. Доводы в пользу гипотезы гестапо были тоже вполне серьезные: «Документ у Зигфрида Майера приобретен, за Майером у тех, конечно, слежка была, проследили встречу и на всякий случай установили наблюдение. Вполне возможно. Даже правдоподобно…» Он равнодушно подумал, что, может быть, и сам Майер состоит на службе у германской политической полиции. Вислиценус видел на своем веку столько разных провокаторов и людей двойной жизни, что относился к ним как к явлению нормальному, даже без особого любопытства, тем более что, по его наблюдениям, почти все они были одинаковые, малоинтересные и нисколько не сложные люди. В своей прежней революционной работе, встречаясь с неизвестными товарищами, он даже обычно, ради осторожности, исходил из предположения, что это провокаторы. Не чувствовал он к ним и особой гадливости, впрочем, и вообще плохо верил в искренность чувства гадливости человека к человеку. «Нет, все-таки мало вероятно, что Майер – агент гестапо. Вероятно, пронюхали о продаже документа. Он для них представляет интерес: не очень большой – за народной любовью они не гонятся, – но все-таки. Отчего же им было не установить наблюдение? Если я купил, то, значит, могу купить и еще что-либо: хотят выяснить, какие еще есть продавцы. Это им важно, очень важно…»
Первый пациент по-прежнему поглядывал в его сторону с интересом. Вислиценус посмотрел на него с отвращением и злобой (пациент тотчас отвернулся). Он встал, прошелся по комнате, остановился у книжных полок. «Странно!» На полке стояли какие-то труды о колдовстве, о черной магии, о средневековых процессах ведьм. Впрочем, они занимали только одну полку; далее следовали медицинские и естественно-научные издания, журналы и книги по сердечным болезням. «Если порок сердца, то не приходится особенно думать о том, от кого слежка. Личная инвалидность все покроет». Все же, возвращаясь на место, он снова взглянул в окно. Сыщик по-прежнему ходил по противоположному тротуару. «Техника поразительная! Неужели и здесь развал? А поставлено было это дело у нас недурно. На немца мало похож. Это ничего не доказывает. Во всяком случае, надо быть готовым и к отставке… Но если уходить, уходить из партии, из Коминтерна, отовсюду, то куда же? К Троцкому?» Он терпеть не мог Троцкого и вдобавок знал, что никакой организации у Четвертого Интернационала нет: все это полицейская выдумка. Мысль о Втором Интернационале у него только скользнула: «Куда угодно, но не к этим слюнявым гуманистам, пятьдесят лет все и всех обличавшим, а затем так хорошо доказавшим свое собственное полное убожество: уж эти проиграли все свои сражения! А мы?..»
Опять у него появились давние, теперь почти привычные тоскливые мысли, что все было ни к чему, что вся жизнь оказалась ошибкой, что от прежних верований не осталось почти ничего ни у кого. Эти мысли особенно усилились после покупки документа у Майера. «Да, да, в чем разница? У них конюшня с арийскими рысаками, у нас коммунистический зверинец или тоже конюшня, вырабатывающая таких рысаков, как Кангаров, да Кангаровыми, в сущности, и руководимая. Будущее? Но какое будущее может выйти из такого настоящего! Мы создали первую, лучшую в мире школу прохвостов – незачем же себя обманывать мыслями о будущем! «Плановое хозяйство»? «Сытость»? «Дешевые дома»? Или «раскрепощение» и «карьера открыта талантам»? Но все это у немцев лучше, чем у нас: они и сытее, и дома у них почище, и план практичнее, и их «таланты» пробиваются вернее. Вероятно, они нас и съедят. Так что Ильич, быть может, всю жизнь проработал – на создание арийской конюшни. Во все времена моральные и политические банкроты объявляли, что опыт их не удался не по их вине, что им принадлежит будущее, что потомство их оправдает, что все рассудит суд истории. И мы, конечно, – кто останется жить, – будем долбить то же самое. Но сейчас, сейчас что делать? Где выход? Есть ли выход? Лично я, во всяком случае, никуда подвинуться не могу. Да, пат, пат! Жизнь мне – и не мне одному – дала не мат, а пат!..»



