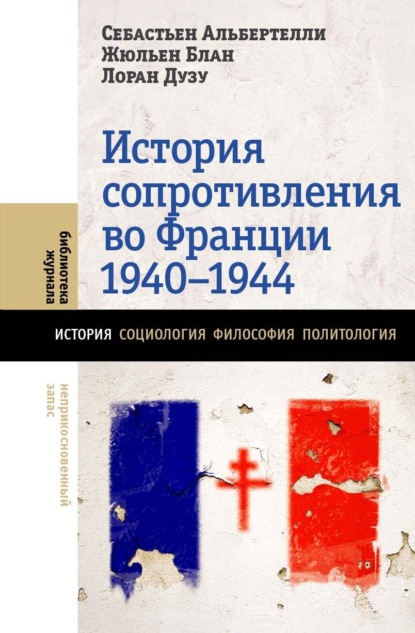
Полная версия:
История Сопротивления во Франции 1940–1944
Тот, кто не сдается, побеждает сдающегося. <…> Во время войны тот, кто не сдается, со мной одной крови, кем бы он ни был, откуда бы ни пришел и чью бы сторону ни держал. <…> А тот, кто сдает позиции, – всего лишь сволочь, будь он даже старостой своего прихода.
Так Мишле удалось связаться с несколькими добровольцами, которые тоже не хотели сидеть сложа руки. И в других местах люди находили друг друга и объединялись. В Бетюне (регион Нор-Па-де-Кале), еще не забывшем немецкую оккупацию в 1914–1918 годах, Сильветта Лелё, молодая женщина 32 лет, мать двоих детей, муж которой, лейтенант авиации, был сбит во время разведывательного полета над Германией в сентябре 1939 года, сразу же превратила принадлежавшую ей большую авторемонтную мастерскую в штаб-квартиру тех, кто помогал военнопленным в расположенных поблизости лагерях. Вскоре Сильветте удалось наладить канал побега, который с августа заработал на полную мощь.
Необходимым условием для людей, которые хотели действовать, было найти друг друга. Так, вечером 27 июня 74-летний отставной полковник Поль Гоэ, возмущенный тем, что оккупанты взорвали статую генерала Манжена[22], которым он восхищался, отправился на площадь Дени Кошена поблизости от Дома инвалидов в Париже. Там он встретил своего товарища Мориса Дютея де Ла-Рошера, выпускника Политехнической школы, так же как и он служившего в колониальной артиллерии, которого много лет назад потерял из виду. Потрясенные поражением и жаждавшие действовать, два пожилых ветерана решили возобновить знакомство. Этот случай иллюстрирует ключевой момент, который подчеркивает этнолог Жермена Тийон, также одной из первых включившаяся в борьбу: огромную важность в безвоздушном пространстве июня – июля 1940 года встреч – случайных или после долгой разлуки – тех, кого объединял патриотизм и глубоко ранило поражение и его последствия. Действительно, отправной точкой движения Сопротивления нередко становились встречи друзей, которые договаривались «делать что-нибудь». Случалось и так, что люди совсем незнакомые или едва знавшие друг друга сближались, осознав, что одинаково реагируют на произошедшее. Порой им при этом приходилось дистанцироваться от родственников или друзей, чье поведение они не одобряли. «Перемирие почти сразу вызвало раскол во французском обществе, и раскол этот не обошел стороной ни одной социальной среды и политической партии» (Жермена Тийон).
Но во Франции, которую драконовские условия двойного перемирия, подписанного 22 июня с Германией и 24-го с Италией[23], раздробили на семь частей с разным правовым статусом, не говоря уже об аннексированных Эльзасе и Лотарингии, стремление действовать обретало различный смысл в зависимости от того, где находились люди. На территориях, оккупированных неприятелем, определяющим обстоятельством было присутствие победоносной армии захватчиков, а режим Французского государства, установленный в Виши, представлялся населению чем-то далеким и несущественным. Напротив, в неоккупированной зоне ведущую роль играла фигура Филиппа Петена и его правительство. Исходя из этого, необходимо проводить различия между деятельностью участников Сопротивления того времени в обеих частях страны. На территории, где вермахт установил свои порядки, первые группы борцов за освобождение объединяли немногих, но их патриотизм был направлен против оккупантов, которые однозначно воспринимались как враги. В южной же зоне он побудил большинство населения в 1940 году поддержать Петена. Следует признать, что, вероятно, под оккупацией первым подпольщикам было проще апеллировать к патриотическим чувствам, чем во Французском государстве. Но при этом не вызывает сомнений, что изначально лишь единицы во Франции отважились встать на путь Сопротивления.
Уехать из страны
Но несогласие можно было выразить и иными способами, в том числе – покинуть Францию и уехать в Лондон. Немало людей предпочло этот опасный путь с неизвестным исходом. Рассмотрим примеры лейтенанта Жака Бингена и капитанов Филиппа де Отклока и Андре Деваврена. Жак Бинген, горный инженер, окончивший затем Свободную школу политических наук, был мобилизован в 1939 году, ранен 12 июня 1940-го и награжден военным крестом. Этот обеспеченный молодой человек – ему исполнилось только тридцать два года, и он приходился шурином Андре Ситроену – мог вести вполне безбедную жизнь. Но бежал из госпиталя, где лечился после ранения, чтобы отправиться в Англию. Добравшись 6 июля до Гибралтара, он обратился к британским властям с письмом на английском, которое свидетельствует о его решительном настрое:
Я целым и невредимым покинул территорию, занятую нацистами, и готов вместе с Британской империей сражаться с Гитлером до конца. <…> Я потерял все, что имел: деньги (до последнего гроша!), работу, семью, которая осталась во Франции и которую, возможно, больше никогда не увижу, родину и мой любимый Париж… Но я остаюсь свободным человеком в свободной стране, и это – превыше всего.
Выпускник Военной академии Филипп де Отклок храбро сражался в Битве за Францию, был ранен, попал в плен, бежал и на велосипеде доехал до Парижа. Там он услышал одно из радиовыступлений генерала де Голля и решил немедленно отправиться в Лондон, оставив во Франции жену и шестерых детей. Жене он написал:
Я никогда не отрекусь от принципов чести и патриотизма, которые были моей опорой на протяжении 20 лет. Не волнуйся обо мне, я найду тебя на пути к победе.
Тридцатисемилетний Леклер[24] (псевдоним, который Отклок выбрал, чтобы обезопасить семью) присоединился к генералу де Голлю 25 июля, проехав ради этого через всю Францию, Испанию и Португалию.
Выпускник Политехнической школы Андре Деваврен в свои 29 лет успел принять участие в Норвежской кампании[25] в качестве военного инженера, а затем вместе с французским экспедиционным корпусом оказался в Британии. 1 июля он связался в Лондоне с де Голлем и стал одним из немногих офицеров, которые предпочли остаться в Англии и не возвращаться во Францию, хотя такая возможность еще была. Генерал де Голль поручил Деваврену, взявшему псевдоним Пасси, руководство 2-м бюро[26] своего штаба, которое в апреле 1941 года было переименовано в Разведывательную службу (РС).
Велико искушение отдать пальму первенства тем, кто, подобно этим людям, присоединились к генералу де Голлю и его делу, став впоследствии знаковыми фигурами борьбы. Хотя в целом эмигрантов насчитывалось немного, их состав отличался удивительным многообразием. Достаточно упомянуть 114 моряков с острова Сен, которые 24–26 июня снялись с якоря и ушли в Англию, чтобы вступить в отряды, которые с большим трудом формировал де Голль. Самому старшему было 54 года, самому младшему – 14 лет.
Таким образом, первые акты несогласия происходили в обстановке всеобщего развала, и попытка подсчитать их была бы напрасным делом. Для несмирившихся надеждой стали слова, сказанные генералом де Голлем в его призыве 18 июня: «Что бы ни произошло, пламя французского сопротивления не должно угаснуть и не угаснет». Раздавленные партии, дезорганизованные и расколотые профсоюзы, сметенные учреждения, потрясенные и сбитые с толку умы – в такой ситуации оставался возможным лишь индивидуальный протест тех, кто не мог смириться с невыносимым положением. Эти редкие протесты летом 1940 года могут показаться чем-то незначительным по сравнению с мощью оккупантов и престижем, которым пользовался маршал Петен. В то время вера в то, что трагическая ситуация в стране способна измениться, представлялась чем-то утопическим. А потому де Голля не спешили признать представителем сражающейся Франции. Как заявил Черчилль 28 июня, он был «вождем всех свободных французов, где бы они ни находились».
Нужно отметить, что генерал и позиции, которые он отстаивал, не вызвали большого энтузиазма у солдат и офицеров, которых он попытался привлечь на свою сторону. Части французской армии, оказавшиеся в Англии, размещались в нескольких лагерях, самым крупным из которых был Трентэм-Парк близ Стоук-он-Трента. Пять или шесть эмиссаров, отправленных туда мятежным генералом, встретили неоднозначный прием. 29 и 30 июня 1300 бойцов экспедиционного корпуса и 983 из 1619 легионеров под командованием генерала Бетуара откликнулись на призыв де Голля. Но большинство предпочло вернуться во Францию. Из 735 бойцов 6-го батальона альпийских стрелков только 37, в том числе шесть офицеров, решили вступить в отряд, гордо названный Французским легионом. «Первая бригада Французского легиона», созданная 1 июля, неделю спустя насчитывала лишь 1994 человека, в их числе – 101 офицер.
Огромная французская колониальная империя также не спешила перейти к сопротивлению. В Тихом океане первыми – 20 июля – поддержали де Голля Новые Гебриды и их губернатор Анри Сото. В сентябре к ним присоединились Таити и Новая Каледония. В Африке губернатор Чада Феликс Эбуэ установил контакт с де Голлем 1 июля, и 26 августа эта колония официально поддержала «Свободную Францию»[27]. Но бриллианты колониальной империи – Северная и Западная Африка, Мадагаскар и Индокитай – остались верны режиму Петена.
В июне и июле нежелание смириться с поражением стало выбором отдельных офицеров, которые отказались повиноваться новым властям, подобно некоторым своим товарищам из метрополии. Так, уже 18 июня находившийся в Джибути генерал Лежантильомм осудил предложение заключить перемирие и заявил о намерении продолжать борьбу вместе с Британской империей. Но ему вместе с полковником Лармина не удалось привлечь колонию на сторону «Свободной Франции». 2 августа Лежантильомм отправился из Сомали в Англию, куда прибыл 31 октября и присоединился к де Голлю. Такой же одинокий путь проделал и Оноре д’Эстьен д’Орв. Этот 39-летний моряк, отец четырех детей, в момент перемирия служил капитан-лейтенантом на крейсере «Дюкен», находившемся в Александрии. Он дезертировал и тщетно попытался связаться с генералом Лежантильоммом. Проделав двухмесячный путь вокруг Африки, д’Эстен д’Орв 27 сентября присоединился к де Голлю в Лондоне.
Сознавали ли эти добровольцы июня – июля 1940 года всю тяжесть открытой борьбы и смертельные опасности подполья, когда принимали решение наедине со своей совестью? Делая отчаянный шаг в неизвестность, они, конечно, и помыслить не могли, что именно предстояло им совершить. И самое трудное препятствие, которое им требовалось преодолеть, прежде чем ступить на тернистые пути борьбы, состояло в том, чтобы пойти против установленных властей, тем более что Французское государство с самого начала взяло курс на жесткие репрессии и не собиралось церемониться с теми, кого клеймило как предателей и дезертиров. Со временем этим людям на выбранном ими пути с неизвестным исходом предстояло испытать и другие тревоги и опасности. Несомненно одно: те, кто не смирился и избрал активный протест, по выражению генерала де Голля, «выбивались из общего ряда».
Первые шаги
На групповой фотографии, снятой в помещении бывшего Музея этнографии в Трокадеро в 1937 году, перед открытием в нем нового Музея человека, мы видим его сотрудников, веселых и беззаботных. На снимке можно узнать библиотекаря Ивонну Оддон (внизу справа), ее помощницу Денизу Алегр (в центре), антрополога Анатолия Левицкого (скорчившего рожицу) и секретаршу Луизу Жубье по прозвищу Жубинетта (в платочке). Летом 1940 года в оккупированном Париже работники музея, к которым вскоре присоединился молодой лингвист Борис Вильде, начали действовать одними из первых. Эта группа, из числа самых ранних, бесспорно, возникла благодаря тому, что участники ее были хорошо знакомы друг с другом еще до войны. Работа в одной организации, дружеские отношения и общее неприятие поражения сделали возможным переход от личной инициативы к коллективным действиям.

Сотрудники Музея этнографии в Трокадеро, 1936–1937 гг.; слева направо и снизу вверх: Анатолий Левицкий, Ивонна Оддон, Роже Фальк, Дебора Лифшиц, Дениза Алегр, Мари-Луиза Жубье (Жубинетта), Луи Дюмон
Об этом начальном периоде Сопротивления, с лета 1940-го до лета 1941 года, известно очень мало. За исключением нескольких летучих листков, прокламаций и скромных подпольных газет, материальных следов почти не осталось. Бо́льшая часть первых попыток сопротивления сокрыта завесою времени. Даже в памяти участников движения ту славную начальную пору затмил накопленный позднее опыт. О подобном забвении приходится лишь сожалеть, ибо многое из того, что произошло впоследствии, начиналось именно тогда.
Преодолеть изоляцию
Неприятия перемирия, пробуждения совести у отдельных людей недостаточно, чтобы вдохнуть жизнь в Сопротивление. Для того чтобы оно возникло, необходимо объединение единомышленников. Но в недели, последовавшие за катастрофой, тем, кто жаждал действовать, оказалось очень трудно преодолеть изоляцию. Осторожность и опасения мешали открыться другим. Вот почему кружки добровольцев нередко возникали на основе прежних связей, дружеских, семейных или профессиональных.
Возникновение группы в Музее человека – не единичный случай, аналогичным образом в сентябре 1940 года в Париже была создана группа «Вальми». Ее основатель Раймон Бюргар, 48-летний учитель грамматики в лицее Бюффон, нашел первых соратников среди друзей-католиков, участвовавших прежде в движении «Молодая Республика». Точно так же Кристиан Пино, 30-летний бывший заместитель секретаря федерации банковских служащих, входившей в профцентр ВКТ[28], прежде всего обратился к придерживавшимся социалистических взглядов товарищам по профсоюзу, которых хорошо знал, и вместе с ними в ноябре 1940 года заложил основы будущего движения «Освобождение-Север».
Таким же образом создавались организации и в южной зоне, о чем свидетельствует пример офицера Анри Френе, которому 19 ноября 1940 года исполнилось тридцать пять, и его подруги Берти Альбрехт, двенадцатью годами старше. Она родилась в Марселе в буржуазной протестантской семье, вышла замуж за богатого голландского банкира, а после развода в 1937 году стала социальной работницей. За плечами у Берти был большой опыт общественной деятельности: борясь за права женщин, она очень рано осознала опасность фашизма; с 1933 года в ее доме в Сент-Максиме находили приют политические беженцы. Тогда она и повстречала молодого офицера Анри Френе, который, в отличие от нее, придерживался в то время достаточно правых убеждений. Берти Альбрехт оказала на него большое влияние, стала его политической наставницей. Вместе осенью 1940 года они создали движение «Национальное освобождение». Первых сторонников они нашли среди своих знакомых. Робера Гедона, товарища по военному училищу, Френе попросил создать филиал организации в оккупированной зоне. В Париже новой группе удалось найти единомышленников благодаря знакомствам Берти Альбрехт среди управляющих предприятиями. Ядром движения «Свобода» стали в основном юристы и университетские преподаватели: Франсуа де Мантон, Пьер-Анри Тетжен, Марсель Прело и Альфред Кост-Флоре, близкие по взглядам к христианским демократам. Поражению и связанным с ним потрясениям не удалось полностью разрушить прежние связи.
Но порой найти единомышленников помогал случай. Так, в июне 1940 года в Париже повстречались 33-летняя ученая-этнолог Жермена Тийон, связанная с Музеем человека, и отставной полковник Поль Гоэ, которому перевалило за семьдесят. Оба они решили помогать военнопленным с заморских территорий. В январе 1941 года в поезде Канны – Ницца Анри Френе разговорился с попутчиком, 32-летним инженером Клодом Бурде, который впоследствии вспоминал:
События развивались быстро. Я думаю, что не слишком преувеличу, если скажу, что полчаса спустя, приехав на конечную станцию, я уже стал руководителем движения «Национальное освобождение» в департаменте Приморские Альпы.
В той же южной зоне группа «Последняя колонна» возникла благодаря случайной встрече в одном из кафе Клермон-Феррана ее будущих активистов: журналиста Эммануэля д’Астье де Ла-Вижери, философа Жана Кавайеса, учительницы истории Люси Обрак и банкира Жоржа Зерафы, который в 1928 году стал одним из основателей Международной лиги борьбы против антисемитизма. Все они хотели «что-нибудь делать». Но д’Астье оказался там не случайно. Он приехал в Клермон-Ферран в отчаянных поисках единомышленников, полагая, что здесь ему наконец должно повезти: город находился поблизости от Виши, в нем скопилось много беженцев, туда же был эвакуирован Страсбургский университет. Люси Обрак и Жан Кавайес познакомились еще до войны, поскольку в 1938 году работали в одном лицее в Амьене: она кого-то временно заменяла, а он преподавал философию, по которой вскоре защитил докторскую диссертацию.
Такие встречи, объединявшие старых друзей, случайных знакомых или и тех и других, происходили все чаще. Уже с осени 1940 года зачатки организаций множились «со скоростью инфузорий в тропической воде», вспоминала Жермена Тийон, и сплетались «в настоящую паутину».
Нехожеными тропами
Разные причины приводили людей к Сопротивлению. Каждый руководствовался своими убеждениями и жизненным опытом.
У морского офицера Оноре д’Эстьен д’Орва, Ивонны Оддон или Жермены Тийон национальное унижение июня 1940 года пробудило патриотизм, воспитанный на памяти о Первой мировой войне. Лингвист и этнолог Борис Вильде, родившийся в России и получивший французское гражданство в 1936 году в возрасте 28 лет, всегда говорил о «своей Франции» с пылкой нежностью неофита.
У других протест против перемирия был связан с глубоким неприятием нацизма, коренившимся в христианском гуманизме, как у Эдмона Мишле и других христианских демократов, каких было немало среди первых участников движения. Иным путеводной звездой служила верность республике, ее принципам и политической культуре – парламентской демократии, защите прав человека, социализму и др. Эти убеждения двигали участниками группы «Вальми» или маленькой команды, организованной в Рубе бывшим депутатом-социалистом и министром Народного фронта Жан-Батистом Леба[29], который издавал подпольную газету «Омм либр» (Свободный человек).
Для многих антифашизм был не просто лозунгом, используемым левыми партиями. Маленькую группу «Свободные французы Франции» – так они себя назвали, – созданную Жаном Кассу, Клодом Авлином, Аньес Эмбер и Симоной Мартен-Шофье и осенью объединившуюся с активистами из Музея человека, сплотили воспоминания о политических выступлениях 1930-х годов (антифашистское движение, поддержка Народного фронта и республиканской Испании), в которых они вместе участвовали. Схожий опыт политического активизма объединял членов группы, организованной осенью 1940 года в Тулузе по инициативе преподавателя философии Жан-Пьера Вернана, которому не исполнилось и 30 лет. Виктор Ледюк, Жан Миай, Пьер Дуассан и другие участники этого «братства» (как называл его Вернан) в 1930-е годы получили первое боевое крещение, борясь в Латинском квартале Парижа в рядах молодых коммунистов против крайне правых лиг[30]. Схожие убеждения разделял и Марио Леви, итальянский антифашист, бежавший во Францию в 1934 году и присоединившийся к группе. Для этих опытных активистов выбор, сделанный в 1940–1941 годах, стал логическим продолжением борьбы против фашистской гидры.
На противоположном краю политического спектра такие убежденные сторонники твердого порядка, как бригадный генерал Габриэль Коше, полковники Луи Риве и Жорж Груссар, хотели поквитаться с захватчиками, чтобы отстоять честь Франции, но при том одобряли и даже поддерживали дело «национального возрождения» маршала Петена. Эти военные рассчитывали, что их борьба получит поддержку нового режима. Однако другие, как Поль Гоэ и Морис Дютей де Ла-Рошер, прежде считавшие повиновение своим командирам высшей доблестью офицера, отказались от этой идеи во имя чести, защиты родины и из ненависти к немецким оккупантам.
Такие же побуждения, при всей противоположности политических воззрений, двигали и Симоной Мартен-Шофье. У этой левой активистки, проникнутой идеями интернационализма, поражение неожиданно для нее пробудило глубокое чувство патриотизма. Оккупация порой раскрывала в людях черты, о которых они прежде не подозревали. Но далеко не всегда их побуждал действовать лишь один мотив, чаще имелось несколько причин, порой противоречивых.
В личном выборе человека всегда есть некая тайна, которая не позволяет четко классифицировать его. Это подчеркивал Альбан Вистель, один из первых участников Сопротивления во Вьенне (департамент Изер):
Участие в Сопротивлении всегда оставалось личным делом каждого; человек мог состоять в профсоюзе, партии или вовсе не принадлежать ни к какому сообществу – его действия были ответом на призыв к свободе, звучавший в глубине его совести.
Действительно, поражение изменило ситуацию. Отныне невозможно было догадаться заранее, кто как себя поведет. Кто мог бы предположить, что Эммануэль д’Астье, бывший морской офицер, начинающий журналист, заядлый курильщик опуима, «неприспособленный к жизни», как он сам говорил о себе в 1969 году, безоглядно бросится в борьбу с неизвестным исходом во имя высших принципов? И наоборот, опыт общественной деятельности, научный авторитет и обязанности директора Музея человека как будто предрасполагали Поля Риве к тому, чтобы возглавить созданную там группу Сопротивления. Но, хотя он и поддерживал первые шаги своих молодых сотрудников на этом пути, он предпочел в начале 1941 года эмигрировать в Колумбию. Бессменным лидером группы Музея человека стал Борис Вильде.
Велико искушение нарисовать типичный портрет раннего участника Сопротивления, но это не представляется возможным. Среди них были люди из различных социальных сред, представители всех общественных классов, обоих полов и любого возраста. Их состав отличался крайним разнообразием, даже если изначальное ядро группы было однородным. Участие в подпольной работе представляло собой плавильный котел, в котором очень быстро объединялись люди самого разного происхождения и политических взглядов. Яркой иллюстрацией такого многообразия служит созвездие подпольных групп вокруг Музея человека. В этой маленькой вселенной позиции мирного времени подвергались переоценке и, хотя здесь трудно выделить общую схему, на передний план нередко выходили женщины – об этом можно судить по той ведущей роли, которую играли Сильветта Лелё, Жермена Тийон, Берти Альбрехт или Люси Обрак.
Многомерность Сопротивления
Путь, который шаг за шагом привел от возмущения совести к первым коллективным действиям, не везде был одинаков. Во Франции, расколотой поражением, непросто говорить о Сопротивлении в единственном числе. Разумеется, поначалу оно возникало в городской среде. Шарль д’Арагон, который на некоторое время удалился в свой замок в Тарне, подчеркивает в своих опубликованных в 1977 году воспоминаниях разительный контраст между сельской и городской Францией в 1940 году: «Насколько трудно было найти протестующих в каком-нибудь земледельческом департаменте, настолько легко – в Париже или Лионе». Города, особенно такие большие, как Париж, Лилль, Лион, Клермон-Ферран, Марсель или Тулуза, позволяли человеку затеряться и одновременно наладить связи, договориться с другими о совместных действиях благодаря наличию многочисленных мест встреч и общения (кафе, кинотеатров, залов собраний, улиц и парков, памятников, типографий и др.).
В остальном, как уже говорилось, присутствие вермахта в оккупированной зоне вызывало негодование, способствовало радикализации взглядов, усиливало германофобию[31] и побуждало перейти к нелегальным действиям. Поэтому здесь раньше, чем в южной зоне, в результате сближения маленьких групп стали возникать первые подпольные организации. Так, активисты из дворца Шайо вступили в контакт с другими группами, возникшими в то же время: с объединениями в среде парижских пожарных и адвокатов, с маленькой командой «Свободные французы Франции», а также с единомышленниками в Бетюне и Бретани, с кружком Гоэ, Тийон и Мориса Дютея де Ла-Рошера. Сближаясь друг с другом, они постепенно образовали то, что после войны стало известно как «сеть Музея человека», которая имела отделения во всей северной зоне. Как утверждала в 1946 году ведущая активистка этой сети Ивонна Оддон: «В октябре 1940 года мы уже создали зачаток организации».
Одновременно в оккупированной зоне возник целый ряд подобных объединений: «Выстоять», «Армия добровольцев», «Вальми», «Освобождение-Север», «Борьба – северная зона», Военная и гражданская организация, издатели «Омм либр» и «Вуа дю Нор» (Голос Севера). Подобно группе Музея человека, они пытались создать свои филиалы где только могли. На рубеже 1940 и 1941 годов нити уже сплетаются более тесно и прочно, чем может показаться на первый взгляд.
В южной зоне события развивались медленнее, ибо условия меньше благоприятствовали развитию подпольных структур. Прежде всего из-за отсутствия оккупантов. Это кажется парадоксальным лишь на первый взгляд: действительно, как бороться с врагом, который до ноября 1942 года официально не заходил за демаркационную линию?

