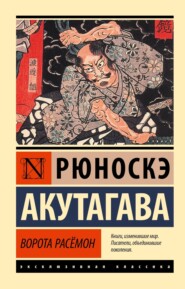скачать книгу бесплатно
Там, за поворотом, открывался вид на бледную в ночном сумраке гладь дворцового пруда, над которым, изящно изогнувшись, протянула ветви сосна. Слух мой был немедленно оскорблён шумом из соседнего покоя: там кто-то спорил, приглушённо, но яростно. Кроме этого, не было слышно ни звука – разве что плеск рыбы в воде, над которой туман мешался с лунным светом. Услышав в этом безмолвии голоса, я враз остановился: неужели злоумышленники? Я решил застать их врасплох и осторожно, не дыша, подобрался к раздвижной перегородке.
13
Обезьянка, видимо, была недовольна, что я не тороплюсь. В тревоге она несколько раз обежала меня кругом, затем, полузадушено заверещав, вдруг одним прыжком вскочила мне на плечо. Я безотчётно встряхнул головой, чтобы мне в шею не вонзились когти, и она, пытаясь удержаться, вцепилась в рукав; потеряв равновесие, я отступил назад и, едва не упав навзничь, врезался в раздвижную перегородку. Больше раздумывать было нельзя. Мгновенно распахнув дверь, я изготовился прыгнуть вглубь комнаты, куда не проникал лунный свет. Но тут что-то перекрыло мне обзор – точнее сказать, кто-то бросился мне навстречу, прочь из покоев. Это была женщина: едва не столкнувшись со мной, она выбежала наружу и упала на колени. Дрожа и хватая ртом воздух, она подняла на меня глаза с таким выражением, как будто видела перед собой нечто ужасное.
Не стоит и говорить, что я увидел дочь Ёсихидэ. Только в тот вечер она в своём волнении была совсем на себя непохожа: блестящие глаза широко распахнуты, щёки пылают, платье и хакама в беспорядке… Выглядела она куда притягательнее, чем со своим обычным полудетским выражением лица. Глазам не верилось: неужели это та самая тихоня и скромница? Прислонившись к двери, я смотрел на красавицу в лунном свете и, услышав торопливо удаляющиеся шаги, одним лишь взглядом спросил, кто это мог был.
Закусив губу, девушка с самым жалостным видом покачала головой.
Склонившись, я тихонько прошептал ей в самое ухо: «Кто?» Она вновь покачала головой, так ничего и не ответив, и лишь крепче сжала губы; слёзы стояли у неё в глазах и дрожали на длинных ресницах.
Я по натуре человек простой, недогадливый и понимаю только то, что уж совсем яснее ясного, а потому не знал в тот момент, что и сказать. Какое-то время я стоял, замерев и прислушиваясь к тому, как колотится сердце в груди у девушки. Мне отчего-то казалось, что неловко расспрашивать её далее.
Не знаю, сколько прошло времени. В конце концов я задвинул открытую дверь и, как мог мягко, сказал девушке, которая как будто немного успокоилась: «Иди к себе». Меня самого мучили смутная тревога, словно я увидел нечто, не предназначенное для моих глаз, и неловкость – бог знает, перед кем. Не успел я, однако, пройти и десяти шагов, как кто-то осторожно потянул меня сзади за край хакама, и я, удивлённый, обернулся. Кого же, вы думаете, я там увидел?
Обезьянка по кличке Ёсихидэ, сложив руки, будто человек, почтительно кланялась мне, а на шее у неё звенел золотой бубенчик.
14
С того вечера прошло полмесяца или вроде того. Однажды Ёсихидэ, явившись во дворец, попросил, чтобы ему позволили предстать перед нашим господином. Будучи человеком невысокого звания, он, вероятно, осмеливался делать такое, потому что с давних пор пользовался у сиятельного Хорикавы особенным расположением. Вот и в тот день наш господин, который далеко не каждого удостаивал подобной милости, с готовностью дал соизволение и приказал немедленно провести художника к себе. Тот, как всегда, одетый в красно-коричневую накидку-карагину и потрёпанную шапку-эбоси, выглядел ещё угрюмее обычного. Почтительно поклонившись, Ёсихидэ хриплым голосом произнёс:
– Вы изволили заказать мне ширму с изображением ада. Я работал над ней, не покладая рук, день и ночь, и мои усилия принесли плоды: картина почти закончена.
– Прекрасные новости. Я доволен, – сказал господин, хотя в его голосе отчего-то не было ни живости, ни убеждённости.
– Увы, новости совсем не прекрасны, – возразил Ёсихидэ, с раздосадованным видом глядя в пол. – Большую часть я нарисовал, но есть одна вещь, которую я изобразить никак не могу.
– Не можешь изобразить?
– Не могу. Я никогда не рисую того, чего не видел своими глазами. А если нарисую, ни за что не останусь доволен. Разве это не то же самое, что «не могу изобразить»?
Наш господин, услышав такие слова, улыбнулся насмешливо:
– Как же тогда ты рисуешь муки ада – ведь ты никогда его не видел?
– Ваша правда. Только в прошлом году был большой пожар, и я наблюдал совсем близко огонь, похожий на адский. Потому-то я и смог нарисовать бога Фудо-Мёо в языках пламени – наверное, вы изволите знать эту картину.
– А что же насчёт грешников в аду? Или демонов – их ты вряд ли видел? – будто и не слушая, продолжал спрашивать господин.
– Я видел людей, скованных железными цепями. Есть у меня и подробные зарисовки того, как человека терзает чудовищная птица. Так что нельзя утверждать, что я совсем не созерцал мучений грешников. Что же до демонов… – Тут на губах у Ёсихидэ появилась жутковатая усмешка. – Что до демонов, их я множество раз видел собственными глазами во сне. Есть среди них и с бычьими головами, и с лошадиными, есть с тремя лицами и шестью руками, они безмолвно хлопают в ладоши, беззвучно разевают рты и приходят терзать меня почти каждую ночь… Нет, не про них я думал, когда говорил, что не могу изобразить того, чего не видел.
Даже господин наш, похоже, был поражён, услышав такое. Некоторое время он сурово смотрел Ёсихидэ в лицо.
– Чего же ты не можешь изобразить, потому что не видел? – спросил он в конце концов, нахмурив брови.
15
– Посреди ширмы я хочу нарисовать богатый экипаж, плетёный из пальмовых листьев, который падает с неба, – сказал Ёсихидэ и, впервые подняв глаза, пристально посмотрел на господина. Мне приходилось слышать, что художник наш делается будто безумный, когда говорит о картинах. – А в экипаже – красавица знатного рода, рассыпавшиеся волосы объяты огнём, она корчится в агонии. Задыхается в дыму, лицо искажено, она поднимает взгляд вверх, к потолку кареты. Рукой цепляется за бамбуковую занавеску, пытаясь защититься от града огненных искр. Вокруг падающей кареты, щёлкая клювами в ожидании, кружит десяток-другой хищных птиц… Вот эту-то сцену я никак и не могу изобразить.
– И что же из того? – подбодрил наш господин Ёсихидэ с каким-то странным воодушевлением.
Алые губы художника задрожали, словно его лихорадило.
– Я не могу этого изобразить, – повторил он, как во сне, и вдруг с горячностью вскричал: – Я бы хотел, чтобы вы повелели поставить передо мной карету и поджечь её. А в ней, если возможно…
Господин наш помрачнел, а потом вдруг громко расхохотался – и, задыхаясь от смеха, проговорил:
– О, я сделаю, как ты хочешь. Возможно, невозможно – о том не беспокойся.
При этих словах меня пронизало предчувствие чего-то ужасного. И правда – в тот момент казалось, что безумие Ёсихидэ заразило и господина: в углах рта у него показалась белая пена, а по нахмуренному лбу словно молнии пробегали. Едва договорив, он вновь разразился громовым смехом.
– Что ж, подожгу для тебя экипаж, – произнёс господин сквозь хохот. – А внутрь посадим красавицу в богатых одеяниях, и пусть погибнет она там в муках, объятая пламенем и задыхаясь в чёрном дыму. Кто мог такое придумать, как не величайший в мире художник? Моё почтение тебе, Ёсихидэ. Моё почтение.
Ёсихидэ, услышав это, побелел и какое-то время лишь хватал ртом воздух, но в конце концов упал перед господином, прижав обе руки к татами.
– Благодарю вас за милость! – проговорил он почти неслышно, склоняясь в почтительном поклоне. Быть может, сиятельные слова заставили его впервые увидеть мысленным взором весь ужас задуманного. Так или иначе, тогда мне единственный раз в жизни стало жаль Ёсихидэ.
16
Прошло два-три дня, и наш господин, как изволил обещать, пригласил вечером Ёсихидэ, чтобы тот посмотрел на сожжение кареты. Конечно, случилось это не во дворце Хорикавы. Было выбрана загородная резиденция, называемая обычно Юкигэ – Павильоном тающих снегов, где раньше проживала старшая сестра нашего господина.
Во дворце Юкигэ давно уже никто не жил, и большой сад был совсем заброшен. Оттого, вероятно, те, кому довелось увидеть тамошнее запустение, рассказывали странное – например, про младшую сестру господина, которая там скончалась. Утверждали, что в безлунные ночи по галереям, не касаясь земли, проплывают её алые хакама… Неудивительно, что шли такие слухи: покинутый дворец и днём производил гнетущее впечатление, а уж после заката там и вовсе становилось жутко, так что и плеск воды в саду, и силуэт ночной цапли, пролетевшей на фоне звёздного неба, казались причудливыми и зловещими.
Ночь выдалась тёмная, безлунная. При свете масляных фонарей я увидел на веранде господина – одетый в жёлтый кафтан-наоси и тёмно-лиловые хакама с гербами, он, скрестив ноги, сидел на возвышении, покрытом обшитыми белой парчой подушками. По сторонам, разумеется, почтительно стояло с полдюжины приближённых. Среди них привлекал внимание могучий воин, сражавшийся прежде против северных варваров; про него говорили, будто там, на севере, он пережил голод, питаясь человеческим мясом, и будто он способен голыми руками отломать рог живому оленю. Воин с суровым видом сидел у края веранды, одетый в доспехи, с длинным мечом, что торчал из-за пояса, изгибаясь как ласточкин хвост. В неверном, колеблющемся свете фонарей трудно было понять, наяву мы или во сне.
В саду же стоял богатый экипаж – на фоне ночного мрака виднелись очертания высокой крыши. Волов в него не запрягали, и чёрные лакированные оглобли были опущены на подставку; золотая отделка блистала, словно россыпи звёзд. При виде этой картины даже тёплой весенней ночью по коже пробегал холодок. Синие занавеси с вышитой каймой были плотно закрыты, скрывая от глаз то, что находилось внутри. Карету окружали слуги: они держали в руках пылающие сосновые факелы, стараясь, однако, чтобы дым от них не шёл в сторону господина.
Поодаль, как раз напротив веранды, сидел Ёсихидэ в своей обычной коричневой накидке и мягкой чёрной шапке. Казалось, на него давила тяжесть звёздного неба: он будто съёжился и выглядел ещё более непритязательно, чем обычно. Рядом с ним находился ещё один человек в похожей одежде – видимо, кто-то из учеников. Оба сидели так далеко от меня, что со своего места возле веранды я едва мог разобрать в темноте цвета их накидок.
17
Думаю, время близилось к полуночи. Во тьме, окутавшей сад и пруд, все голоса смолкли, и воцарилась такая тишина, что, казалось, можно было расслышать дыхание каждого; только шелестел ветер, порывы которого доносили до нас дым и копоть от факелов. Молчал и наш господин, созерцая эту необыкновенную картину. Наконец он подался вперёд и резко позвал:
– Ёсихидэ!
Тот откликнулся, но до меня донёсся только невнятный звук, похожий на стон.
– Ёсихидэ, этой ночью я исполню твоё желание и сожгу карету, – сказал господин и обвёл глазами приближённых. С некоторыми он обменялся многозначительной улыбкой, впрочем, возможно, мне померещилось. Ёсихидэ нерешительно поднял голову и посмотрел на веранду.
– Смотри, – продолжал наш господин. – Это экипаж, в котором я езжу каждый день, наверняка ты его помнишь. Сейчас его подожгут, и ты своими глазами увидишь, как выглядит огненный ад. – Произнеся это, господин умолк и подал знак служителям, после чего неожиданно горько усмехнулся. – Внутри находится одна преступница. Она хорошо связана. После того, как карета загорится, её ждёт мучительная смерть – огонь испепелит плоть и обуглит кости. А ты сможешь дописать с натуры картину на ширме. Смотри хорошенько, как будет гореть белоснежная кожа, как обратятся в пепел чёрные волосы! Ничего не упусти!
Тут наш господин умолк в третий раз. О чём он изволил размышлять, неизвестно, только на этот раз плечи его затряслись – он беззвучно смеялся.
– Никогда мир не видел ничего подобного – и не увидит. Погляжу с тобой и я. Раскройте окна, пусть Ёсихидэ полюбуется, кто внутри.
Услышав приказ господина, один из слуг, высоко держа факел, приблизился к экипажу и свободной рукой поднял занавески. В красноватом свете потрескивающего пламени нам предстало ужасное зрелище: внутри, в тесноте, сидела закованная в цепи женщина. И кто же? Ошибиться было невозможно. Гладкие блестящие волосы ниспадали на богато расшитую накидку-карагину с узором в виде ветвей цветущей сакуры, в волосах поблёскивали золотые заколки… Несмотря на непривычный наряд, сомнений не было: миниатюрная, с белоснежной кожей, с печальным профилем – это была дочь Ёсихидэ! Я едва удержался, чтобы не вскрикнуть.
Но тут воин, сидевший напротив меня, молниеносно поднялся, положив ладонь на рукоять меча и сверля взглядом Ёсихидэ. Удивлённый, я проследил за его взглядом: художник, похоже, едва не лишился рассудка от представшей перед ним картины. До сих пор он сидел на коленях, теперь же вскочил на ноги и протягивал обе руки к карете – кажется, готовый туда броситься. Как я говорил, находился он в тени, поэтому разглядеть лица я не мог. Но стоило мне подумать об этом, как я вдруг увидел его с невероятной ясностью – и лицо, и весь облик, будто вырванные вспышкой из мрака.
– Поджигайте! – приказал господин, и экипаж, где сидела девушка, мгновенно запылал, воспламенившись от брошенного факела.
18
Огонь на глазах охватил карету. Повалил густой дым, белый на фоне ночной тьмы, в потоках горячего воздуха закачались лиловые кисти на крыше, в воздух взвились снопы искр. Одновременно вспыхнуло всё: и бамбуковые занавески, и стенки, и крыша с золотой отделкой. О, как страшно это было! Будто само солнце упало на землю – такими яркими были языки пламени, взмывающие чуть ли не до неба и яростно лижущие оконный переплёт. Я чуть не закричал вначале, но теперь у меня язык прилип к гортани, душа едва не рассталась с телом, и я мог лишь безмолвно, с разинутым ртом смотреть на чудовищное зрелище. Что же до отца девушки, Ёсихидэ…
Никогда мне не забыть его лица в тот момент. Он бросился к карете, однако, когда взметнулось пламя, застыл на месте с протянутыми руками, пожирая глазами окутавшие повозку клубы дыма и языки огня. В свете пожара его безобразное, изборождённое морщинами лицо было видно очень ясно, вплоть до последнего волоска. В широко распахнутых глазах, в кривящихся губах, в подёргивании щеки – во всём читались ужас, тоска и ошеломление, сменявшие друг друга в его душе. Даже у разбойника на эшафоте, даже у грешника, представшего перед Десятью судьями ада, наверное, не выражалось на лице такого страдания. Стоявший перед Ёсихидэ воин, увидев это, вдруг побледнел и с трепетом обратил взор к нашему господину.
Что же до того, он, крепко закусив губу, неотрывно смотрел на экипаж, время от времени недобро усмехаясь. А в карете… о, не думаю, что у меня хватит смелости описать подробно, как выглядела девушка в карете. Белое лицо, обращённое кверху в попытке спастись от удушливого дыма, волосы, разметавшиеся в беспорядке, и красивая накидка с цветами сакуры, которые на глазах пожирало пламя, – картина была поистине душераздирающей. В те секунды, когда дувший с гор ночной ветер относил в сторону дым, фигура несчастной выступала из пламени среди рассыпавшихся алых искр, и было видно, как она грызёт пряди волос и бьётся так, что, казалось, вот-вот порвутся железные цепи. От зрелища адских мук, развернувшегося перед глазами, кровь стыла в жилах не только у меня, но и у всех – включая сурового воина.
Новый порыв ветра зашуршал верхушками деревьев. Тёмная тень невесть откуда пронеслась, словно мяч, между землёй и небом и влетела с крыши дворца прямо в пылающую карету. Среди рассыпающихся оконных решёток, покрытых багровым лаком, тень прильнула к плечу девушки, и из клубов дыма донёсся резкий, как треск ткани, крик – крик невыразимой боли, который повторился вновь… и вновь… Тут и все невольно вскрикнули в ответ. На фоне стены огня стало видно, что к девушке прижалась обезьянка по кличке Ёсихидэ, которую оставили привязанной во дворце Хорикавы. Неизвестно, как она преодолела весь путь оттуда до загородной резиденции. Видно, даже бессловесная зверушка испытывала такую благодарность девушке за заботу, что готова была сгореть вместе с ней.
19
Обезьянка, впрочем, мелькнула лишь на мгновение. Фейерверк искр взметнулся в небо брызгами золотой краски, и вот уже и обезьянку, и девушку заволокло чёрным дымом, словно карета посреди сада была соткана из языков пламени, издававших ужасный треск. Да и не карета уже, а огненный столп, поднимавшийся к звёздному небу, – иначе и не скажешь про этот чудовищный костёр.
До чего же странно было видеть застывшего перед огненным столпом Ёсихидэ. Сперва казалось, что художник сам переживает адские муки, теперь же он, словно забыв, что находится в присутствии господина, стоял со скрещёнными на груди руками, а на его морщинистом лице был разлит нездешний свет – восторг сродни исступлению. Казалось, он не видел, что его дочь погибает в муках, – нет, он любовался оттенками пламени и фигурой страдающей женщины, восхищаясь их красотой в своём сердце.
Но не только то было странно, что он словно бы наслаждался, видя последние мгновения единственной дочери. В этот момент Ёсихидэ выглядел так величественно, что и вовсе не походил на человека, – будто разгневанный предводитель львов, явившийся из грёз. Даже ночные птицы, перепуганные пожаром и с криками метавшиеся над нами, не смели приближаться к тому месту, где стоял художник в своей чёрной шапке. Неразумные твари – и те видели необыкновенное величие, которое излучала его фигура.
А если могли видеть птицы – что уж говорить о нас: мы все затаили дыхание и со странным трепетом, с восторгом в сердце неотрывно глядели на художника, словно на наших глазах рождался новый Будда. Какое это было совершенство, какой экстаз – ревущее пламя до небес, в котором сгорала карета, и неподвижная фигура Ёсихидэ! И лишь наш господин, сидевший на веранде, был сам на себя не похож: с побелевшим лицом, с пеной в уголках рта, он вцепился в лиловую ткань шаровар на коленях и хватал ртом воздух, будто измученное жаждой животное…
20
Вскоре о том, как господин приказал сжечь экипаж во дворце Юкигэ, поползли слухи, и люди стали сплетничать на разные лады. Больше всего их занимал вопрос: почему сиятельный Хорикава сжёг дочь Ёсихидэ? Поговаривали, что это была месть за отвергнутую любовь. Однако нет никаких сомнений, что не в этом состояло намерение нашего господина – он желал покарать заносчивого художника, осмелившегося требовать сожжения кареты и убийства лишь ради того, чтобы закончить картину на ширме. Я и сам слышал, как господин говорил об этом напрямую.
Много обсуждали и то равнодушие, с каким художник встретил гибель дочери – она, мол, сгорела у него на глазах, а он всё равно хочет дописать картину. Некоторые даже слали Ёсихидэ проклятия, говоря, что ему неведома отцовская любовь и он не что иное, как лютый зверь, принявший обличье человека. Настоятель храма в Ёгаве, в частности, не раз повторял: «Как бы ни был человек талантлив, а только всё равно его ждёт ад, если он не следует пяти конфуцианским добродетелям».
Прошло около месяца, и ширма с изображением мук ада была наконец завершена. Ёсихидэ сразу же доставил её во дворец и почтительно преподнёс нашему господину.
Присутствовал при том и настоятель. Стоило ему взглянуть на картину, как его потрясло изображение пламени, охватившего небо и землю. До того момента он смотрел на Ёсихидэ хмуро, но тут, поддавшись порыву, хлопнул себя по колену и воскликнул: «Это шедевр!» Я и поныне не могу забыть, как наш господин, услышав это, горько усмехнулся.
С тех пор никто уже не говорил о Ёсихидэ плохо – по крайней мере, во дворце. Быть может, оттого, что всякий, кто видел ширму, как бы ни был он настроен против художника, всем сердцем ощущал её величие и проживал в душе своей неизъяснимые страдания, выпадающие на долю грешника в огненном аду.
Сам же Ёсихидэ к тому времени покинул наш мир. На следующую ночь после того, как была закончена картина на ширме, он повесился, перекинув верёвку через балку в собственной мастерской. Видно, потеряв единственную дочь, он не мог дальше жить в покое. Могила Ёсихидэ находится в развалинах его дома. Она отмечена небольшим надгробным камнем, который точит ветер и омывают дожди; теперь, через несколько десятков лет, он совсем оброс мхом – и не разберёшь, кто похоронен на этом месте.
Апрель 1918 г.
Учитель Мори
Однажды вечером на склоне года мы с моим приятелем-критиком шли под облетевшими ивами в сторону моста Канда по так называемой «улице маленького человека» – про неё писал Симадзаки Тосон, горячо призывая её обитателей: «Держите голову выше!»[27 - Фраза из рассказа Симадзаки Тосона (1872–1943) «Намики» («Аллея»), в котором описывается жизнь мелкого служащего; «улицей маленького человека» герой Симадзаки называет район в Токио, где сосредоточено большое количество правительственных учреждений. Таких мелких служащих по-японски называют буквально «обед за поясом» (яп. «косибэн») – подразумевается, что его обладатель не может позволить себе пообедать в кафе и вынужден довольствоваться едой, принесённой в засунутой за пояс кимоно коробочке.] Вокруг, куда ни глянь, сновали в сумерках люди – видимо, мелкие чиновники, те самые, что носили за поясом кимоно вошедшую в поговорку коробочку с обедом. Казалось, они, как и я, пытаются стряхнуть уныние – и не могут. Мы с приятелем бок о бок, соприкасаясь рукавами пальто, в полном молчании торопливо прошагали до станции Отэмати. Когда мы её миновали, мой спутник, бросив взгляд на озябших людей у красного столба, отмечавшего трамвайную остановку, вдруг вздрогнул и пробормотал:
– Мори-сэнсэй вспоминается.
– А кто это?
– Был у меня такой учитель в средней школе. Я тебе не рассказывал?
Вместо того чтобы сказать «нет», я молча опустил козырёк кепки. Ниже я привожу то, что товарищ поведал мне по дороге.
—
Лет десять назад я учился в префектуральной средней школе, в третьем классе[28 - Японская средняя школа следует за шестилетней начальной, поэтому в третий класс ученики приходят в возрасте 14–15 лет.]. Английский у нас преподавал молодой учитель по фамилии Адати, но на зимних каникулах он заболел гриппом, перешедшим в воспаление лёгких, и скоропостижно скончался. Произошло всё так внезапно, что у руководства школы не было времени искать подходящую замену, и оно, видимо, ухватилось за последнюю соломинку: уроки вместо Адати-сэнсэя поручили вести пожилому учителю по фамилии Мори, который преподавал английский в какой-то частной школе.
Впервые я увидел его в тот день, когда он приступил к занятиям, после обеда. Нас, третьеклассников, распирало от любопытства – всем хотелось поскорее взглянуть на нового учителя. Едва в коридоре послышались шаги, как в классной комнате – холодной и уже погрузившейся в предвечернюю тень – стало необычайно тихо. Но когда шаги достигли нашей двери и она открылась… даже сейчас, когда я рассказываю, картина ясно встаёт у меня перед глазами. Из-за маленького роста Мори-сэнсэй больше всего напоминал балаганного уродца – человека с паучьим телом, которого часто показывают на храмовых праздниках. Жутковатое впечатление отчасти сглаживала блестящая, совершенно лысая голова – почти красивая в своём роде; лишь на затылке сохранялось немного седоватых волос, в остальном же она как две капли воды походила на страусиное яйцо с картинки в учебнике по естествознанию. Наконец, от всех прочих людей Мори-сэнсэя отличал странный сюртук-визитка – когда-то, вероятно, бывший чёрным, но от старости выцветший до синевы. К тому же мне на удивление отчётливо запомнился пышный галстук-бабочка ярчайшего, буквально кричащего лилового цвета, украшавший грязный воротник сорочки. Неудивительно, что, когда учитель вошёл, в разных углах послышалось сдавленное хихиканье.
Мори-сэнсэй с хрестоматией и классным журналом под мышкой, совершенно невозмутимо, будто в комнате не было ни души, поднялся на кафедру и в ответ на наше приветствие весьма добродушно, с благожелательной улыбкой на бледном, нездорового цвета лице, звонко воскликнул:
– Господа!
За три года в средней школе ни один учитель не называл нас «господами», поэтому, услышав от Мори-сэнсэя такое обращение, все пришли в изумление. Мы предвкушали, что последует большая речь, например, о программе грядущего семестра.
Но Мори-сэнсэй, сказав: «Господа!» – некоторое время просто молчал, обводя взглядом класс. На старчески обвисшем лице играла спокойная улыбка, но уголок рта нервно подёргивался, а в ясных глазах, чем-то напоминавших коровьи, поблёскивал тревожный огонёк. Казалось, он хочет о чём-то нас попросить, но не решается сказать вслух, – и при этом сам не понимает о чём.
– Господа! – повторил Мори-сэнсэй тем же тоном, будто желая ещё раз услышать, как это прозвучит. После чего быстро добавил: – С сегодняшнего дня я буду заниматься с вами по хрестоматии «Избранное чтение».
Наше любопытство нарастало, поднявшийся было в классе шум затих, и все с интересом разглядывали учителя. Мори-сэнсэй, однако, обведя умоляющим взглядом класс, вдруг рухнул на стул – так внезапно, словно внутри у него соскочила пружинка. Распахнув классный журнал, лежавший рядом с уже открытой хрестоматией, он устремил взгляд на список учеников. Всех, конечно, разочаровало столь внезапное завершение приветственной речи – и не просто разочаровало, а показалось неимоверно нелепым.
По счастью, до общего хохота дело не дошло; учитель поднял коровьи глаза от журнала и, не мешкая более, назвал одну из фамилий – с добавление вежливого «сан». Это был знак встать и отвечать; вызванный ученик начал с типичным для токийского школьника видом всезнайки переводить отрывок из «Робинзона Крузо». Мори-сэнсэй, теребя лиловый галстук, скрупулёзно исправлял ошибки – вплоть до погрешностей в произношении. У него самого выговор был несколько неестественный, но в целом чёткий и внятный, чем он, похоже, гордился.
Однако, когда ученик сел на место и переводить взялся учитель, в классе вновь раздались смешки: Мори-сэнсэй, уделявший столько внимания произношению, удивительно плохо для японца знал родные слова – или, по крайней мере, плохо их помнил. Поэтому перевод одной строчки звучал примерно так:
– И тогда Робинзон Крузо принял решение оставить её у себя. Кого оставить? Такое животное странное… в зоопарке много… как же их… кривляются ещё… вы наверняка знаете! Морды красные… как там, обезьяны? Да-да, обезьяну. Решил оставить у себя обезьяну.
Если уж слово «обезьяна» вызывало затруднения, то в более сложных случаях Мори-сэнсэй ходил вокруг да около бесконечно, в тщетных попытках подобрать перевод. Каждый раз он очень волновался, хватался за горло, едва не срывая лиловый галстук, лихорадочно смотрел по сторонам с растерянным видом – потом вдруг обхватывал руками лысую голову и утыкался лицом в стол, утратив всякое достоинство и показывая, что зашёл в тупик. Казалось, щуплое тело его сдувается, как воздушный шарик, а бессильно свешенные со стула ноги болтаются без опоры. Выглядело это забавно, и ученики, конечно, посмеивались. Пока учитель по два-три раза повторял перевод, смех всё усиливался, и в конце концов даже за передней партой покатывались, не скрываясь. Как больно, наверное, было добросердечному Мори-сэнсэю слышать наш бездушный гогот! Стоит об этом вспомнить, и сейчас хочется заткнуть уши.
Тем не менее, Мори-сэнсэй продолжал отважно переводить до конца урока. Завершив последний абзац, он вновь обрёл прежнее спокойствие и, будто сразу забыв о своих мытарствах, невозмутимо попрощался с учениками. Едва он ушёл, в классе началась вакханалия: с диким хохотом мы повскакивали с мест, нарочно грохоча крышками парт, а некоторые, вспрыгнув на кафедру, принялись передразнивать голос и манеры нового учителя. Не могу не вспомнить и себя – я тогда был старостой: окружённый одноклассниками, я бросился указывать, где Мори-сэнсэй ошибся в переводе. Действительно ли он ошибался? Увы, я просто строил из себя умника и понятия не имел, о чём говорю.
—
Прошло несколько дней. На большой перемене мы компанией одноклассников собрались на песчаной площадке с гимнастическими снарядами, где, подставив спины в шерстяных школьных пиджаках тёплому даже зимой солнцу, болтали о приближающихся экзаменах.
– Раз-два! – выкрикнул Тамба-сэнсэй, висевший вместе с учениками на турнике, и спрыгнул на песок. Перед нами выросла его крепкая – он весил под семьдесят килограммов – фигура, без пиджака, в одном жилете и спортивной кепке на голове.
– Ну, как вам Мори-сэнсэй? – спросил он.
Тамба-сэнсэй тоже преподавал английский, но, поскольку любил спорт и вдобавок был искусным декламатором классической поэзии[29 - Разновидность кэндо – кэнсибу – представляет собой танец-пантомиму под аккомпанемент «сигин», т. е. декламируемой речитативом классической поэзии, поэтому занятия кэндо нередко включают в себя и практику сигин.], пользовался популярностью даже среди заводил школы – кэндоистов и дзюдоистов, которые английский ненавидели. Поэтому один из тех самых заводил, вертя в руках бейсбольную перчатку, ответил без привычного апломба:
– Как сказать… он не очень… Все говорят, он английский не очень хорошо знает…
– Хуже, чем ты, что ли? – снисходительно хмыкнул Тамба-сэнсэй, платком отряхивая с брюк песок.
– Чем я – лучше.
– Ну так в чём проблема?
Ученик, почесав бейсбольной перчаткой затылок, принуждён был умолкнуть. Но вступил другой, успевавший по английскому лучше всех.
– Сэнсэй, но ведь многие из нас собираются продолжать учёбу, а потому учителя нам нужны лучшие из лучших, – не по возрасту серьёзно возразил он, поправляя очки с толстыми стёклами.