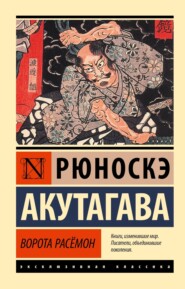скачать книгу бесплатно
– Да.
– Я действительно ошарашен…
– Во всяком случае, для него сделали всё возможное. Надо смириться с неизбежным. Хоть мне и трудно не сетовать, что так вышло…
Пока они беседовали, профессор с удивлением осознал: хотя женщина говорила о смерти сына, ничто в её поведении и манерах на это не указывало. Глаза были сухими, голос спокойным. Более того, она даже слегка улыбалась уголками рта. Сторонний наблюдатель, не слышавший её рассказа, наверняка решил бы, что она повествует о чём-то обыденном. Профессору это показалось странным.
…Много лет назад, когда он учился в Берлине, скончался Вильгельм Первый – отец нынешнего кайзера. Профессор узнал эту новость в излюбленной кофейне, но не придал событию особого значения. Когда же он, как обычно, с бодрым лицом и тростью под мышкой вернулся к себе в пансион, двое тамошних детей – двенадцатилетняя девочка в коричневой курточке и девятилетний мальчик в коротких тёмно-синих штанишках – бросились ему на шею и разразились слезами. Профессор, обожавший детей, совершенно не понимал, в чём дело, и лишь гладил их по белокурым головкам, повторяя: «Что случилось?» Дети продолжали безутешно рыдать.
– Сказали, что умер дедушка-император! – признались они в конце концов, шмыгая носами.
Профессора тогда поразило, что даже такие малютки горюют о кончине монарха. Однако задумался он не только о связи между императорской семьёй и народом. Приехав на Запад, он не раз обращал внимание, как импульсивны тамошние жители и как открыто выражают эмоции – и каждый раз удивлялся, с особенной остротой чувствуя, что сам он – японец и последователь бусидо. Он по-прежнему не забыл – не мог забыть – тогдашнее ощущение: сочувствие, смешанное с недоверием. Теперь же его поразило как раз обратное: гостья не плакала.
Вскоре последовало и второе открытие.
От соболезнований по поводу случившегося несчастья они перешли к воспоминаниям о жизни юноши и уже готовы были вернуться к сетованиям о его безвременной гибели. Тут из рук профессора выскользнул веер и со стуком ударился о паркет. Неспешная беседа позволяла на миг отвлечься, поэтому он наклонился за обронённым. Веер лежал под столом – у самых ног гостьи, обтянутых белыми носками-таби и обутых в домашние тапочки.
Взгляд профессора случайно упал на колени женщины. В лежавших на них руках она сжимала платок. Конечно, само по себе это не было открытием. Однако руки эти сильно дрожали и – видимо, силясь подавить бурю чувств, – терзали клочок ткани, едва не разрывая его на части. И, наконец, профессор заметил, что вышитый кончик шёлкового платка тоже подрагивает между изящных пальцев, будто колеблемый ветром. На лице у женщины была улыбка, но всё тело её сотрясалось от рыданий.
Подобрав веер, профессор поднял голову. Его лицо приняло новое выражение – сложное и несколько преувеличенное: благоговение, словно он увидел нечто, не предназначенное для его глаз.
– У меня нет своих детей, но я понимаю, насколько вам, должно быть, тяжело, – тихим, прочувствованным голосом сказал он, театрально отводя взгляд, будто от яркого света.
– Благодарю вас. Увы, никакие слова не изменят того, что произошло.
Женщина наклонила голову. На ясном лице застыла непроницаемая улыбка.
Прошло два часа. Профессор принял ванну, поужинал, закусил на десерт черешней и вновь удобно расположился в плетёном кресле на веранде.
В долгие летние вечера часы до наступления сумерек тянутся бесконечно, и на просторной веранде с раскрытыми окнами ещё не стемнело. Профессор сидел в тускнеющем свете, закинув левую ногу на правую и положив голову на спинку плетёного кресла; он рассеянно глядел на красную кисточку, украшавшую расписной фонарь. Хотя в руках у него была книжка Стриндберга, он так и не прочёл ни одной страницы. И неудивительно – из головы не шла беспримерная стойкость госпожи Нисиямы.
За ужином он рассказал всю историю от начала до конца жене, присовокупив панегирик японским женщинам, олицетворявшим философию бусидо. Жена, с её любовью к Японии и японцам, конечно, была впечатлена, и её супруг радовался, что нашёл в ней восторженного слушателя. Жена, недавняя гостья, бумажный фонарь – три этих объекта и те морально-этические концепции, которые за ними стояли, вновь и вновь всплывали в сознании профессора.
Он и сам не знал, сколько времени провёл за приятными размышлениями. Довольно долго; прервало их воспоминание о том, что его просили написать статью для одного журнала. Там под общим заголовком «Чтение для современной молодёжи» различные авторитетные фигуры рассуждали о нравственности. Профессор решил приступить к работе незамедлительно, используя сегодняшнее происшествие как отправную точку. Подумав об этом, он почесал в затылке.
Для этого из рук пришлось выпустить книгу. Вспомнив о ней, он раскрыл её вновь – на странице, которую заложил визитной карточкой. Подошедшая горничная зажгла над головой узорчатый фонарь, так что мелкий шрифт стало видно лучше. Углубляться в чтение профессор сейчас не собирался. Однако, опустив глаза, он упёрся взглядом в такие строки.
«В пору моей молодости, – писал Стриндберг, – у всех на слуху была мадам Хейберг[5 - Йохана Луиза Хейберг (1812–1890) – знаменитая датская актриса, жена театрального критика и драматурга Йохана Людвига Хейберга.] и её платок – кажется, то было парижское изобретение. Суть приёма заключалась в «двойной игре»: на лице актрисы улыбка, а руками она рвёт платок. Сейчас мы назвали бы это трюкачеством».
Профессор положил открытую книгу на колени. Посреди страницы по-прежнему лежала визитная карточка Нисиямы Ацуко. Но теперь профессор думал не о ней. И не о собственной жене, и не о японской культуре. Он ощущал некую угрозу гармоничному сочетанию этих элементов. Конечно, есть разница между сценическими методами, о которых писал Стриндберг, и вопросами прикладной морали. И всё же в прочитанном было что-то, смущавшее безмятежный покой, который снизошёл было на профессора после вечерней ванны. Что-то, имевшее отношение к бусидо и выработанной раз и навсегда манере игры…
Пару раз недовольно встряхнув головой, профессор вновь поднял глаза и уставился на яркий фонарь, по абажуру которого вились осенние травы.
Сентябрь 1916 г.
Mensura Zoili
Я сидел в кают-компании, а напротив меня, через стол, расположился странного вида мужчина…
Стоп. Я не был уверен, что нахожусь на борту судна: такой вывод я сделал потому, что за окном виднелось море, а сама комната показалась мне похожей на… кают-компанию. Но, может, это какое-то более привычное место? Впрочем, нет. Тогда не было бы такой качки. Я, конечно, не Киносита Мокутаро[6 - Киносита Мокутаро (1885–1945) – современник Акутагавы, японский писатель, драматург и одновременно доктор медицины, снискавший признание в Японии и за рубежом.] и не могу сходу определить амплитуду колебаний, но комната качается – совершенно точно. Это, в конце концов, можно проверить, посмотрев в окно на линию горизонта, которая то поднимается, то опускается. День пасмурный, поэтому раскинувшееся, насколько хватает глаз, море – смутного серо-зелёного цвета, но граница, где оно соединяется со свинцовым небом, прыгает, по-разному перерезая круглое окно. Вот проплыла птица, почти того же оттенка, что и тучи, – видимо, крупная чайка.
Вернёмся к странному человеку, который сидит напротив и со скучающим видом читает газету. На носу у него очки с толстыми стёклами. Густые усы. Квадратный подбородок. Такое ощущение, что я его где-то встречал, но никак не могу вспомнить где. Судя по пышной всклокоченной шевелюре, передо мной какой-нибудь писатель или художник – правда, с этим образом совсем не вяжется его строгий коричневый костюм.
Какое-то время я внимательно рассматривал эту любопытную фигуру, потягивая из маленькой рюмки сладкий европейский ликёр. Мне было скучно, хотелось завязать разговор, но я всё не мог решиться – так неприветливо выглядел мой визави.
В конце концов господин с квадратным подбородком вытянул вперёд ноги и, подавляя зевок, сказал:
– Эх, скучно. – С этими словами он бросил на меня взгляд из-под очков и вновь вернулся к газете. Я окончательно уверился в том, что где-то его уже видел.
В кают-компании никого, кроме нас, не было.
– Скучно! – через некоторое время повторил странный человек. На этот раз он швырнул газету на стол и уставился на меня, рассеянно попивающего свой ликёр.
– Не хотите ли угоститься рюмочкой? – спросил я.
– О, спасибо. – Он склонил голову, но не сказал ни «да», ни «нет» на предложение выпить и продолжал: – Совсем измучился. Так и помереть можно со скуки, пока доберёшься.
Я не стал возражать.
– До Зоилии ещё больше недели, а судно у меня уже в печёнках сидит.
– До… Зоилии?
– Именно. До Республики Зоилия.
– А что, есть такая страна?
– Ну вы даёте. Неужели вы не слышали про Зоилию? Не знаю, куда вы направляетесь, но этот рейс всегда туда заходит.
Я был озадачен. Если уж на то пошло, я понятия не имел, как вообще оказался на этом судне. А название «Зоилия» мне точно не встречалось прежде.
– Правда?
– Конечно. Зоилия прославилась ещё в незапамятные времена. Вы, наверное, слышали, что именно здешний учёный когда-то раскритиковал Гомера. В столице и по сей день стоит великолепный обелиск в его честь.
Я удивился внезапно обнаружившейся эрудиции Квадратного Подбородка.
– Выходит, государство древнее?
– Ещё какое. По легенде, Зоилию когда-то населяли лягушки, но Афина Паллада превратила их в людей. Болтают, будто речь местных жителей похожа на кваканье, но правды в слухах нет. В исторических хрониках Зоилия впервые упоминается в связи с тем самым героическим учёным – обличителем Гомера.
– И что же, это и теперь просвещённая страна?
– А как же! Особенно известен столичный университет – он собрал в своих стенах лучших учёных страны и не уступает известнейшим университетам мира. А не так давно группа тамошних профессоров разработала один прибор – измеритель ценности. По отзывам, настоящее чудо! По крайней мере, так пишет местная газета «Зоильские вести».
– А что делает измеритель ценности?
– Буквально это и делает – ценность измеряет. По большей части используется для романов, картин и тому подобного.
– Какую ценность?
– В основном – художественную. Хотя, конечно, можно любую ценность померить. В Зоилии прибор назвали Mensura Zoili, в честь одного из славных предков.
– А вы эту диковину когда-нибудь видели?
– Сам прибор – нет, только иллюстрацию в «Зоильских вестях». На вид он как обычные весы: книгу или картину нужно положить на подставку. Немножко мешают переплёт или рама, но это не страшно – погрешность потом корректируется.
– Значит, полезная штука?
– Чрезвычайно полезная. Настоящий инструмент просвещения. – Квадратный Подбородок вытащил из кармана сигареты «Асахи» и, закурив, продолжил: – Больше можно не беспокоиться, что писатели да художники смогут нас надуть – как торговцы на рынке, которые вместо баранины норовят всучить собачатину. Тут сразу понятно – у произведения есть ценность, выраженная в цифрах. Думаю, в Зоилии поступили весьма разумно, когда без отлагательств оснастили этими аппаратами таможенные посты.
– Это зачем же?
– Чтобы проверять картины и книги, которые ввозятся из-за границы, и запрещать импорт тех, которые ценности не имеют. Говорят, сейчас всё проходит контроль – любые произведения из Японии, Англии, Германии, Австралии, Франции, России, Италии, Испании, Америки, Швеции, Норвегии. Но что-то с Японией дела плоховаты. Хотя на наш – весьма доброжелательный – взгляд, там вроде бы есть неплохие писатели и художники.
Пока мы беседовали, дверь кают-компании распахнулась, и вошёл расторопный чернокожий парень в синей летней униформе. Он молча положил на стол стопку газет и мгновенно скрылся за дверью.
Квадратный Подбородок, стряхивая пепел, потянулся за газетой. Видимо, это и были «Зоильские вести». Лист покрывали странные значки, напоминающие клинопись.
Я вновь поразился познаниям собеседника, умеющего читать такие закорючки.
– Как всегда – только и пишут, что о Mensura Zoili, – сказал он, не отрываясь от чтения. – Вот, опубликовали таблицу ценности всей прозы, которая была издана в Японии в прошлом месяце. Даже пояснения от инженеров, проводивших измерения, имеются.
– А есть что-нибудь про писателя по фамилии Кумэ[7 - Кумэ Масао (1891–1952) – японский писатель, близкий друг Акутагавы; упоминается в ряде автобиографических произведений.]? – спросил я, думая о своём приятеле.
– Кумэ? Это роман «Серебро»? А как же, есть.
– И какова его ценность?
– Нулевая. Тут пишут, что вся книга – набор банальностей о том, как человек открывает для себя жизнь. Автор, мол, так торопится показать, будто всё на свете понял, что скатывается в низкопробную вульгарность.
Мне стало не по себе.
– И вы уж меня простите, но про ваш рассказ «Трубка» тоже кое-что имеется, – ухмыльнулся Квадратный Подбородок.
– И что же?
– Примерно то же самое. Банальщина, которая и так всем известна.
– Хм-м-м…
– А вот ещё пишут: что-то автор слишком плодовит…
– Ох, ох.
Теперь мне было не просто «не по себе» – я чувствовал себя полным дураком.
– Да, это всех касается: измеришь кого-нибудь из писателей или художников новым прибором – и всё, лопнул пузырь. Технику не обманешь. Это самого себя можно нахваливать сколько угодно, а тут сразу видно, кто чего стоит. И дифирамбы, которые писатели друг другу поют, не помогут. Попробуйте-ка лучше напрячься и создать что-то по-настоящему ценное.
– Но как вы можете быть уверены, что оценка прибора точна?
– Достаточно положить на него шедевр – например, «Жизнь» Мопассана. Сразу выдаст самые высокие показатели.
– И другого способа нет?
– Другого – нет.
Я умолк: мне казалось, что в логике Квадратного Подбородка кроется какой-то изъян. Но тут мне в голову пришёл ещё один вопрос.
– Значит, и произведения авторов Зоилии можно оценить?
– Это запрещено местным законом.
– Но почему?
– Ну как же – потому, что граждане Зоилии против. Страна с самых древних времён была республикой. Всё по принципу: vox populi, vox Dei[8 - Глас народа – глас Божий (лат.).]. – Тут Квадратный Подбородок улыбнулся с непонятным выражением. – Хотя поговаривают, что на измеритель уже клали местные произведения, и оценки вышли очень низкие. Тогда и правда получается дилемма: либо усомниться в показаниях прибора, либо в ценности своих работ, – и то, и другое удовольствие сомнительное. …Впрочем, это всего лишь слухи.
Вдруг судно качнулось так сильно, что Квадратный Подбородок свалился со стула, а на него опрокинулся стол. Перевернулись бутылка и рюмки, разлетелись газеты, линия горизонта в иллюминаторе и вовсе пропала из виду. Воздух наполнился звоном разбитой посуды, грохотом падающих стульев и ударами волн о днище корабля… Крушение! Мы с чем-то столкнулись! А может, под водой начал извергаться вулкан?..
…Я проснулся у себя кабинете, в кресле-качалке, где задремал после обеда за чтением «Критиков» – пьесы Сент-Джона Эрвина. Видимо, покачивание кресла и вызвало в моей голове образ судна.
Что до Квадратного Подбородка – он вроде походил на Кумэ… а вроде и нет. Я так и не понял, он это был или не он.
23 ноября 1916 года
Удача
Вход в мастерскую загораживала занавеска из грубой бамбуковой циновки, сквозь щели в которой была видна дорога. Здесь, на пути, ведущем в храм Киёмидзу, людской поток не иссякал никогда. Вот прошёл буддийский монах с гонгом. Вот женщина с подвязанным, чтоб было легче идти, подолом. Вслед за ней – вот диковинка! – проехала плетёная повозка, запряжённая жёлтым волом. Все они появлялись в просветах занавески то с одной, то с другой стороны и тут же исчезали вновь. И лишь одно оставалось неизменным: утоптанная земля на узкой улочке, нагретая тёплыми лучами послеполуденного солнца.
Молодой подмастерье, некоторое время наблюдавший за прохожими со своего места, вдруг, встрепенувшись, обратился к горшечнику – хозяину мастерской.
– К богине-то Каннон, как я погляжу, всегда много людей ходит.
– Много, – проворчал тот – видимо, недовольный, что его отвлекают от работы. Впрочем, старик с маленькими глазами, вздёрнутым носом и задорным лицом и с виду, и по натуре был добрейшим существом. В холщовом кимоно и потрёпанной мягкой шапочке-момиэбоси, он будто сошёл со свитка с картинами прославленного Тобы Содзё[9 - Тоба Содзё (1053–1140) – японский живописец и буддийский монах, которому приписывается создание серий комических картин, иногда называемых первым японским комиксом-мангой.].
– И мне бы туда каждый день ходить. Страсть как хочется выбиться в люди.
– Всё шутишь…
– Отчего ж? Если так можно удачу добыть, то и я, пожалуй, заделаюсь прихожанином. Хоть в храм начну бегать, хоть в молельне затворюсь и поклоны бить стану. Всё это ничего не стоит. С божеством, похоже, нетрудно сторговаться.
Высказав такие суждения, вполне отвечавшие его возрасту, юный подмастерье облизнул нижнюю губу и обвёл взглядом мастерскую. Та представляла собой хижину с соломенной крышей, за которой начиналась бамбуковая роща; внутри было до того тесно, что повернись – и упрёшься носом в стену. Однако по сравнению с оживлённой улицей снаружи здесь царили тишина и спокойствие, лишь лёгкий весенний ветерок обдувал красные глиняные бока горшков и кувшинов; казалось, загляни на сто лет назад – и увидишь то же самое. Даже ласточки словно бы избегали вить гнёзда под этой крышей…
Старик ничего не отвечал, и подмастерье заговорил вновь.
– А вы-то в ваши годы наверняка много разного повидали. И что же? Правду ли говорят, будто богиня Каннон дарует удачу?
– Правду. В прежние времена я, случалось, слышал о таком…