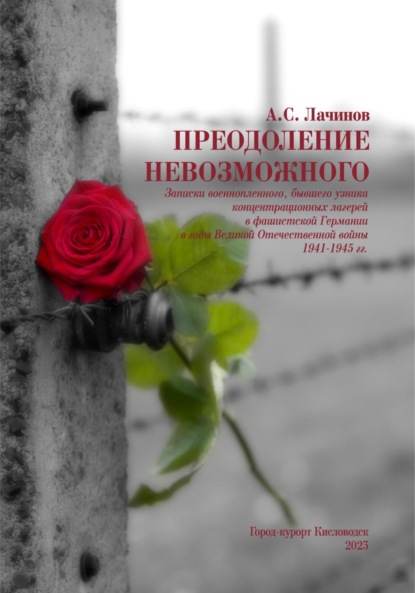 Полная версия
Полная версияПреодоление невозможного
И вот назначили день отъезда. К своему удивлению, днём я узнал, что ребята собираются устроить мне проводы. Я сперва не поверил, но потом все сбылось. В 7 часов вечера меня вызвали в барак, где жили полицаи. Собралось около двадцати человек. Были там полицаи и приближённые к ним. В том числе знаменитый Николай, забойщик, бывший наборщик ярославской типографии. С виду ничем не примечательный: среднего роста, узкоплечий, рыжеволосый, с рябоватым лицом. Но ребята к нему тянулись. Он привлекал своим удивительным голосом. Его присутствие меня обрадовало, я его уважал, особенно любил его замечательный голос, который можно сравнить только с голосом Муслима Магомаева. Я бы сказал, что голос Николая даже более сильный и красивый. Начальство лагеря часто его просило и заставляло петь. За это немцы награждали его баландой, а иногда и бутербродом. Пленные Николая упрекали, мол, за баланду немцам продался. Может быть, отчасти и так. Но мне кажется, что в песнях он изливал свою душу, в которой накопилось очень много горя.
Когда я пришёл, все уже были в сборе. Я удивился, что мне устраивают проводы. И непонятно, за какие заслуги. На столе три булки хлеба, картофель, немного сыра, немного сала, горох, колбаса и три бутылки спирта. Где, каким образом всё это достали? По всей вероятности, организатором этого вечера был Сидор. Полицаи имели возможность ходить в город, им давали пропуск. Видимо, всё это в городе достали, может быть, кое-что на лагерной кухне (повара с полицаями считались). А где взяли деньги?
Некоторые военнопленные находили на шахтах, да и на заводах металлические трубки из нержавеющей стали. Они резали эти трубки на колечки, обрабатывали, и получались кольца, похожие на серебряные. Другие пленные доставали резину и брезент и шили из них чувяки. Кольца и чувяки немцы охотно покупали (большей частью обменивали на хлеб, маргарин, соль и другие продукты). Предполагаю, что с помощью военнопленных пустили в оборот чувяки, кольца и таким образом раздобыли драгоценные для того времени яства для стола.
Налили по стопочке спирта, разбавили водой. Сидор предложил выпить за победу советского оружия. Выпили все, в том числе и я. У меня сразу закружилась голова. Налили ещё. Кто-то предложил выпить за моё здоровье. Я поблагодарил за тост и пожелания, но пить отказался. После второй стопки все захмелели, кроме полицаев. Попросили Николая спеть. Он затянул песню «Бежал бродяга с Сахалина глухой неведомой тропой». У всех на глазах навернулись слёзы, а некоторые рыдали. Он ещё спел несколько русских и советских песен, в том числе о Родине. Потом ещё выпили. Говорили о житье-бытье, о последних новостях на фронтах, о втором фронте (о действиях союзников). Хорошо, что всё обошлось благополучно, никто на нас не донёс.
На следующий день я узнал, что со мной отправляют в лагерь ещё одного пленного, Золотарёва Петра. Я удивился, что он жив и в состоянии на своих ногах добраться до лагеря. Пётр несколько раз пытался бежать, но безуспешно. Пытался и я, как и некоторые другие, но не получалось. А потом пришёл к выводу, что это безрассудство. Бежать-то некуда: если к своим, то надо прошагать всю Германию, если во Францию, то впереди Рейн и оборонительные укрепления. Да и на местности плохо ориентировались. Но нельзя утверждать, что во Францию не бежали. Несомненно, пленные бежали. Но из каких лагерей, из каких мест, не могу сказать. Хорошо помню, как в 1945 году, в июне или июле, в Дюссельдорф из Франции прибыла группа советских военнопленных, участвовавших в сражениях с немцами в Сопротивлении на территории Франции.
Всё-таки однажды Пётр убежал. Где-то дня три блуждал. Но его поймали и привели назад, на шахту. Беглеца пороли все – поляк-полицай, русские полицаи и немецкие солдаты. Избили так, что встать он не мог. Если бы так били другого пленного, тот бы очень быстро отдал концы. Петро имел крепкое телосложение и поэтому остался жив. Его полумёртвого на носилках отнесли в санчасть, где он пролежал целый месяц. После выздоровления несчастного снова погнали на шахту. Через несколько дней он отказался идти на работу. Петра опять выпороли, и снова санчасть. Попросился на комиссию, и его выписали в лагерь (этому способствовала ещё большая рана на ноге).
Хемер
Опять мы прибыли в Хемер, в лагерь военнопленных. Более полутора лет не был здесь, работал на шахте. Особых изменений не заметно, порядки те же, что и раньше, только стало, как мне показалось, более оживлённо.
Сюда прибыло много итальянских военнопленных. Немцы относились к ним почти так же, как к советским, но иногда демонстративно злобствовали, называли предателями этих «итальяно». Хотя в чем они виноваты? Муссолини вел антинародную политику, и итальянцы повернули оружие против Муссолини и Гитлера. Наши ребята звали их просто «итальяно», как и немцы, а некоторые иронично величали «муссолини».
Среди них тоже появились полицаи. Они, как и наши, верно служили немцам. К «великосветскому» обществу относились музыканты и артисты, которых было очень много. Немцы выбирали самых лучших. Итальянцы – народ музыкальный и поющий, чуть ли не каждый из них красиво пел. Однажды я изумился, увидев человек двадцать итальянцев, без руководителя и дирижера, исполнявших современные итальянские и немецкие песни. Пели они слаженно, красиво и без всякой подготовки. Немцы любили послушать итальянскую музыку и песни. Поэтому они нет-нет и заставляли итальянцев петь и играть. Мы, несмотря на постоянный голод, тоже были не прочь насладиться прекрасными голосами. Конечно, итальянцы могли петь, потому что они были крепче нас и ещё не дошли до такой степени истощения, до какой довели нас.
В лагере шла бойкая торговля хлебом, маргарином, сахаром, махоркой, табаком, сигаретами, одеждой и другими вещами. Денег, разумеется, в обращении не было (хотя у некоторых они имелись, особенно у полицаев). Кое-кому удавалось принести с места работы на близлежащих фермах сахарную и кормовую свёклу, картофель, брюкву. Кого только в лагере не было: рабочие, колхозники, слесари, монтёры, каменщики, маляры и штукатуры; учителя, инженеры и даже кандидаты и доктора наук. Большинство пленных здесь чувствовали себя лучше и намного крепче нас. Видимо, они недавно попали в плен или же находились на сельскохозяйственных работах. Здесь формировали команды и отправляли на заводы и шахты. Чтобы не ехать на работу, Пётр смазывал рану серной кислотой, добытой ещё на шахте Беккеверт. Но я не решился это сделать.
В свободное время, если было настроение и силы, пленные собирались в группы и беседовали на различные темы: о питании, о политике, о положении на фронтах, сведения о котором просачивались от новых пленных и немцев. Но с чего бы ни начали беседу, разговор незаметно переходил на еду. О каких только блюдах ни говорили!
– А вот моя мама такие вкусные пельмени готовила, – начинал кто-нибудь. И с мельчайшими подробностями рассказывал, как мать готовила пельмени.
– А моя жена, – начинал другой, – такие вкусные вареники делает, что пальчики оближешь.
– Моя сестра очень хорошо готовит, особенно нравится мне, как она чахохбили делает.
– Дайте мне барашку, – запевал третий, – я такой шашлык поджарю, что никто другой не сумеет.
И так бесконечные ежедневные разговоры о еде. Они как внезапно возникали, так внезапно и гасли. Особенно часто говорили о еде в Хаммерштайне.
Эссен
В Хемере подготовили большую партию пленных, куда попал я, и отправили в Эссен. Там те же бараки, те же вши и блохи, те же порядки, и избыток полицаев. Из лагеря пленных посылали на заводы Круппа и другие предприятия.
Я попал на завод Круппа, где производили танки «Тигр». Немцы очень хвастались этими танками, особенно в начале войны. Но наши танки превосходили их по своей мощности, маневренности, скорости и способности оптимально поражать противника.
Завод находился в трёх километрах от лагеря. Пленные обычно ходили на работу в колодках. Это было невыносимо тяжело.
После трёхкилометровой ходьбы надо было ещё 9-10 часов на заводе отработать. Слесари, токари, фрезеровщики, инструментальщики и другие трудились по специальности, а остальные выполняли разные работы. Лично я таскал на тачке детали, стружку. Тяжело было физически, но ещё тяжелее морально наблюдать, как с конвейера сходят готовые танки, которые отправятся на фронт, чтобы убивать моих соотечественников.
Смотреть на «Тигры» было больно до слёз. И на третий день я отказался идти на работу. Во-первых, совесть не позволяла, всё-таки получалось, что я работаю на врага, который куёт оружие против советских войск. Во-вторых, я не мог преодолеть такое расстояние пешком при моём состоянии здоровья. За отказ идти на работу меня, что называется, «добре» отделали и направили в санчасть. Русский врач, чёрствый и антисоветски настроенный, отказывался меня положить в больничку, но мне помогли авторитетные люди, в том числе капитан Малинин. Разумеется, я врача как следует вызвездил.
Теперь у меня появилось много времени подумать о судьбе военнопленных и о себе. Уже давно открылся второй фронт. Что нас ждёт? Все хотят как-нибудь выжить в этот период. Но как? Ведь за день в плену столько переживаний, чего не испытаешь и за год на свободе. А жить хотелось, как никогда! Люди чувствовали, что приближается конец войны. Каждому хотелось дожить до победы над фашизмом. Думали о Родине, хотелось увидеть родные края, родственников и близких, друзей и товарищей. А где гарантия, что это удастся? Её не было. Чтобы дожить до освобождения, некоторые умудрялись, как и в Дуйсбурге, приносить с завода металлические трубки из нержавеющей стали, резину, брезент. Из них делали кольца, чувяки и меняли у немцев на хлеб. Я пишу об этом второй раз, чтобы показать, как люди цеплялись за жизнь. Откуда у них взялась такая сноровка? Ведь раньше-то они этим делом не занимались.
Некоторые пленные делали шкатулки и художественно их оформляли. Я тоже, хотя раньше и понятия не имел, как это делать. Ребята приносили мне фанеру, клей и солому. Из фанеры я делал шкатулку, а вымоченной и обработанной соломой украшал. Получались довольно красивые шкатулки. Ребята меняли их на хлеб, часть которого доставалась и мне. Помню, как один парень очень старался и в течение двух дней (конечно, после работы) делал одно кольцо. А кольцо – это булка хлеба. Я ещё тогда подумал и сказал ему, что он наверняка доживёт до конца войны, если немцы и полицаи не убьют. Выглядел он очень статным, сильным, крепким, полным, даже щёки у него были розовые. И что же вы думаете: примерно через год после освобождения американцами он на моих глазах перерезал себе горло бритвой. Я не успел её у него выхватить. Он покончил с собой потому, что больше не мог переносить страшных мучений. Жаль его было до слёз: у него была третья стадия туберкулёза.
Я заметил среди пленных какое-то оживление – собираются группами, о чём-то шёпотом рассуждают. Но не мог понять, в чём дело. Однажды в каком-то бараке зашёл разговор о руководстве партией и правительством. В бараке немцев не было. Посчитал, что все ребята свои. И я, как говорится, открыл душу нараспашку и выступил главным комментатором, совершенно не предполагая, чем это мне отзовётся.
На второй день я встретился с капитаном Малининым (или Малиновским, точно не знаю). Но хорошо помню, как он сказал, что его отец не то генерал, не то маршал и занимает в Красной армии видную должность. А сам капитан Малинин попал в плен по несчастью, но как это произошло, он не говорил. Капитан предупредил меня, что среди нас есть доносчики, и надо быть осторожнее. Пожурил меня по поводу вчерашнего выступления. Он мне понравился: симпатичный молодой человек, высокого роста, статный, крепко сложенный, чувствуется воинская выправка. Капитан мне наедине признался, что является командиром подпольного формирования военнопленных лагеря, что надо быть начеку. Вот-вот придут союзники, и мы должны вести подпольную работу, по сигналу обезоружить комендатуру и идти навстречу освободителям.
Дортмунд
Через несколько дней меня комиссовали и в сопровождении конвоира отправили в Дортмунд. Здесь порядки были те же, что и в других лагерях. Но отчасти мне повезло. Я встретился с полицаем, который не был похож на всех других своим поведением.
Его звали Виталий Кутилин. Это молодой человек лет 30-33, высокого роста, широкоплечий, крепкого сложения. Светлое лицо, тёмные волосы, светящиеся глаза, приятная улыбка, одним словом, обаятельный и на вид интеллигентный. Обычно он ходил во френче, брюках галифе защитного цвета и сапогах. С ним было приятно поговорить, как с человеком эрудированным. Плётка, как и у всех полицаев, имелась, но он её почти не носил. Он числился не только старшим полицаем, но и русским комендантом лагеря. К пленным относился строго, но не бил и старался не обижать.
Как-то мы с ним разговорились, и я узнал, что он родом из Ростова-на-Дону, учился в Ростовском университете на 4-м курсе исторического факультета. В 1937 году его отца посчитали врагом народа и ликвидировали, а за это Виталия Кутилина исключили из университета. Он выразил недовольство руководителями партии и правительства. Но, с другой стороны, верил, что это временное явление, и беззаконие творится по какому-то недоразумению.
Когда я сказал, что в 1936-1938 годах учился в Ростове на рабфаке при университете, он обрадовался, как земляку. Поэтому давал мне добавку баланды, иногда приглашал к себе. Я немного ожил. Если человек не испытывает сильного голода, у него возникают духовные потребности и, в первую очередь, желание размышлять, передавать знания, общаться с людьми, делиться мыслями, взглядами. Так получилось и со мной. Я стал больше говорить, больше общаться с людьми и высказывать свое мнение об окружающей жизни и происходящих событиях.
В семь часов вечера бараки запирали, пленные забирались на нары. Я спал на верхних нарах. Тишина. Все молчат, но никто не спит – еще рано. Все ждут, когда кто-нибудь начнет говорить. Рассказывали многие и всякую всячину. Частенько приходилось это делать и мне. Вспоминал разные истории из жизни, сказки, интересные отрывки из романов и повестей и незаметно переходил к политике, философии и к происходящим событиям.
Настроение у меня повысилось: я встретился с хорошими людьми – комендантом лагеря Кутилиным, врачом Крыловичем, бывшим наркомом сельского хозяйства Белоруссии, Минским и ещё одним врачом, фамилию которого забыл.
Доктор Крылович – человек серьёзный, степенный, в беседе не допускал нецензурных и нетактичных выражений. Если Кутилин отличался от других своим высоким ростом, то Крылович ничем не выделялся, небольшой рост делал его незаметным в массе пленных. О его способностях как врача ничего не могу сказать, но он обладал способностью распознавать, кто чем «дышит». Он мне очень понравился. Доктор никогда не смеялся и не улыбался, как Кутилин. Шуток не любил, но в нём чувствовалась какая-то притягательная сила. Он взвешивал каждое слово собеседника, но не всегда делал выводы, они оставались где-то в глубине души или проявлялись практически, в действиях. Доктор Крылович работал в санчасти лагеря и одновременно обслуживал военный госпиталь, находившийся недалеко от лагеря. После первой же встречи он предложил мне свою материальную помощь.
У читателя может возникнуть вопрос, почему некоторые пленные оказывали мне материальную и моральную поддержку. Во-первых, советские люди – самые гуманные, и оказавшись в беде, они старались помочь друг другу. Во-вторых, в плену стихийно сложилась классификация людей: очень нужные, просто нужные и ненужные. К очень нужным людям относились: подпольщики, партийные работники, командиры Красной армии, учёные, учителя, инженеры. К нужным – рабочий класс и крестьянство. К ненужным – предатели, доносчики, полицаи. Очень нужных старались спасти в первую очередь. Разумеется, эти люди не просили о помощи, не рассказывали, кто они такие. Кому нужно – узнавали сами. Кроме Козырева, почти никто не знал, что я учитель. Однако при первой же встрече доктор Крылович решил помочь мне (как говорится, у них было чутьё). Он часто приглашал меня в госпиталь на обед. Однажды я заглянул в палаты, и увидел ужасную картину: на койках сидели и лежали немецкие фронтовики. Они напоминали мертвецов, которых откопали на кладбище. Многие без ног, без рук, с выбитыми глазами, челюстями, с повреждениями черепных коробок. В палатах стоял стон; некоторые проклинали тех, кто затеял войну.
Я, доктор Крылович и его товарищ часто встречались и беседовали о разных проблемах жизни, но больше всего говорили о состоянии военнопленных, о положении на фронтах, о политике партии ВКП(б). Иногда между нами бывали разногласия. Я, например, обвинял их в том, что слишком много умирает пленных, что надо их как-то спасти, сберечь, они ещё пригодятся. На это доктор Крылович отвечал: «Мы всех спасти не в состоянии, только тех, кого считаем самыми необходимыми». А кого – я перечислил выше.
Как-то после очередной беседы с пленными я встретился с Минским, который давно уже присматривался ко мне и относился с большим уважением. Невысокий, полный, коренастый, сероглазый, на вид лет 40-45. Ходил задумчиво, медленной походкой, говорил мало и медленно, во время беседы очаровывал собеседника своей логикой и эрудицией.
Минский неторопливо подошёл ко мне. На сей раз он выглядел очень мрачным. «Отойдём», – почти шёпотом сказал Минский. Мы отошли от бараков в сторону, где не было ни полицаев, ни пленных.
– Вы неосторожны, – начал Минский.
– В чём? – спросил я.
– Вчера вечером, – продолжал он, – в бараке вы беседовали с пленными о положении на фронтах, о политике ВКП(б). Так нельзя проводить пропагандистско-агитационную работу. Это очень рискованно, вы ставите себя и других под удар. Я слышал, что за вами следят. Учтите, что уже действует второй фронт. Мы должны подготовиться и по сигналу идти навстречу союзным войскам. Надо создавать среди пленных пятёрки и через них проводить работу.
Да, он был прав, за мной действительно следили (я узнал об этом позже). На следующий день меня срочно под конвоем отправили обратно в Эссен. Через день, ничего не спрашивая, завели в тёмную одиночную камеру и заперли. Потом принесли мне граммов 50 хлеба, кружку воды и литр баланды. Я просидел всего сутки, но мне стало жутко. Камера сырая и тёмная, хоть глаз выколи, как будто я оказался в мышиной норе, ложиться запрещено.
Под конвоем меня отправили обратно в Дортмунд и посадили в районное гестапо. Я попал в камеру, где кроме меня находились француз и русский. Француз оказался очень порядочным гуманным человеком. Вскоре русского забрали, и мы с французом остались вдвоём. По прибытии в гестапо я попросил коридорного позвать Кутилина. Тот незамедлительно пришёл. Через глазок коротко перекинулись словами.
– Как же ты сюда попал? – удивлённо спросил Кутилин. Он был испуган, раздражён и недоволен, будто его подменили.
– Не знаю, – ответил я.
– Ведь сюда попадают особо опасные люди, – добавил он (опасные в понимании фашистов – А.С.). На этом наш разговор закончился. Раза три-четыре он приносил мне баланду, а однажды заявил: «Помочь и спасти тебя я не в состоянии. Гестаповцы следят и за мной». Больше я не видел ни Кутилина, ни Минского, ни Крыловича и его товарища.
В течение трёх месяцев я был оторван от внешнего мира. Француз, который, как и я, сидел за политику и агитацию, был из Бордо. Через Красный Крест он получал посылки и делился со мной почти поровну. В тяжёлый момент он меня очень поддержал. Впервые в жизни, находясь в камере гестапо, благодаря французу я познакомился с сухим молочным порошком. От нечего делать француз учил меня французскому языку и песням. Теперь я всё забыл, а ведь кое-что знал.
Жизнь (вернее, медленное тление) проходила однообразно. За три месяца нас ни разу на прогулку не выпустили. Кормили отвратительно: 70-100 граммов хлеба, 5-7 граммов маргарина, 5-7 граммов сахара и литр баланды из брюквы с крахмалом. Временами совсем не давали ни маргарина, ни сахара. Так прошло три месяца.
Вупперталь
Шёл 1945-й год. Внезапно меня из Дортмунда под конвоем отправили в Вупперталь на шарикоподшипниковый завод. Сразу на работу меня почему-то не послали, месяц я просидел в лагере при заводе. Это меня насторожило. Время было очень сложное, трудное и опасное для всех: с востока теснили советские войска, а с запада – союзные; немцам фактически деваться некуда. Поползли слухи, что немцы бомбят лагеря военнопленных, а в некоторых повально расстреливают заключённых.
Через несколько дней после моего прибытия под вечер явился ещё один армянин по фамилии Газарян. Но как только он показался, на него напало человек 20 пленных и начали его с криками и проклятьями избивать: «Бейте его, он полицай, предатель, кровопивец!» Я подумал: может, это ошибка, и хотел было вступиться за него, но на меня все гаркнули: «Уходи, пока цел, а то и тебе достанется!» Через некоторое время появился немецкий солдат и увёл Газаряна, иначе его бы до смерти избили. Позже я узнал, что он где-то действительно служил полицаем и издевался над пленными.
Обстановка была очень тревожная: мы находились, можно сказать, в прифронтовой полосе. И днём и ночью англо-американские войска бомбили и обстреливали город. Иногда снаряды попадали на территорию завода.
Через месяц меня направили в токарный цех. Там работали, в основном, девушки, вывезенные из Ростова-на-Дону. Меня представили мастеру. Он подвёл меня к станку, показал, как обтачивать подшипник, и я начал работать.
Несмотря на очень жесткую дисциплину, девчата подходили ко мне знакомиться. На второй день они окружили меня и начали расспрашивать, откуда я, кто я такой, какие новости и так далее. Когда они узнали, что я тоже из Ростова (я там жил в 1935-1938 годах), очень обрадовались, назвали меня земляком. Немецкие мастера это заметили и доложили руководству и конвоирам.
На третий день меня к работе не допустили. Я сидел в бараке без дела, наверное, недели две. Потом направили на работу. Я должен был возить на тачке подшипники по цехам для дальнейшей обработки. Работа для меня оказалась непосильной. Надо было нагруженную доверху подшипниками тачку с одним колесом удерживать в равновесии и толкать вперёд. А в руках силы нет. Тачка сильно наклонялась то в левую, то в правую сторону. Что делать? Время опасное. Завод наводнили эсэсовцы. В день по два, а иногда и по три раза они проводили летучку. Положение немцев становилось всё более критическим, безвыходным. Советские войска уже находились на территории Восточной Пруссии, а англо-американские войска полностью освободили Францию. С берегов Рейна дальнобойными орудиями обстреливали Вупперталь, Дюссельдорф и другие города. Участились бомбардировки. Ситуация осложнилась и для немцев, и для пленных. Нацисты, особенно эсэсовцы, не знали, что делать, хотя многие из них до конца войны и даже после войны оставались фанатиками.
Отказаться от работы, увиливать или относиться к ней с пренебрежением опасно – эсэсовцы расстреливали на месте или избивали до смерти. Я самолично решил замедлить работу: нарочно переворачивал тачку, а потом медленно собирал подшипники, погружал на тачку и отвозил по назначению. Немцы это заметили. Один эсэсовец подошёл ко мне и начал одновременно отчитывать и сечь плёткой. Но я опять остался жив.
С 7-го на 8-е марта в два часа ночи неожиданно в бараке зажёгся свет. Два конвоира подошли ко мне и с криком: «Aufstehen! Schnell, schnell!» («Встать! Быстрее, быстрее!») подняли меня. На верхних нарах напротив меня лежал бывший учитель математики с Украины. Он сразу открыл глаза.
– Куда тебя? – спросил он.
– Не знаю, может, на расстрел, – ответил я.
– Желаю благополучия и счастливого пути, наверное, больше не встретимся, – сказал товарищ на прощание.
Вокзал находился недалеко от завода. Мы сели на поезд и приехали в какой-то город. Было ещё темно. Меня отвели в городскую тюрьму. Но спать там не пришлось: дальнобойная артиллерия союзников обстреливала город. Снаряд угодил в тюрьму, один угол отвалился, но камеру, где я сидел, не задел. В одиннадцать часов дня те же конвоиры пришли за мной и повели на вокзал. Мы поехали дальше.



