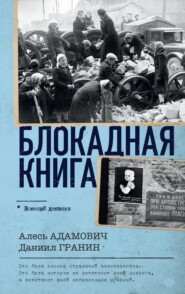
Полная версия:
Блокадная книга
Здесь, как во всякой подлинной литературе, есть вызов холодному чистоплюйству – лишь любовь к человеку, а значит, и чувство сострадания, которому ничего не страшно. Человек мучится от неспособности удержать в себе пищу, так дорого ему доставшуюся, и автор страдает за человека и за его бессилие перед той самой «ироничностью жизни», о которой страстно, с болью писал Достоевский в «Идиоте»…
«Голод», роман молодого Кнута Гамсуна, снова и снова как бы вопрошает: что в вас сильнее – человеческое сострадание, понимание другого человека или эстетская брезгливость?
Но куда большее испытание для этих чувств и для нашей способности смотреть не отворачиваясь на человека страдающего – блокадные воспоминания. Да, человек, агонизирующий от лютого голода, куда как «неэстетичен»! К этому нужно быть готовым, если мы собираемся, хотим услышать, увидеть, понять всю правду, а не всего лишь дольку ее.
Нельзя понять всей подлости, всех преступлений фашизма, «заславшего смерть» в город (по очень точному выражению Ольги Берггольц), если не говорить о массовом голоде, об этом «наемном убийце» гитлеровцев.
Ведь блокадный голод, так же как голод лагерный (и как освенцимский и прочие крематории), числился в арсенале главных средств, с помощью которых фашисты осуществляли свои планы истребления целых народов, «обезлюживания» целых стран.
Кстати, многие наши самые беспощадные и правдивые рассказчики, это медики – врачи, медицинские сестры, санитарки, те, кто по профессии своей милосерден. Они о человеке голодающем, о массовом голоде расскажут вам, ничего не приукрашивая, потому что в их глазах никакая болезнь (а дистрофия, тем более алиментарная, – тяжелейшая болезнь), никакие проявления болезни человека не унижают. Например, одна женщина-врач рассказала о себе, что ходила по улицам «всегда мокрая», как ребенок: голод сожрал все мышцы, одни кости и кожа. «Я ходить не могла, но я работала» (Ершова Мария Михайловна).
Врач Г. А. Самоварова вспоминает:
«Съели всех кошек, съели всех собак, какие были. Умирали сначала мужчины, потому что мужчины мускулистые и у них мало жира. У женщин, маленьких даже, жировой подкладки больше. Но и женщины тоже умирали, хотя они все-таки были более стойкими. Люди превращались в каких-то, знаете ли, стариков, потому что уничтожался жировой слой, и, значит, все мышцы были видны и сосуды тоже. И все такие дряблые-дряблые были».
Врач Кондратьева Анна Александровна:
«Эти страшные лица, эти неподвижные глаза, с обтянутыми носами, при отсутствии мимики».
Но вначале даже возможно обострение самых разных чувств, эмоций, фантазий. К чему, как известно, сознательно стремились когда-то жаждущие «видений» монастырские затворники и «пустынники».
Алиментарная, третьей степени, дистрофия – это не только скелет без мышц (даже сидеть человеку больно), это и пожираемый желудком мозг.
Кого настигал голод, корчились и мучились так же, как тяжелораненые…
«Лучше держались девочки, а мальчик двенадцати лет, Толя, очень страдал, уже недоедал изрядно, иногда ложился на скрипучую кроватенку и все время качался, чтобы чем-то заглушить чувство голода, качался до тех пор, пока мать на него не накричит, но опять потом начинал качаться. Потом, через какое-то время, я узнала, что он умер…» (М. М. Хохлова).
Да, голод в литературе «старой», классической, и массовый голод (к тому же, как во времена фашизма, организованный, направленный) – явления разного уровня и смысла.
Массовый бывал и прежде, но рассказывали о нем подробно, всерьез, пожалуй, лишь летописи.
«А коли вже была весна в року 1602, тот наход людей множество почали мерти; по пятеру, по тридцати у яму. Хворых, голодных, пухлых многое множество, – страх видети гневу Божого. А так при великих местах человека по едному у яму ховали: священники проводили.
Там же, которые ишли на низ, тые вси там померли, мало се застало. А так мерли одны при местах, на вулицах, по дорогах, по лесах, на пустыни, при роспутиях, по пустых избах, по гумнах померли. Отец сына, сын отца, матка детки, детки матку, муж жену, жена мужа, покинувши детки свои, розно по местах, по селах разышлися. Один другого покидали, не ведаючи один о другом. Мало не вси померли.
А коли тот наход у ворот, албо в дому у кого стоячи хлеба просили, отец з сыном, сын со отцом, матка з дочкою, дочка з маткою, брат з братом, сестра з сестрою, муж з жоною тыми словы мовили силне, слезне, горко мовили так: „Матухно, залулюхно, утухно, панюшко, сподариня, солнце, месец, звездухно, дай крошку хлеба!“ Тут же подле ворот будет стояти з раня до обеда и до полудня, так то просячи. Там же другий под плотом и умрет.
… А коли варива просил, тые слова мовили: „Сподариня, перепелочко, зорухно, зернетко, солнушко, дай ложечку дитятку варивца сырого!“»
Так сообщал о массовом голоде белорусский летописец из деревни Баркулабово[5].
В книге «География голода» бразильский ученый, председатель Исполнительного комитета Организации по вопросам продовольствия и сельского хозяйства при ООН Жозуа де Кастро писал:
«На каждый печатный труд по проблемам голода имеется свыше тысячи трудов по проблемам войны. Соотношение более чем тысяча к одному! В то же время… от голода погибло гораздо больше людей, чем во время всех эпидемий, вместе взятых. Причиненный ущерб значительнее по числу жертв и гораздо серьезнее по своим биологическим и социальным последствиям».
И дальше:
«Западная наука и техника, одержавшие блестящую победу над силами природы, не вели почти никакой борьбы с голодом. Ученые подчеркнуто хранили молчание об условиях жизни голодающих масс во всем мире. Сознательно или бессознательно, они стали соучастниками заговора молчания. Голод как явление социальное не был объектом их изучения»[6].
Современная литература, документальная и художественная, о фашистских концлагерях, о ленинградской блокаде, литература о Второй мировой войне отразила и продолжает отражать жестокую правду XX века: голод, массовый голод вошел в арсенал, числится в арсенале недавних и потенциальных убийц народов как важнейшее оружие[7].
Не писать сегодня об этом «оружии», забыть – то же самое, что «забыть» о запасах, складах атомной смерти.
Психологически разница между массовым, «блокадным» голодом и тем, что «у Гамсуна», принципиальная. Хотя и писатель повествует о том, что хорошо знает, испытал на себе, но испытал он это не в условиях массового голода. Тут напрашивается аналогия с журналистской памятью о солдатских окопах. Журналист побывал на передовой, пережил яростный обстрел, его могли и убить, так же как и солдата. Разница в их переживаниях, их восприятии передовой тем не менее огромная, даже принципиальная. Журналист приехал, пришел, он сидит в окопе, но он знает, что может и уйти отсюда. (Даже если и не уходит, не собирается уходить.) Солдат знает, что он уйти сам, по собственному желанию, не может.
И в этом разница – великая.
Вот такая разница и между «голодом» героя Кнута Гамсуна и «голодом» ленинградцев-блокадников. Блокадникам от голода, смертельного, невыносимого, «уйти» большей частью некуда было: он был кругом, на всем прижатом к заливу, к озеру, прошитом пулями, снарядами пространстве города, он блокировал человека наглухо.
Засланный в город
Голод и триста лет назад и ныне – тот же. И мучения те же, и ощущения. Но к голоду блокады было особое отношение – это был враг, засланный фашизмом, это был противник, мешающий работать, воевать, это была война.
Один из авторов книги воевал осень и зиму, вплоть до весны сорок второго года, под Пушкином. Он сидел в окопах, и каждую ночь позади, за спиной, полыхали отсветы ленинградских пожаров, багровые их пятна дырявили звездную темноту. Впереди взлетали вражеские ракеты, а позади горел город. Днем силуэт города подробно и четко вырисовывался на ясном небе. Многочисленные трубы не дымили, и воздух над городом был чист, лишь в нескольких местах поднимались толстые копотные столбы дыма от пожарищ. В одни и те же часы над передовой проплывали фашистские бомбардировщики, они летели бомбить, а к вечеру, сменяя их, с мягким шелестом, невидимые, неслись в город тяжелые снаряды.
В его батальоне были случаи дистрофии и голодной отечности, потому что солдатский паек был скудным, пусть не таким, как у горожан, но очень скудным, урезанным. Но война с этим не считалась, надо было стоять на посту, ходить в разведку, разгребать окопы от снега, таскать снаряды, патроны, чистить оружие. Кроме всего прочего, война – это еще и тяжелый физический труд, где нет ни выходных, ни перерывов.
Немцы не жалели ни мин, ни снарядов. Были дни, когда на участке батальона оставалось несколько десятков бойцов. Немецкие окопы у железной дороги были от наших всего метрах в пятидесяти. Насадив на штыки булки, немцы поднимали их над бруствером и предлагали переходить к ним, они обещали сытную кормежку и спокойную жизнь в плену. Они доказывали, что солдаты Ленинградского фронта обречены на гибель и если не подохнут от голода, то будут убиты. Не так-то легко было это слушать. Однако за всю зиму из его батальона не было случая перехода к немцам.
И хотя он прошел всю эту долгую войну, где были и наступление, и победы, и штурмы, и разные фронты, и все это не только видел, но и прожил, он затрудняется объяснить, каким образом голодным, промерзшим, ослабевшим воинам Ленинградского фронта удалось защитить, отстоять город, продержаться в обороне под городом в мелких, простреливаемых окопах на открытых низинах, и мало того – непрерывно атаковать, наседать, продвигаться на отдельных участках, не позволяя снять немецкому командованию и перебросить дивизии из-под Ленинграда на другие фронты. Теперь, спустя столько лет, непонятным кажется и то, почему, каким образом в декабре, в самое тяжкое время, нашим солдатам стало ясно, что немцам в Ленинград не пробиться, не прорваться.
Ленинградцам надо было ходить на завод, работать, дежурить на крышах, спасать оборудование, дома, своих близких – детей, отцов, мужей, жен, обеспечивать фронт, ухаживать за ранеными, тушить пожары, добывать топливо, носить воду, возить продовольствие, снаряды, строить доты, маскировать здания.
Вале Мороз было в блокаду пятнадцать лет. Отец ее ушел в народное ополчение. Старшая сестра тоже хотела на фронт, ей это не удалось, она устроилась в военный госпиталь. В декабре 1941 года умер отец, через два месяца сестра, в конце марта мать. Валя осталась одна. Ей помогли устроиться на завод учеником токаря. Она делала детали для снарядных стабилизаторов. Она работала, всю блокаду работала.
Надо понять слово «работала» в его тогдашнем значении. Каждое движение происходило замедленно. Медленно поднимались руки, медленно шевелились пальцы. Никто не бегал, ходили медленно, с трудом поднимали ногу. Сегодня здоровому, сытому молодому организму невозможно представить такое бессилие, такую походку.
«Примерно такое ощущение, что ногу не поднять. Понимаете ли? Вот такое ощущение, когда на какую-то ступеньку ногу надо поставить, а она ватная. Вот так во сне бывает: ты вроде готов побежать, а у тебя ноги не бегут. Или ты хочешь кричать – нет голоса.
Я помню чувство, когда нужно было переставлять ноги (это в то время, когда мама еще была жива, когда надо было выходить), когда надо было на ступеньку поставить, в какое-то мгновение нога у тебя не срабатывает, она тебе не подчиняется, ты можешь упасть. Но потом все-таки хватило сил, как-то поднималась».
Чтобы хоть как-то оценить труд ленинградцев, находившихся в подобном состоянии, чтобы постигнуть, что значило отремонтировать орудие, подняться на чердак для дежурства, что значило расчистить завал, для этого надо прежде всего понять протяженность и силу блокадного голода, протяженность его не только вширь, но и как бы в глубь человека. Надо понять, как сказывался голод на поведении человека, каким испытаниям подвергались и психика, и душа, и вера, причем не вообще человека, а конкретного, этого, потому что у каждого было свое, своя схватка с голодом, и протекала она по-разному. Только постигнув голод, представив его силу, изучив его масштабы, его действие, можно почувствовать сделанное ленинградцами. Без этого не понять истинной величины мужества защитников города.
Подробности голода проступают в рассказах порой неожиданно, из случайно оброненных пронзительных фраз, не сразу их можно и осознать.
Тамара Александровна Халтунен работала в больнице для дистрофиков, там, когда больного в ванну опускали, вспоминает она, больной криком кричал: «…голые кости, он не может ни сидеть, ни лежать, у него нет жира».
«– Три женщины было и я – девочка. Я самая молодая и сильная считалась. Я вроде ничего была, – начала свой рассказ врач-психиатр Майя Яновна Бабич.
– А сколько вам тогда было?
– Мне было тогда шестнадцать лет. Я брала их карточки, ходила в очередь, чтобы взять на всех хлеб, каждому отдельно. Я себя ловила на мысли: хоть бы маленький довесочек дали. Когда давали, я иногда от их порций довесочек съедала. Потом приходила, отдавала каждому его порцию. А эта крошечка мне как бы за работу. Иногда стоишь, стоишь – и ничего нет, потому что хлеба не было. Когда я приносила хлеба, они лежали на диванах, на кроватях в этой комнате. Были какие-то тулупы; все в валенках, под ватными одеялами. Все лежали. Коптилка стояла, горело какое-то масло, мерцало. И „буржуйка“ стояла. Рядом с „буржуйкой“ ведро с водой, которая к ночи замерзала до дна. А потом вставали и топориком откалывали кусочки льда, чтобы вскипятить воду. По очереди вставали. Пили бурду.
…Это было в начале января. Приходит на квартиру ко мне мой школьный приятель Толя. Это такой поэт был, витал в облаках, говорил о проблеме „быть или не быть?“. В школе он был таким мальчиком с возвышенными интересами. И вот приходит – лицо серо-зеленое такое. Глаза совсем вытаращенные, и говорит: „У тебя не сохранился твой кот?“ А у нас кот был. Я говорю: „Ну что ты! А что?“ – „А мы хотели бы его съесть!“ Мама и бабушка у него лежали. И вот он ушел. Он был такой ужасный, такой грязный, тощий. Ушел качаясь! А только год тому назад было совершенно по-другому. Собирались, о высоких материях разговаривали. И вдруг – кошка! Я хотела через неделю-другую пойти к нему (на другой улице они жили). Я сразу не пошла. Самое страшное было выйти из дому, бессознательно стремились оберегать себя от таких картин. Это как-то интуитивно было. Но я пошла все-таки в этот дом. Вот иду на второй этаж – двери не закрываются, входи куда угодно, в любую комнату заходи, бери что угодно. Это был шикарный дом – добротный, красивый. Дом одного бывшего миллионера. В мирное время на лестницах были ковры. Он жил в комнате в коммунальной квартире. Я захожу к нему в комнату. Темно, так чего-то брезжит. И они все трое лежат мертвые: бабушка, мать и он. В комнате страшная грязища. Холод. „Буржуйку“ топить, видно, сил не было. И все умерли. Мне было страшно. Я в другие комнаты не вошла и пошла обратно».
Блокадную квартиру нельзя изобразить ни в одном музее, ни в каком макете или панораме, так же как нельзя изобразить мороз, тоску, голод…
Сами блокадники, вспоминая, отмечают разбитые окна, распиленную на дрова мебель – наиболее резкое, необычное. Но тогда по-настоящему вид квартиры поражал лишь детей и приезжих, пришедших с фронта. Как это было, например, с Владимиром Яковлевичем Александровым:
«– Вы стучите долго-долго – ничего не слышно. И у вас уже полное впечатление, что там все умерли. Потом начинается какое-то шарканье, открывается дверь. В квартире, где температура равна температуре окружающей среды, появляется замотанное бог знает во что существо. Вы вручаете ему пакетик с какими-нибудь сухарями, галетами или чем-нибудь еще. И что поражало? Отсутствие эмоционального всплеска.
– И даже если продукты?
– Даже продукты. Ведь у многих голодающих уже была атрофия аппетита».
…Там, на фронте, думали, что эти ложки пшена, сухари, которые сберегали, откладывали от своего скудного пайка, будут встречены с восторгом, а их принимали порой вот так, уже безразлично…
В конце войны Алексея Дмитриевича Беззубова откомандировали в Германию. Была организована Советская военная администрация в Германии (СВАГ), и Беззубова как широкообразованного пищевика, с большим опытом работы, назначили начальником научно-технического отдела пищевой промышленности. Ему пришлось ведать в Германии лабораториями университетов, научно-исследовательскими институтами, проектными организациями, поэтому неудивительно, что судьба свела его с таким крупным немецким специалистом, как профессор Цигельмайер. Рано или поздно это должно было произойти. Цигельмайер считался одним из ведущих ученых в области питания. Раньше он руководил Мюнхенским пищевым институтом. Итак, они встретились, разговорились, знатоки, казалось бы, одной из самых мирных наук. Что может быть более добрым, благородным, заботливым, чем наука о питании?
И тут по ходу беседы выясняется, что профессор Цигельмайер во время войны занимал высокую должность – заместитель интенданта гитлеровской армии. Поскольку специалист он был выдающийся, его привлекли курировать важнейшую для командования проблему – блокированного Ленинграда. Прямое наступление на город захлебнулось. Наши войска плотно держали изнутри блокадное кольцо, не давая нигде его переступить. Вот тогда гитлеровскому генеральному штабу и потребовались консультации Цигельмайера. Он обдумывал и советовал, что следует делать, чтобы скорее уморить голодом Ленинград. Именно это имел в виду Геббельс, когда, немного кривя душой, записывал в своем дневнике 10 сентября 1941 года: «Мы и в дальнейшем не будем утруждать себя требованиями капитуляции Ленинграда. Он должен быть уничтожен почти научно обоснованным методом».
Цигельмайер вычислял, сколько может продлиться блокада при существующем рационе, когда люди начнут умирать, как будет происходить умирание, в какие сроки они все вымрут.
«Цигельмайер рассказывал мне, что они точно знали, сколько у нас осталось продовольствия, знали, сколько людей в Ленинграде. Правда, он сделал ошибку, я потом ему сказал, что у нас положение было еще тяжелее: „Вы не учли, сколько с армией пришло населения из Ленинградской, Новгородской и других областей“. Цигельмайер изумлялся и все меня спрашивал: „Как же вы выдержали?! Как вы выдержали?! Как вы могли? Это совершенно невозможно! Я писал справку, что люди на таком пайке физически не могут жить. И поэтому не следует рисковать немецкими солдатами. Ленинградцы сами умрут, только не надо выпускать ни одного человека через фронт. Пускай их останется там больше, тогда они скорее умрут, и мы войдем в город совершенно свободно, не потеряем ни одного немецкого солдата“. Потом он говорил: „Я все-таки старый пищевик. Я не понимаю, что за чудо у вас там произошло?“»
Алексей Дмитриевич мог бы ему многое рассказать про свою работу. Витаминному институту, где он заведовал химико-технологическим отделением, горисполком поручил руководить изготовлением хвойной настойки, чтобы как-то предупредить авитаминоз среди населения. Решение было принято 18 ноября 1941 года. Подняты были даже архивные материалы двухвековой давности, когда Россия экспортировала хвою как лекарство от цинги. Нашли документы о том, как сосновой хвоей лечили цингу во время войны со шведами. Вместе со своими сотрудниками А. Д. Беззубов составил инструкцию, как делать антицинготную хвойную настойку в промышленных условиях, как делать ее дома, как витаминизировать этой настойкой продукты. Как раз когда Цигельмайер приступил к изучению данных ему генштабом сведений, Беззубов учил, как измельчать хвойные иглы, как проводить их экстракцию, как фильтровать, расфасовывать настой. Тут же он изучал, как использовать в госпиталях и больницах проросший горох.
Спустя месяц, во второй половине декабря, Беззубов и оставшиеся в живых сотрудники института отправились проверять, как работают установки по изготовлению хвойных настоев. Они ходили по воинским частям, госпиталям, детским учреждениям, стационарам. На сорока шести фабриках работали эти установки и в шести научных учреждениях.
Для борьбы с обморожением они искали способы получения каротина.
В начале января 1942 года в городе начались заболевания пеллагрой. Надо было раздобыть никотиновую кислоту – витамин PP. На чердаках и в вентиляционных трубах табачных фабрик собирали табачную пыль. Из нее извлекали никотиновую кислоту.
Он мог бы рассказать Цигельмайеру, как учились лечить алиментарную дистрофию. Наиболее эффективными оказались препараты белковые и витаминные. Полноценным белком были казеин[8], дрожжи, альбумин. Беззубов помогал организовать доставку казеина в Ленинград. А еще раньше он сумел использовать остатки горелого сахара на Бадаевских складах. Знаменитый этот сахар, растопленный огнем, залитый водой пожарных брандспойтов, смешанный с землей, песком, – о нем столько нам рассказывали! – вот его-то извлекли десятки тонн. Это были глыбы черной сладкой земли; их Беззубов придумал промывать сверху водой и перерабатывать на кондитерской фабрике. До войны он работал главным инженером этой фабрики. Из черного этого творога, который долго еще продолжали копать ленинградцы на горелом пустыре, стали производить леденцовую карамель. По вкусу карамель напоминала известные дореволюционные леденцы – ландрин. Была такая популярная в России карамель с горчинкой.
Его отдел изучал, сколько каротина и витаминов содержат одуванчики, крапива, лебеда, что из них можно приготовлять…
Ничего об этом Цигельмайер не знал. Да, собственно, вряд ли такого рода мелочи он принял бы во внимание. Будучи специалистом примерно того же профиля, что и Беззубов, он подсчитывал, сколько суток может просуществовать средний ленинградец без белков и жиров. Он вел глобальные подсчеты. Перед ним была задача, эксперимент, огромный эксперимент, поставленный на миллионах, единственный в своем роде. Чем больше населения, то есть испытуемых, тем меньше сказываются всякие аномалии, тем точнее должен быть результат.
Энергия не может возникать из ничего. Сто лет назад великий земляк этого Цигельмайера, врач Роберт Майер, вывел закон сохранения энергии. И Алексей Беззубов и Цигельмайер изучали, как человеческий организм подчиняется этому закону, изучали для совершенно противоположных целей.
Чтобы обеспечить работу сердца, легких, всех органов, для этого необходимо снабжать организм топливом. Цигельмайер четко знал: тепло не может возникать из духа, из воли, из убеждений; как бы ни хотел человек согреться, организму нужны для этого не мысли, не вера, а калории, нужна пища, минимальное количество которой исчисляется двумя тысячами калорий в сутки.
Этих калорий у ленинградцев не было.
Не видя ожидаемого результата, Цигельмайер на всякий случай вводил еще всякие коэффициенты. Однако Ленинград по-прежнему держался. Цигельмайер сделал еще некоторые последние допущения, ему надо было спасти законы энергетики.
Жители этого города должны, обязаны были умереть, а они продолжали жить, они двигались, они даже работали, нарушая незыблемые законы науки.
Рацион ленинградцев был известен, температура воздуха, качество хлеба, – все, все было подсчитано, учтено: 125 граммов, 150 граммов, даже 250 граммов при отсутствии каких-либо других продуктов не могли обеспечить физиологического существования организма в условиях такого холода.
Цигельмайер не понимал, в чем он просчитался. Он не мог объяснить генеральному штабу, почему его расчеты не оправдываются.
Теперь он расспрашивал об этом господина советского профессора. Но и Алексей Дмитриевич не мог до конца объяснить этого феномена. Он разговаривал с Цигельмайером, ученым – специалистом по питанию, который «консультировал» голод, – вполне учтиво, придушив свои чувства. Он говорил о неучтенной вере в победу, о духовных резервах организма ленинградцев.
Но, откровенно говоря, ему и самому было не все ясно. Он все пережил, все видел сам, и тем не менее при всем огромном опыте не до конца понимал, откуда брались силы у людей…
…Этого убийцу-«невидимку» вначале не считали самым опасным. Убивали – куда заметнее для всех – другие: бомбы, снаряды. Да и вообще август-сентябрь-октябрь были и без того тревожными до крайности: ожидался со дня на день новый штурм. Враг у ворот! – это кричало в душе ленинградцев, заглушая другие тревоги.
В дом к вам приходят моряки, солдаты и, отодвинув подальше детскую кроватку, закладывают кирпичом окно, делая из него амбразуру, – и вы им помогаете! Танки врага – в четырех километрах от Кировского завода…
О союзнике врага[9], который через месяц-полтора станет самым главным и страшным убийцей ленинградцев, – о голоде мысль хотя и беспокоила, тоскливо сосала, но все еще не казалась столь опасной.
Вот рассказ Галины Иосифовны Петровой (набережная Фонтанки, 39):



