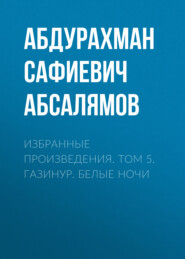
Полная версия:
Избранные произведения. Том 5
– Спасибо, Ханафи, спасибо, родной! – старик немного успокоился. – Сам небось знаешь, как больно бьёт напрасный попрёк. Недаром говорят, что холодное слово леденит сердце. Хорошо, пока обходится без пожаров, а случись хоть раз такое горе – на всю жизнь в памяти останется. Однажды у нас в Сугышлы вспыхнул пожар, так половины деревни как не бывало.
Перед Гафиатуллой встала страшная картина давнего прошлого. Он долго сидел задумавшись.
Из правления Гафиатулла собирался прямёхонько домой, но, выйдя, подумал, что Газинур, пожалуй, где-нибудь возле конюшни, и свернул в сторону конного двора. Просунув голову в дверь конюшни, он позвал сипловатым голосом:
– Газинур, сынок, ты здесь? У матери давно уж, верно, самовар вскипел. Пойдём перекусим.
Газинур посыпал песком стойла. Поставив железную лопату в угол, он направился к выходу. За ним ковылял Сабир-бабай. Малахай у него сдвинут задом наперёд.
– Сабир, – улыбнулся Гафиатулла, – мельница твоя не в ту сторону повернулась.
– Стареем, Гафиатулла. – И Сабир-бабай поправил шапку.
Старики пожелали друг другу доброго утра. Приставив руку ко лбу, Сабир-бабай глянул в белёсое, без единого облачка небо. – Похоже, опять будет сильно парить сегодня.
– Да, жди после обеда дождя, – поддержал его Гафиатулла. – Вишь, вороны стаями летают. К дождю это. Да и поясница у меня всю ночь ныла. Я и Ханафи сейчас посоветовал: «Посылай, говорю, побольше людей на сенокос. Надо убрать, пока сухо».
– Ты не видел брата, отец? – спросил Газинур. – Мать наказывала позвать его.
Женившись, Мисбах отделился от отца. Но мужчины частенько, по старой привычке, вместе пили утренний и вечерний чай. Тёте Шамсинур было как-то не по себе, когда Мисбаха не было с ними и одна сторона накрытого стола пустовала. Она очень любила своего первенца, хотя уже имела второго сына – Халика.
– Мисбахетдин спозаранку на покосе, – ответил Гафиатулла-бабай и, заложив руки за спину, направился к дому, что-то тихонько бормоча себе под нос. Он уже совсем успокоился. Газинур шагал рядом.
Дойдя до своего дома, они вошли во двор, огороженный жердями. Мимоходом старый Гафиатулла поправил подпорку у яблони, поднял и положил на завалинку обронённое полено. Пока Газинур, быстрым, энергичным жестом накреняя чугунный кумган, умывался, Гафиатулла неторопливо снял пиджак, повесил на гвоздь шапку, обеими руками надел на голову снявшуюся вместе с шапкой залоснённую тюбетейку и только тогда подошёл к кумгану.
На столе, покрытом красной в клетку скатертью, давно уже шумел начищенный до блеска медный самовар. Тётя Шамсинур хлопотливо бегала от печки к столу.
– Что так запоздали? – спросила она.
– К Ханафи заходил, – сказал Гафиатулла, усаживаясь в переднем углу.
Газинур время от времени поглядывал в окошко. За противоположным порядком домов поднимается гора. Над нею, едва не задевая вершины, плывёт белое, совсем как фарфоровое, облачко. Теперь уже при виде несущихся облаков мечты Газинура далеко не столь наивны, как в детские годы. «Эх, – думает он, присыпая солью горячую картофелину и аппетитно отправляя её в рот вместе с хлебом и айраном, – вот если бы по этому склону посадить малину, чёрную смородину… А в той впадине меж двух гор разбить яблоневый сад… Там никогда не бывает ветра, – самое подходящее для яблонь место». А у подножия горы он выстроил бы школу. Как в Бугульме – с широкими светлыми окнами, под железной крышей…
Вчера по дороге в Бугульму Гали-абзы говорил: «Пора уже нам крепко подумать о ветряном двигателе. Поить столько скота, черпая воду вёдрами из колодца, – куда это годится! А если поставить на вершине вон той горы ветряной двигатель, вода сама потечёт по трубе в хлева и конюшни».
Эх, поскорее бы поставить этот ветряной двигатель!
Ещё пили чай, когда в дверь влетел младший брат Газинура Халик, двенадцатилетний мальчик с густо покрытым веснушками лицом и весёлыми, живыми, как у Газинура, глазами.
– Газинур-абы, – с трудом переводя дыхание, проговорил он, – тебя вызывают в правление… Ханафи-абзы сказал: пусть придёт немедленно.
«Салим…» – мелькнуло у Газинура.
– Опять спешное дело! – заворчала тётя Шамсинур. – Поесть спокойно не дадут. Газинур да Газинур… Будто весь колхоз на одном Газинуре держится. Не торопись, сынок, поешь хорошенько. Всему своё время. Там тебя никто не напоит. Подождут, небось не горит…
– И чего болтаешь пустое! – с упрёком взглянул на жену Гафиатулла. – Не ровен час…
Халик, который уже успел набить рот картошкой, едва ворочая языком, спешил поделиться новостями.
– Около конюшни народу тьма!.. Смотрят Маймула. Ханафи-абы сердитый-пресердитый. Ветфельдшера нашего греет, будто сковороду на огне. «Если, говорит, в три дня не вылечишь мне коня, отдам под суд». Сабир-бабаю тоже досталось…
– Где сейчас Ханафи-абы? На конном дворе? – перебил его брат.
– Нет, поднялся к строительству.
Поблагодарив мать, Газинур вышел из дома.
– Альфиякай[10], ты из правления? Ханафи-абы там? – крикнул Газинур, увидев посредине улицы торопившуюся куда-то Альфию.
– Ушёл на строительство, Газинур, – сказала она приветливо. – И тебе велел явиться туда же.
Они пошли вместе.
– Что, послать меня куда-нибудь собирается?
– Нет, заболел Степан, распиловщик, ну и решили пока на его место тебя поставить.
– Почему меня? Почему не Хашима? – шутливо упрекнул Газинур. – Ага, краснеешь, Альфия! Конечно, если любишь Хашима, что тебе до Газинура? Не всё ли равно, куда его поставят? – весело трунил он над девушкой.
Альфия краснела, оправдывалась.
Колхоз строил в этом году два больших амбара и три овощехранилища: колхозные урожаи росли и уже не умещались в старых амбарах и погребах. Кроме того, ещё в прошлом году колхоз заложил маслобойню. Все эти стройки, вместе взятые, и стали называть одним словом, вошедшим в крестьянский обиход с началом коллективизации, – «строительство». Работу на строительстве почитали за честь, и Газинуру было приятно новое поручение. Два овощехранилища были почти готовы, осталось только засыпать землёй крыши. Эту работу делали женщины. Мужчины – кто копал яму для третьего овощехранилища, кто заготавливал стойки, доски, стропила.
Газинур спустился в овощехранилище – длинное и просторное помещение.
– Ну, чем не подземный дворец?! – покручивая чёрный ус, сказал ему Ханафи. – Видал, каков у нас размах, Газинур?
– Да, Ханафи-абы, это вам не подпол и даже не погреб моей матушки.
Бровастый, черноусый, с виду суровый Ханафи громко расхохотался. Смеялся этот высокий, плотный, но очень подвижный человек в полувоенном костюме так искренне, и столько в этом смехе было неподдельной радости жизни, что нельзя было не отозваться на него. Так смеются обычно люди широкой натуры, прочно уверенные не только в сегодняшнем, но и в завтрашнем своём дне.
Ханафи выбрали председателем после отъезда Гали-абзы в Бугульму. Он тогда только что вернулся из Красной Армии. Ханафи и до сих пор не оставил своих армейских привычек. В разговоре он любил вставлять слова военного обихода, и всем это даже нравилось. Изредка, случалось, позволял себе и покомандовать; в такие моменты он круто обрывал всякого, кто решался возражать ему. «Сказал – кончено!» Но вообще-то он умел подойти к людям: старшим оказывал почёт и уважение, не важничал с равными себе, молодёжь тянулась к нему.
– Пора, пора уже, Газинур, забывать нам старые подполы да снеговые погреба. Обожди, скоро построим и холодильники настоящие. А теперь слушай боевое задание: немедленно отправишься на гумно и, пока не поправится Степан, будешь помогать пилить доски. Выполняй!
Шагая на гумно, Газинур невольно залюбовался двумя просторными, из хорошего соснового леса, амбарами, что строились на холме. «Покроем крышей – будут красоваться не хуже каменных».
Из-под сверкающих на солнце топоров летит белая щепа. С лёгким звоном врезаются в дерево ручные пилы. Слышатся энергичные голоса колхозников, подкатывающих брёвна: «Раз, два – взяли!» Один конец сруба оседлал Гарафи-абзы в нахлобученной на самый лоб войлочной шляпе, на другом устроился верхом дядя Дмитрий. Рыжая длинная борода его кажется под солнцем огненной.
На строительстве вместе со своими плотниками работают мастера из соседних колхозов, русских и чувашских. Газинур всех их хорошо знал, а с распиловщиком Степаном и его напарником, чувашем Пашкой, светловолосым, курчавым, широкогрудым парнем, даже сдружился.
– Удачи в работе, Гарафи-абзы! – стараясь перекрыть царивший вокруг шум, крикнул Газинур. – Дяде Дмитрию салям[11]! Ой, ой, как горячо взялись! Вчера только фундамент закладывали, а сегодня, гляжу, уж до балок дошли.
– Когда работаешь в паре с Дмитрием Ивановичем, зевать не приходится, – рассмеялся Гарафи, бросив дружеский взгляд на сидевшего напротив рыжебородого плотника. – Дядя Дмитрий не любит работать шаляй-валяй.
– На то и дело, чтобы делать его как следует, – в тон ему ответил старый мастер. – Не в одном ведь «Красногвардейце» амбары ставят. Нас ждут и в «Заре», и в «Прогрессе», и в «Тигез басу».
Пашка сидел в стороне и точил свою длинную пилу. С ним Газинур поздоровался за руку.
– Степан заболел, – сказал Пашка, – работа, понимаешь, задерживается. А завтра начинают крыть крышу. Доски нужны.
– Не бойся, друг Пашка, за нами дело не станет, – хлопнул друга по плечу Газинур, сбросил пиджак и, ловко подтянувшись на руках, вскочил на лежащее на высоких козлах толстенное бревно.
Бревно уже один раз было пропилено вдоль. По второму разу была пройдена пока половина.
Газинуру и раньше приходилось иногда заниматься этим делом, он знал толк в распиловке. Да и отец его в молодости работал распиловщиком, он поведал сыну немало секретов своего ремесла. Поэтому-то, когда Степан заболел, Пашка сам попросил председателя дать ему в напарники Газинура.
Ухватившись обеими руками за отполированную от долгого употребления рукоятку пилы, Газинур радостно огляделся вокруг. Ощущение высоты действовало на него возбуждающе. Видимо, это осталось у него с детских лет: скирду ли ставили, стог ли метали, или крышу крыли – Газинур всегда работал наверху. Наверху чувствуешь простор, мир будто раздвигается, грудь дышит вольнее, весь внутренне как-то подтягиваешься.
Прямо против него, убегая к темнеющему вдали лесу, далеко простираются широкие поля родного колхоза. Чуть колышутся желтеющие хлеба. Перегоняя одна другую, волны катятся всё дальше, дальше, на их место тут же набегают новые. По дороге, что едва заметной лентой тянется меж хлебов, кто-то едет. Ни лошади, ни телеги не видно, мелькает одна дуга. Правее, на скошенном лугу, ходит стадо. Белый племенной бык взобрался на бугор посреди луга и стоит недвижимый, будто высеченный из мрамора. Его могучая грудь почти касается земли, рога – косая сажень.
– Начнём, друг Пашка, – говорит Газинур, сверкнув глазами.
Зазвенев, пила легко скользнула вниз. Из-под отточенных зубьев посыпалась на землю жёлтая «крупа».
В такт то взлетающей, то опускающейся вниз пиле мерно, ритмично заколыхались и широкие поля, и тёмно-зелёный лес, и этот белый, кажущийся огромным бык на бугре…
V
По деревне разнеслась тревожная весть: в табуне заболели кони. Утром прискакал на взмыленном жеребце Газзан и, не слезая с седла, забарабанил в ворота ветеринарного фельдшера Салманова. Обычно медлительный и невозмутимый, Газзан стучал так неистово, что не только Салим, а и соседи выбежали узнать, что случилось.
В нескольких словах Газзан рассказал Салиму о происшедшем несчастье и поскакал к правлению.
Председатель колхоза Ханафи, увидев скачущего, торопливо распахнул окно.
– Что случилось, Газизджан? – крикнул он.
И пока медлительный Газзан собирался ответить, тревожно подумал: «Волки…»
Газзан осадил коня и проговорил, с трудом переводя дыхание:
– Беда, Ханафи-абзы… Лошади заболели…
Широкие чёрные брови Ханафи сошлись на переносье; усы сердито задвигались.
– Когда? Чем? Сколько? – бросал он отрывисто.
Газзан, вытирая рукавом выцветшей рубахи пот со лба, ответил:
– Три… Утром обнаружили. Смотрим, стоят измученные, потные, будто их леший всю ночь гонял. Головы опустили…
– Кто был с лошадьми?
– Я, Гапсаттар-абзы… ну, и…
Не сводя с Газзана глаз, Ханафи ждал, кто же ещё.
А Газзан чего-то мялся.
– Да говори ты толком: кто третий был?! – нетерпеливо крикнул Ханафи.
– Третий… Газинур. Но он… – опять запнулся Газзан и ни с того ни с сего сильно дёрнул коня за повод.
– Выкинул что-нибудь Газинур? Да? Ночью к Миннури своей убежал, что ли? – догадался, наконец, Ханафи.
– Спрашивайте у него самого, – мрачно буркнул Газзан. – Я за другого не ответчик.
– Ну ладно. Салима предупредил?
– Сейчас от него.
Ханафи уточнил место, где пасутся кони, велел немедленно отделить больных лошадей от здоровых и скомандовал Газзану:
– Живо обратно к табуну. Я тоже скоро подъеду.
Газзан хлестнул плетью коня и поскакал. Ханафи торопливо собрал свои бумаги, сунул их в ящик и, обратившись к Альфие, тревожно поглядывавшей в его сторону, сказал:
– Позови-ка деда Галяка. Пусть сейчас же идёт на конный двор.
Альфия, позвякивая вплетёнными в косы монетами, выбежала из правления.
Дав себе волю, Ханафи бухнул кулаком по столу. Этого ещё не хватало… Перед самой уборкой!
Запряжённый в лёгкий тарантас Чаптар вынес Ханафи и деда Галяка на Спасскую горку. По правую сторону дороги мирно паслось колхозное стадо, по левую – высились новые амбары. На крыше одного из них дружно стучали молотками плотники. Будь другое время, Ханафи обязательно остановился бы возле них, хоть на минутку, а сейчас только проводил их взглядом.
Умный Чаптар, хорошо изучивший характер Ханафи, по тому, как тот взял в руки вожжи, почуял, что его седок сегодня не в духе. В такие дни не побалуешь – будет гнать во всю мочь.
Дорога была разбитая, ухабистая. Дед Галяк одной рукой поддерживал, чтобы не слетела, войлочную шляпу, другой схватился за поручни. Беспомощно подпрыгивая на подушках тарантаса, он умолял председателя ехать потише.
– Все потроха из меня вытрясешь, Ханафи, – шутил старик.
Вскоре на просёлочной дороге, вдоль которой стеной стояла рожь, показалась бешено мчавшаяся навстречу им лошадь. Лошадь была оседлана, но без всадника. Увидев Чаптара, она резко повернула и помчалась обратно.
– Чья это? – с беспокойством произнёс Ханафи и привстал в тарантасе, оглядываясь вокруг. – Газзана, что ли?
– Салимгарей, кажись, на белом уехал. Не его ли?
И точно, это был конь, которого заседлали для Салима. Ветфельдшер направлялся в табун. Вдруг изо ржи поднялась сова. Испуганная лошадь метнулась в сторону, и Салим, плохо державшийся в седле, рухнул на землю. Он не сразу понял, что случилось. «Не разбился ли?» – пронеслось в его ошалелой голове. Но тут он услышал конский топот. Испугавшись, что его могут раздавить или – ещё хуже! – увидеть в таком далеко не выгодном виде, он вскочил и рванулся в рожь, чтобы спрятаться в ней. Но было уже поздно. Ханафи, вначале не на шутку встревожившийся за Салима, увидев его посреди дороги, жалкого, растерянного, всего в пыли, не выдержал и, забыв о присутствии почтенного деда Галяка, крепко выругался. Опомнившись, он проговорил сдавленным от сдерживаемого гнева голосом:
– Садись уж, мямля!
На выгоне их встретил Газзан.
– Ну, как? – коротко спросил Ханафи.
– Плохо, Ханафи-абы…
Заболевшие лошади уже были отделены от остального табуна. Одна из них, окончательно обессилев, лежала, подогнув под себя передние ноги. Другая стояла недвижимо, вяло опустив голову. Третья, вся в поту, беспрестанно зевала… Это были лучшие кони табуна: колхоз выращивал их для Красной Армии. Сердце Ханафи сжалось.
– Эдаких коней не уберечь! – сказал он с болью. – Колхоз оказал вам доверие, а вы… – И, махнув рукой на начавшего было оправдываться Газзана, принялся тщательно осматривать коней: оттягивал им веки, заглядывал в рот, в ноздри.
– Буйствовали вначале, Газизджан? – спросил дед Галяк.
– Нет. С самого утра так вот и стоят.
– А клещей, слепней много?
– Есть, конечно, но не так чтобы уж очень.
Салим растерянно метался от одного коня к другому. Ханафи долго следил за ним, наконец, потеряв терпение, прикрикнул:
– Чего бегаешь как ошалелый? Колдуешь, что ли? Говори: что с ними? Как спасать коней?
Весь дрожа, Салим невнятно забормотал что-то. Нельзя было разобрать ни слова.
– Да чего ты трясёшься? На бойню тебя ведут, что ли?! Говори человеческим языком.
– П-по-моему, Х-х-ханафи…
Бывший пограничник, Ханафи Сабиров не переносил таких людей, которые терялись перед первой же трудностью. Злился он и на себя. Какого чёрта терпел он до сих пор этого ходячего болвана! Давным-давно пора было подумать о настоящем ветфельдшере.
Дед Галяк замахал на лошадей шляпой, чтобы сдвинуть их с места. Беспрестанно зевавшая лошадь нехотя, шатаясь, сделала несколько шагов и опять встала.
– Шатается, – сказал дед, обращаясь к Ханафи. – Должно быть, болезнь мозга. Русские называют её шатун.
– При шатуне, дед, лошадь буйствует, лезет на стену, бьётся, а этих с места не стронешь. Желтушность, правда, есть в глазах…
– Эта болезнь, Ханафи, по-разному протекает. Оно верно – чаще лошадь бьётся, буйствует, но, бывает, и тихо ведёт себя. Однажды…
И старый дед пустился, по обыкновению, в воспоминания о каком-то случае из своей долгой жизни.
– Придётся, Ханафи, съездить в Исаково за Григорием Ивановичем. Тот всё знает, – посоветовал он в заключение.
На лугу показался Газинур. Запотевшая белая рубашка прилипла к телу, новенькие брюки вываляны в конской шерсти, на ботинках толстый слой пыли.
Стоило Ханафи взглянуть на него, чтобы окончательно убедиться, что высказанное им утром предположение было правильно. Лицо председателя побагровело.
– Ты что же это, пучеглазый, бросаешь коней, а сам по девчатам шляешься?
– Моя вина, Ханафи-абы, – честно сознался Газинур, не пряча глаз под гневным взглядом председателя.
Прямой ответ несколько охладил Ханафи, но он продолжал по-прежнему сердито:
– Воображаешь, что повинную голову и меч не сечёт, и давай скорей признавать свою вину? Нет, так просто ты не отделаешься. Мы ещё поговорим с тобой. А сейчас садись, поедешь с нами.
Наказав Салиму и Газзану отвести больных лошадей в лазарет, Ханафи вскочил в тарантас. Чаптар понёс с места галопом.
Ханафи с дедом Галяком вылезли из тарантаса у новых амбаров, а Газинур поехал дальше, за Григорием Ивановичем, который слыл самым опытным, самым знающим ветеринарным фельдшером в районе.
– Смотри, не задерживайся, – предупредил его председатель. – Пулей лети! Заберёшь Григория Ивановича – и, не заезжая в правление, прямо в лазарет! Вечером ко мне зайдёшь…
Яростно погоняя Чаптара, Газинур весь отдался невесёлым размышлениям. В тридцать втором году лошади так же вот заболели какой-то странной, неизвестной болезнью. А позднее выяснилось, что это дело рук пробравшихся в колхоз кулаков. Много хороших коней пало тогда. Тех кулаков давно уже нет в колхозе. А всё ж таки как знать?.. Нельзя же сказать, что борьба в деревне кончилась. Ведь вывез же кто-то осенью прошлого года пшеницу из колхозного амбара, а до того, в горячую пору весеннего сева, неизвестные люди привели в негодность сеялки.
Руки Газинура сжались в кулаки. Правду говорят старые люди: если волк не делает своего волчьего дела, у него нутро ржавеет. И, подумав, что, быть может невольно, оказался пособником врага, парень застонал, словно от удара.
Вчера бригадир Габдулла послал освободившегося от распиловки Газинура на ночь в поле – караулить лошадей вместо заболевшего Морты Курицы. «Побудешь до рассвета и вернёшься», – сказал он. В другое время Газинур в точности исполнил бы приказание. Но ведь только накануне приехала из города Миннури, а он так стосковался по ней. И… договорившись с Газзаном и Гапсаттаром, Газинур вернулся в деревню.
– Иди, иди, – ещё подбодрил его Гапсаттар. – Кто из нас молодым к девчатам не бегал!
– Я недолго, скоро вернусь, – пообещал Газинур.
Но когда Газинур прощался с Миннури, уже светало. Он заторопился и ускакал в поле, не переодевшись. И вот…
Досадуя на себя, Газинур, сам того не замечая, всё сильнее гнал коня.
Дом Григория Ивановича находился в середине села. Когда Газинур остановил лошадь перед резными, в старом русском стиле, воротами, к нему вышел сухонький старичок в очках. Это и был Григорий Иванович. Газинур, в волнении глотая слова, рассказал ему, зачем приехал. Молча выслушав юношу, Григорий Иванович так же молча скрылся за воротами, но скоро появился снова, уже в дорожном плаще, в белой фуражке, с небольшим чемоданчиком в руках.
– Поехали, – коротко сказал он, забираясь в тарантас.
Неутомимый Чаптар шёл крупной рысью, красиво выгибая голову.
– А ваш ветфельдшер где? Уехал куда-нибудь? – поинтересовался Григорий Иванович.
– Салманов-то? – обернувшись к старику, переспросил сидевший на козлах Газинур. – А хоть есть он, хоть нет, что проку-то, Григорий Иванович?! Одна слава, что фельдшер…
Дорога шла под гору. Газинур крепче натянул вожжи. Навстречу с нижнего конца села с грохотом поднималась колонна тракторов. Передний трактор вёл Исхак Забиров. Газинур поздоровался с ним. Тот, улыбаясь, приветствовал его поднятой ладонью. На этот раз волосы тракториста были прикрыты тёмно-синим беретом, похожим на те, какие носят девушки. «Забиров наверняка не выкинул бы ничего подобного», – невесело подумал Газинур.
– Видать, этот ваш Салманов с большим самомнением, – сказал Григорий Иванович. – Как-то я ему говорю: «Заходи, новинки привёз», – так он даже не поинтересовался, что за новинки.
Вынув из кармана платок, старик тщательно обтёр снежно-белые усы и бороду.
– Это на него похоже, – ответил Газинур, неприязненно усмехнувшись. – Чего-чего, а самомнения у нашего Салима на десятерых хватит.
Григорий Иванович испытующе взглянул на Газинура.
– Молодому человеку это совсем не к лицу, – сказал он многозначительно. – Наш народ не уважает таких, что плетутся в хвосте.
Газинур причмокнул губами. Замедливший бег Чаптар снова пошёл крупной рысью.
«Красногвардеец» проехали, не останавливаясь. Лазарет находился в стороне от конюшни, в специально построенном помещении. Туда и повернул Газинур лошадь. Навстречу шли возвращавшиеся с сенокоса девушки и среди них Миннури. Ещё издали приметив Газинура, она что-то шепнула подружкам. Те покатились со смеху.
Но недовольный собой Газинур на этот раз молча, насупившись, проехал мимо.
Тарантас остановился у лазарета. Григорий Иванович спрыгнул, скинул плащ и, кивком головы поздоровавшись с вышедшим навстречу Салимом, торопливо, как-то боком шагая, скрылся в конюшне.
Газинур остался один. На душе стало ещё тревожнее. Точно раскалённая игла, мозг сверлила неотвязная мысль: «Случайная это болезнь или чьё-то подлое дело?..»
Григорий Иванович пробыл у заболевших лошадей не менее получаса. Вышел он в большом раздражении.
– Чепуху вы городите, молодой человек! – отмахиваясь от Салима, на ходу говорил старик. – Непростительную чепуху! Ничего-то вы в своём деле не смыслите, молодой человек, как я погляжу. Дед Галяк правильно сказал: у коней энцефаломиелит, проще говоря – шатун.
– Но откуда?.. Причина? – испуганно удивился Салим.
Он знал, что при этой болезни лошади погибают очень быстро, в течение каких-нибудь двух-трёх дней. Погибнут – отвечать придётся в первую очередь ему, Салиму.
– Причин много. Заражённые корма или вода. Инфекция может передаваться клещами, комарами, слепнями, больными лошадьми. Думаю, что всё это для вас не секрет.
Старик не договорил и стал надевать плащ. Сев в тарантас, он сказал, подняв предостерегающе палец:
– Не забудьте мои указания. Немедленно принимайте меры по дезинфекции. Прежде всего старайтесь уберечь здоровых лошадей.
– Скажите, Григорий Иванович, – поспешил Газинур задать неотвязно мучивший его вопрос, – это просто болезнь или здесь…
– Трудно сказать, – взглянул на него поверх очков старик. – Всё может быть. Во всяком случае неприятная история, – глубоко вздохнул он и больше до самого правления не проронил ни слова.
Газинуру хотелось расспросить его поподробнее, но старый ветфельдшер сидел, закрыв глаза, словно дремал. И Газинур не решился беспокоить его.
Но стоило Чаптару остановиться у правления, как Григорий Иванович с поразительным для его лет проворством слез с тарантаса и тут же скрылся за дверью. Газинур отвёл лошадь в тень, свернул самокрутку, закурил.
И вдруг увидел бегущую к нему Миннури.
– Что случилось, Газинур? – с тревогой спросила она, взяв его за руку. – На тебе лица нет…
Газинур рассказал о болезни коней, о том, что ответил ему Григорий Иванович.



