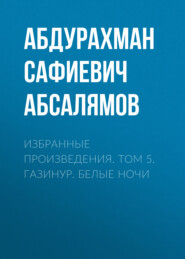
Полная версия:
Избранные произведения. Том 5
Там, под большим серым камнем с изображением красной звезды на одной стороне и якоря на другой, были погребены члены Бугульминского ревкома Петровская и Просвиркин, и вместе с ними – неизвестный матрос.
– Я хорошо знал товарищей Петровскую и Просвиркина, – Гали-абзы положил руку на плечо юноши. – Работал под их началом. Они были настоящие люди, жизни своей не пожалели для народа. Иначе и нельзя, Газинур. Люди с заячьей душонкой никогда не побеждают. Борцу за революцию нужно иметь сердце горного орла.
…Как сейчас стоит у меня перед глазами и матрос. Он появился в Бугульме в самое трудное время. Как удалось ему прорваться через вражеское кольцо, плотно охватившее тогда Бугульму, этого я не знаю. В ревкоме готовились к последнему бою. В это время он и ввалился, волоча за собой пулемёт. Молодой, здоровущий. По поясу гранаты, пулемётные ленты через плечо, на голове бескозырка. «Я от Ленина, – сказал он, улыбаясь. – Разрешите встать на вахту за советскую власть». И стал прилаживать свой пулемёт у окна. На улице уже поднялась стрельба…
Но пали они не в этом бою. Это произошло на глухом разъезде между станциями Ютаза и Туймаза. Окружённые многочисленными врагами, они отбивались до последнего патрона, до последней гранаты. Уже пала бесстрашная коммунистка Петровская, уже истекал кровью Просвиркин. Матрос выхватил из рук погибшего товарища винтовку и бросился в штыки. Только когда он рухнул, обессилев от ран, враги смогли подойти к нему…
Газинура захватил рассказ Гали-абзы. Все они – и Просвиркин, и Петровская, и неизвестный матрос, и другие безымянные герои – казались ему в эту минуту дороже отца и матери, дороже жизни. Дороже, роднее стал и Гали-абзы, в нём Газинур видел теперь живого героя Гражданской войны.
Гали-абзы помолчал несколько минут и добавил:
– Если придётся тебе с оружием в руках отстаивать честь родины, вспомни об этих людях, Газинур.
– Всегда буду помнить, Гали-абзы, – тихо, как самое заветное, произнёс юноша.
У основания памятника лежал тяжёлый ствол старинной пушки. Много лет тому назад пугачёвское войско стояло лагерем в горах возле Бугульмы. С тех пор и хранится здесь ствол этой чугунной, стрелявшей ядрами пушки.
– Испокон веков народ боролся за своё освобождение, Газинур, – продолжал Гали-абзы, присев на скамейку неподалёку от памятника. – Вся история человечества – это история борьбы за свободу. Этого тоже никогда не забывай, Газинур.
Ночью, возвращаясь домой, Газинур не мог оторваться мыслями от того, что услышал от Гали-абзы. А так как у него была привычка изливать все свои думы и переживания в песне, он почти всю дорогу пел. Пел он о батырах, которые презрели смерть ради счастья народа. К удивлению Газинура, протяжные напевы старинных песен зазвучали на этот раз необычно бодро и горячо.
Подъезжая к колхозу, Газинур запел о своём колючем цветочке, о своей дикой розе – любимой Миннури, сердцем чуя, что она уже здесь, в деревне, и ждёт его. В городе он дважды приходил к дому, где она жила, но оба раза дверь оказалась на замке.
Тарантас въехал на конный двор. Распрягая лошадь, Газинур оживлённо переговаривался с вышедшим навстречу старшим конюхом Сабиром-бабаем. Весёлые прибаутки, казалось, сами слетали с его языка. Взяв Чаптара за повод, он отвёл его в сторону. Конь потоптался, обнюхал землю и повалился на спину. Когда, досыта навалявшись, конь встал и отряхнулся, Газинур тщательно обтёр его рукавицей, почистил и отвёл в конюшню.
– Спокойной ночи, дружок Чаптар, – сказал он, набив кормушку душистым сеном, и, прежде чем уйти, любовно провёл ладонью по гладкой, лоснящейся шее коня.
Во дворе Сабир-бабай, пыхтя, подталкивал тарантас к навесу. Газинур поспешил к нему на помощь.
Установив тарантас под навесом, Газинур с Сабиром-бабаем уселись рядышком на пороге амбара.
Сабир-бабай, несмотря на летнее время, был в малахае и шубе: любят тепло старые кости. Этот невысокий старик с круглой седой бородой, побывавший в своё время на солдатской службе, а потом измеривший вдоль и поперёк российские просторы в поисках заработка, знал много удивительных вещей. Газинур любил слушать его. «Сабир-бабай, расскажи о своей службе на Карпатах…», «Сабир-бабай, а как вы отказались стрелять в рабочих…» – просил он старика. И, чуть приоткрыв свои по-детски пухлые, полные губы, ночи напролёт слушал солдатскую повесть о далёких, даже летом покрытых снегом Карпатских горах, о солдатах «мятежного» полка, присланных для усмирения восставших рабочих и отказавшихся стрелять в своих братьев.
– Так-то, Газинур, сынок! Много перенёс на своём веку Сабир-бабай. В России, похоже, нет места, где бы он не побывал, не найдётся такой реки, откуда бы он не испил водицы, – заканчивал обычно старик.
И, погрузившись каждый в свои думы, оба долго молча курили.
Но сегодня разговор пошёл совсем о другом.
– Как, Газинур, благополучно довёз Ахмет-Гали? – спросил старик.
– Довёз – лучше не надо, Сабир-бабай. Как на машине… – Газинур улыбнулся, блеснув в темноте ровными белыми зубами, и восторженно воскликнул: – Золотой человек наш Гали-абзы!
– Что верно, то верно, – согласился старик. – Много полезного сделал Ахмет-Гали для района и для нашего колхоза. Это он организовал наш колхоз и название ему хорошее нашёл. Ахмет-Гали – человек партии… большой человек, Газинур.
– Вот и я тоже хочу сказать, Сабир-бабай, – подхватил Газинур, – что большой он человек… Я даже не знал, какой большой, хотя вырос у него на глазах, и считал, что всё о нём знаю. Куда там!
И взволнованный Газинур рассказал старику, как Гали-абзы гнал на тачанке польских панов, рассказал о безногом пулемётчике, о матросе, приехавшем от Ленина.
Сабир-бабай украдкой взглянул на Газинура и ласково усмехнулся. Вот что значит молодое сердце! Всё-то горячит его…
– Понимаешь, Сабир-бабай, – мечтательно сказал Газинур, – какие замечательные есть люди на свете! – И с восторженным удивлением добавил: – Подумаешь – и диву даёшься: откуда такие берутся?
Некоторое время оба молчали. Мимо них, оставляя тонкий блестящий след, проносились светлячки. Гудели майские жуки. Тёмное небо изредка прорезали падающие звёзды.
– Сабир-бабай, а ты Хакимовых знал, помнишь? – спросил неожиданно Газинур.
– Хакимовых? Это каких?.. Бугульминских миллионеров, что ли? Очень хорошо знал. И внукам, и правнукам накажу не забывать их…
Старик поднял в возбуждении руку. Пальцы его были искривлены от долгой тяжёлой работы, и казалось, эта скрюченная рука поднялась, чтобы задушить кого-то. Не будь так темно, Газинур увидел бы, как исказили лицо старика мучительные воспоминания.
– Настоящие пауки были, высасывали нашу кровь. – Старик сказал это совсем тихим голосом, но в голосе его и сейчас слышалась былая боль. – Русские, чуваши, марийцы, татары из окрестных деревень гнули на них спину от темна до темна. Вся Бугульма была в их руках. Что хотели, то и делали. Для них закона не было. Разъезжали с городским головой на тройках. Людей давили. Бывало, только покажутся, а уже издали кричат: «Шапки долой!» Хакимов считался его помощником. Хозяйничали в этих местах ещё помещики Елачич и Шкапский. Эти прибрали к рукам все земли вокруг. Крестьяне работали на них целыми семьями. Твой отец тоже пас скот у Шкапского. Тебя тогда ещё не было…
– Слышал я! У помещика Елачича было четырнадцать тысяч десятин земли, а народ не имел ни клочка, умирал с голоду, – с возмущением сказал Газинур.
– Все бугульминские винокурни его были. В те времена в Бугульме на каждом шагу красовался либо трактир, либо «монополька» – это лавка, где водкой торговали. Эх, и говорить не хочется!.. – махнул старик рукой. – И посейчас, как вспомнишь те времена, душа болит. Детей полон дом, есть нечего, одеться не во что, топить нечем. Почёсываешь, бывало, затылок да удивляешься: «Что ж это такое? Где справедливость? Где ж она, правильная-то жизнь? Экие поля хлеба выращиваем, целые леса на дрова распиливаем, а в доме ни зёрнышка, дети с голоду пухнут, топить нечем…» Ну хватит, Газинур, сынок. Заговорился я. Истинно – одно слово рождает другое. Вон уж светать начинает, тебе надо и вздремнуть малость.
– А по мне хоть бы вовсе не спать сегодня. Честное слово, Сабир-бабай! У меня на душе… ну… точно она прозрела. Увижу Ханафи-абы – скажу спасибо. Пусть всегда посылает меня с такими хорошими людьми.
Газинур сходил на конюшню, подкинул лошадям сена и, громко напевая, направился к дому. Когда он проходил по мосткам, проложенным через неглубокий овражек, ему почудились голоса. Впереди мелькнул огонёк папиросы. «Хашим с Альфиёй любезничают», – подумал Газинур. У дома Гали-абзы залился лаем Сарбай. Газинур повернулся, чтобы приласкать его, и вдруг заметил за забором чьё-то светлое платье. Неужели Миннури?..
В мгновение ока пересёк Газинур широкую деревенскую улицу.
– Миннури… – позвал он. Голос его прерывался. – Ты разве здесь, Миннури? А я тебя в Бугульме искал. Жаль, что разошлись. Если бы подождала немного, подвёз бы на тарантасе.
Газинур сжал в своей широкой ладони маленькую руку девушки.
– Ой, Газинур! Сумасшедший!.. Разве так жмут? – вскрикнула от боли Миннури.
– Это я любя, Миннури, не сердись, – оправдывался Газинур, не сводя с девушки больших чёрных сияющих глаз.
Девушка почувствовала, что краснеет до корней волос. Встряхивая рукой, она потупила глаза, но не надолго. Снова подняла их, улыбнулась – и снова потупила. Но Газинур успел разглядеть, что скрывалось в душе девушки: Миннури любила его и хотела быть любимой. Минуты, когда Миннури раскрывалась, были редки и коротки. Только тогда и можно было подсмотреть те чувства, которые владели её душой, потому что уже в следующую секунду она, как ощетинившийся ёж, превращалась в сплошную колючку.
Вон она повела правой бровью, как-то по-своему поджала губы и заговорила тем же насмешливым тоном, каким недавно разговаривала с Салимом:
– Пять лет уж прошло, как я приехала, а ты ещё только плетёшься. Видно, от конного двора до нашего дома дальше, чем до Бугульмы.
– Сидели, толковали с Сабиром-бабаем, – сказал Газинур.
– Не иначе, как о лошадях, – насмешливо ввернула Миннури, бросив на него косой взгляд.
Газинур улыбнулся.
– Нет, Миннури, о людях… О хороших людях…
Но Миннури не унималась. Раздосадованная долгим ожиданием, она рада была сорвать на нём свою обиду и возражала на каждое его слово.
– Вот ещё новая песня! – вызывающе воскликнула она. – Что значит говорили о людях?.. Сплетничали о ком-нибудь? Не понимаю, что в этом интересного!
Газинур пощекотал за ушами Сарбая, ласково теревшегося возле его ног.
– Я не сплетница Мукаррама-апа, да и Сабир-бабай не похож как будто на сваху Зайтуну, чтобы перемывать людям косточки, – посмеиваясь, сказал Газинур. – А поговорить о людях можно и очень интересно, Миннури. Особенно, если рассказывает Гали-абзы…
И хотя по тому, как заблестели при последних словах глаза юноши, Миннури стало ясно, что разговор действительно очень увлёк его, она всё ещё не спрятала своих колючек.
– Вот ты живёшь сейчас в Бугульме, Миннури, – сказал Газинур и взял девушку за руку. – Скажи, что это за место?
– Место холмистое и овражистое, – невольно рассмеялась Миннури. – Летом глаз не откроешь – пыль, а наступит осень – из грязи ног не вытащишь.
– Ага! Вот и не знаешь! Бугульма – это… самое… самое высокое место! – выпалил Газинур.
– Ой, дядя, дядя! И чего ты мелешь! – неудержимо смеялась Миннури. – Который год уже живу в Бугульме, а что-то не замечала, чтобы там было самое высокое место.
Газинур, почувствовав, что напутал, не сумел правильно передать слова Гали-абзы, смутился.
– Ладно, выучусь – начну говорить, как в книгах, по-учёному, – сказал он и, помолчав, добавил: – Я хочу проситься на учёбу, Миннури. На тракториста.
– Я смотрю – побывал ты в городе и вернулся настоящим Ходжой Насреддином, Газинур, – не переставая смеяться, проговорила Миннури.
Но в смехе её не чувствовалось больше подковырок; напротив, смех этот выдавал, что колючесть была внешняя, что за ней прячется совсем другая – нежная Миннури.
– Ты хочешь сказать, – в тон ей ответил Газинур, – что я, как Ходжа Насреддин, уже нашёл одну подкову и теперь мне остаётся не много: найти ещё три да коня, – и тогда я смогу ездить верхом?
– Не говори пустое, Газинур. Зачем эти слова, если им никто не поверит?
– Соловей ты мой! – сказал Газинур, притягивая девушку к себе. – Ходжа Насреддин был мудрым человеком, но даже он, если бы жил в колхозе, отказался бы от кое-каких изречений. Ты не веришь мне, Миннури? Думаешь, я только болтаю об учёбе? – пытался заглянуть в глаза любимой девушки Газинур.
Но Миннури низко опустила длинные ресницы.
– Трудно учиться, когда суставы от старости немеют. А я же ещё не старик!
Тут Миннури приникла головой к груди Газинура и совсем другим тоном сказала:
– Хоть бы ты отвадил от меня этого Салима! Извёл совсем… Как репей липнет.
– Салим?! – воскликнул Газинур. – Чего ему от тебя нужно?..
Застыдилась ли девушка прорвавшейся нежности или уж очень вознеслась в своей девичьей гордости, услышав в ответ страстный возглас Газинура, но только она снова выпустила свои колючки.
– Как видишь, – сказала она со смехом, – у меня и без тебя хватает сердечных утешителей… В следующий раз старайся приходить пораньше, а то можешь и совсем опоздать.
Сказала и, выскользнув из объятий Газинура, взбежала на крыльцо.
На пороге задержалась, помахала рукой на прощание и скрылась за дверью.
Газинур, покачивая головой, с улыбкой смотрел ей вслед.
– Ах ты, роза моя, дикая, колючая! – прошептал он и пошёл вдоль тихой, сонной деревни.
Светало. Над воротами фермы погас последний фонарь.
III
Чтобы не будить стариков, Газинур улёгся досыпать ночь в сенцах. Здесь, под потолком, сушились связки лопуха, липовый цвет, мать-и-мачеха, душица, тысячелистник, ромашка, череда, молодая крапива, цветы сирени, а с протянутого поперёк шеста свешивались связанные попарно берёзовые веники.
Прошло довольно много времени, а он всё никак не мог уснуть. Он различал нежный, тонкий аромат липового цвета, сирени. К ним примешивался горький запах полыни, его перебивала приторная душица. А всё вместе уводило воображение Газинура на колхозные луга. Когда лежишь на стоге сена у лесной опушки, ноздри точно так же щекочут запахи различных трав.
А припомнились луга, тотчас встала перед глазами пёстрая толпа сгребающих сено колхозных девчат – лёгкие грабли так и играют в их руках. И среди них его «дикая роза», его Миннури. Чуть приоткрытые губы Газинура сами собой расплываются в улыбке. Понятно, почему у него особенно радостно на душе, – ведь он только что говорил с Миннури, его ладони ещё берегут тепло её рук, в ушах ещё звучит, переливается её чуть капризный, с оттенком обиды и упрёка голос, нежный, ласковый смех. Любовь к этой девушке была самым дорогим, самым чистым его чувством. Но сегодня к нему прибавилось ещё одно, до сих пор незнакомое и, кажется, даже более чистое, более захватывающее чувство.
На улице уже совсем рассвело, а Газинур ещё не смыкал глаз, весь в думах о новом, большом мире, что открылся ему. Он живо представляет себе то безногого пулемётчика на летящей вихрем тачанке, то посланца от Ленина – обвешанного пулемётными лентами матроса. Газинур ясно видит его плотно сомкнутые губы, изо всех сил нажимающие на гашетку пулемёта пальцы. То вдруг Гали-абзы, натягивая вожжи, лихо свистит… Четвёрка бело-сивых коней, запряжённых в тачанку, бешено несётся по бескрайней степи. Развеваются по ветру гривы, в белой пене удила. Навстречу, сверкая клинками, скачут враги. Но безногий пулемётчик не подпускает их близко – косит и косит. И вдруг вперёд выходит матрос, ветер шевелит шёлковые ленты его бескозырки. Выхватывая из-за пояса гранаты, матрос бросает их в гущу врагов и сметает их с земли.
Газинур не раз слышал – деревенские старики, побывавшие на турецкой, японской, германской войнах, говаривали: «Отделался от войны ранением – считай себя счастливым и благодари судьбу». И слышал это от людей далеко не робкого десятка. По правде сказать, до сих пор эти слова не вызывали у Газинура никаких сомнений. Ведь жизнь даётся один раз, а жить так хорошо! И он тоже считал счастливыми людей, избежавших смерти. Но рассказы Гали-абзы заставили его призадуматься. Оказывается, не всегда главное в том, чтобы уйти от смерти. Ведь воевал же этот пулемётчик на тачанке, хотя у него и не было обеих ног. В чём же тут причина? Такой воинственный он был человек, что ли? Или решил отомстить за себя?.. А матрос? Он же понимал, что его ждёт верная смерть. И смело пошёл ей навстречу…
В памяти Газинура всплыли заключительные слова Гали-абзы.
– Они были советские люди, Газинур. И знали, во имя чего идут на смерть. Они отстаивали власть рабочих и крестьян, власть трудового народа. Вот откуда их мужество, вот откуда бесстрашие. Великое счастье – отдать жизнь за народ. Это значит – навсегда победить смерть. Недаром народная мудрость гласит: «Родился – для себя, умру – за свой народ».
Разумом Газинур понимал смысл этих слов. И всё же было в них нечто, не укладывавшееся в его сознании. Счастье и смерть… Как-то странно было ставить рядом эти два совершенно противоположных понятия.
Газинур на миг представил себя на месте матроса. Смог бы поступить так он, Газинур? Пожалуй, нет. Да и то сказать, ведь того матроса послал сам Ленин. Он, верно, был коммунистом или, по меньшей мере, комсомольцем. А Газинур – обыкновенный деревенский пастух. Откуда у него взяться такому мужеству?
Детство Газинура было тяжёлым. В день его рождения отца не было дома. Гафиатулла-абзы отбывал воинскую службу в царской армии. Вскоре началась война, и их часть отправили на Кавказ. Эшелон, в котором ехал отец Газинура, попал в крушение. Покалеченный Гафиатулла с трудом добрался до дома и тут же слёг. Для него начались чёрные дни. Душу его терзали горькие мысли. Кому он теперь нужен? Кто виноват в его страданиях? Слушая, как воет зимний ветер за окном, он вспоминал однополчан и особенно часто одного, немолодого уже солдата Максимова. Правильно ведь говорил, оказывается: «За царя и за капиталистов проливаем кровь, ребята. Им что! Наша кровь льётся в их карманы золотом. Поймите это, солдаты, и хорошенько подумайте, куда нам следует повернуть винтовки…»
Вспоминал это Гафиатулла и каждый раз тяжело вздыхал. Не понимал он тогда. Теперь-то всё понял, да поздно… Близок локоть, да не укусишь…
И вдруг в душе Гафиатуллы зажглась надежда. По деревням прошёл слух, будто свергли царя. А ещё через несколько месяцев соседи прочитали больному Гафиатулле Декрет о земле и мире, подписанный Лениным. Огромный душевный подъём, охвативший его, помог преодолеть физический недуг – он встал на ноги. Но не успел толком наладить хозяйство – начался голод. Он унёс в могилу мать Газинура. Похоронив её, Гафиатулла-абзы взял с собой семилетнего Газинура и пошёл по деревням искать заработка. В летнее время нанимался пасти скот, на зиму шёл батрачить к кулакам. Так они и кормились. Газинур очень жалел своего рано постаревшего, больного отца и, насколько хватало детских силёнок, старался помогать ему.
Так прошло года четыре. Однажды Гафиатулла сказал ему:
– Нет, сынок, так жить больше нельзя. Птица и та гнездо вьёт.
И женился на очень степенной вдове по имени Шамсинур. С Шамсинур вошёл в семью и её сын Мисбах. Этот тринадцатилетний, не очень крепко сбитый, послушный мальчик привлёк внимание Газинура своим робким видом.
– А ты кнутом щёлкать умеешь? – спросил он его.
– Нет, не умею, – ответил Мисбах и шмыгнул носом. Потом с неожиданной кичливостью добавил: – Мы не пастухи!
– Хочешь, научу тебя? – пропустив мимо ушей последнюю фразу, добродушно предложил Газинур и так ловко хлопнул своим длинным кнутом, что звук раскатился эхом, как выстрел из ружья.
Склонив голову набок, Газинур прислушался к долетевшему из дальнего леса эху.
– Слышал? – повернулся он к Мисбаху. Его чёрные глаза удовлетворённо блестели. – Я один могу пасти стадо, – торопился он выложить своему новому другу всё, чем мог похвастаться. – Только вот комолая корова Кашиф-Заляевых озорует, так и норовит убежать из стада. Я говорю отцу: «Давай скажем, чтобы ей привязали на шею палку на верёвке, пусть бьёт её по ногам». А отец не соглашается. «Нельзя, говорит, обижать животных. У коровы ведь нет языка, чтобы сказать, почему она бегает».
В то лето они пасли стадо втроём. Завидев Гафиатуллу-абзы, стоящего, опёршись грудью на длинную палку, и наблюдающего за скотом, прохожие кивали на мальчиков, которые обычно возились у костра, пекли картошку:
– Помощнички ведь растут, Гафиатулла-кордаш[4].
– Живое существо, милый человек, придя на свет, не может не расти, – отвечал обычно Гафиатулла, окидывая любовным взглядом живших в мире и согласии сыновей.
Он ненавидел свары и раздоры. И когда брал в дом новую жену, больше всего боялся возможных ссор. Но Шамсинур, хоть и была женщина вспыльчивая, повела себя довольно умно: она и на Газинура не смотрела косо, и своего сына не баловала.
Ребята, хоть и дружили, по характеру совсем не походили друг на друга. Газинур был шустрый, смышлёный озорник. Тихий, стеснительный Мисбах отличался неразговорчивостью. Его маленькие желтоватые, как лесные орехи, глаза смотрели несмело. Если кто отпускал при нём шутку, он краснел, как девушка. Робость покидала его только с животными, на них он не только покрикивал, но частенько не прочь был и руку поднять. Газинур же пальцем не трогал животных.
Гафиатулла-абзы любил Мисбаха как родного сына. И, оставаясь с ним один на один, не раз говаривал, поглаживая мягкие его волосы:
– Мисбахетдин, сынок, чего ты держишься этаким боязливым тихоней? На мягкое дерево червь нападает. Мальчишка хорош тот, от которого огнём брызжет.
Однажды Гафиатулле-абзы понадобилось сходить по неотложному делу в деревню.
– Смотрите, не подпускайте скот к посевам, – несколько раз повторил он мальчикам на прощание.
Стояла жаркая летняя пора. К полудню вставшим затемно ребятам нестерпимо захотелось спать. Скучив стадо, они договорились спать по очереди: сперва поспит Газинур, а когда тень укоротится на три лаптя, придёт черёд отдыхать Мисбаху.
Здоровый сон не требует подушки. Газинур подложил под голову кулак и тотчас сладко засопел.
Мисбах обошёл стадо, пощёлкивая для пущей важности кнутом, – теперь он управлялся с ним ничуть не хуже Газинура! Всё шло обычным порядком. Помахивая хвостами и положив друг на друга головы, коровы сонно пережёвывали жвачку. Иные забрели в речку, и над водой виднелись только их спины. Овцы, уткнув морды в траву, дышали часто-часто. В такую жару, если б даже кому и взбрело на ум перегнать куда-нибудь стадо, его не сдвинешь с места.
Мисбах то и дело меряет лаптем свою тень, но, оказывается, в полдень тень укорачивается очень медленно. Глаза же у Мисбаха так и слипаются, даже на ходу. Он старательно протирает их кулаками, спустившись к речке, обливает лицо водой, но проку от этого мало, его по-прежнему клонит ко сну.
Вконец разморённый жарою, Мисбах пристроился под вязом, чтобы дать отдых ногам, и, сам того не замечая, заснул.
Стадо постояло-постояло, а как спала жара, потихонечку двинулось на поля.
Проснулись мальчики от сердитого окрика отца. Сколько они проспали, не мог сказать ни тот, ни другой. Они стояли понурые, ничего спросонья не соображая. Гафиатулла-абзы весь свой гнев обрушил на Газинура, Мисбаху же слова не сказал. Наконец Газинур собрался с мыслями и вспомнил, как было дело. Его большие чёрные глаза с укоризной смотрели на Мисбаха. Взгляд его как бы говорил: «Что же ты натворил, Мисбах? Почему не разбудил меня? Разве так держат слово?» Но Мисбах стоял с опущенной головой, дрожал от страха и молчал.
Обычно мягкий и сдержанный, Гафиатуллы-абзы на этот раз рассвирепел.
– Непутёвый, бессовестный мальчишка! – кричал он на Газинура и даже палкой на него замахнулся. – Столько посевов попортили! Сколько хлеба помяли!.. Выслушивай теперь из-за тебя, из-за негодника, попрёки от людей. Стыд-то какой на мою голову! Убирайся с глаз долой!..
Конечно, отцу и в голову не приходило, что Газинур поймёт его последние слова буквально. Дело же обернулось совсем по-иному. Газинур, хоть не был виноват, и не подумал выгораживать себя. Он ни словом не упрекнул Мисбаха. Вскинув на плечи сплетённый собственными руками кнут, он натянул поглубже старую шапку с оторванным ухом и, не произнеся ни звука, пошёл куда глаза глядят.
С опущенной головой, поднимая пыль своими старыми лаптями, шагает он просёлочной дорогой, один среди бескрайних полей, а за ним змеёй волочится длинный кнут. Сердце переполняет горечь незаслуженной обиды, но Газинур не плачет. «Не пропаду», – успокаивает он себя.
Идёт он в соседнюю русскую деревню. Там, мешая родную речь с коверканной русской, объясняет, что хотел бы наняться в пастухи. Пастух-то нужен, отвечают ему, но пасти придётся свиней. Газинуру всё равно, он готов пасти и свиней. Бородатые русские старики только головами покачивают.



