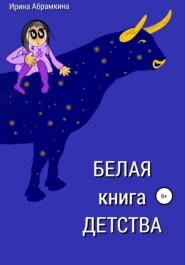 Полная версия
Полная версияБелая книга детства
«Ты сегодня мне принёс
Электрический насос,
И давай меня накачивать…»
При этом он так потешно приплясывал, что мы покатывались со смеху. Он жарил мясо на вилке над газовой горелкой, и рычал, когда ему подавали мозговую косточку. Он собрал аппарат для производства «живой» и «мертвой» воды, и долгое время пил только «живую» воду. А еще папа пел Высоцкого, перестраивая «шестиструнку», произведенную в городе Бобров, на семиструнный лад.
Второй брат папы – дядя Володя в армии отморозил ноги. Он стал инвалидом, отказался от ампутации. Ноги гнили, и в доме бабушки всегда висели стиранные бинты. У этого человека были золотые руки – он резал по дереву, изготовляя для себя ажурные трости с фигурными массивными набалдашниками, делал спининги для рыбной ловли, вычурные курительные трубки. Но всегда менял свои произведения искусства на бутылку водки. Дядя Володя был трубач из вогрэсовского оркестра, и его всегда звали на парады и на «жмура». От Общества Инвалидов он клеил картонные коробки и комплектовал автомобильные аптечки. А в конце августа каждый год играя во дворе, мы вдруг замирали. Старушки переставали лущить семечки, а мужики играть в домино. Дядя Володя в светлом пиджаке и наглаженной рубашке выходил на балкон четвертого этажа, и целый час весь наш вогрэсовский двор слушал, как он играет на своем «Сельмере». Это был день его рождения.
У дяди Славы, третьего сына бабушки, была на плече татуировка – чертик на месяце. Он одевался, как стиляга, в джинсы и ярко-желтую нейлоновую рубашку «Олимпиада-80». У него были курчавые волосы и баки, как у Мика Бокса, а еще он был Бог в радиоэлектронике. Однажды дядя Слава позвал меня в гости, он жил вместе с бывшей женой и сыном Алешей в двух комнатах коммунальной квартиры дома номер 2 по той же улице Меркулова. В глубине его комнаты стоял аквариум, но в нем не было рыб. Он был наполнен стеклянными трубочками и лампочками. Дядюшка включил проигрыватель, и все это сооружение – светомузыка – заискрилось огнями. А когда Челентано запел “Soli”, преломление света достигло апогея: на задней стенке аквариума появилось еле различимое, скорее призрак, мираж, изображение Девы Марии. Дядя Слава работал не на ВОГРЭСЕ, но тут же, рядом, на заводе «Синтез Каучук», сокращенно – СК.
Четвертый – Сережка, был слишком молод, чтобы мы называли его «дядей». Он единственный унаследовал от бабушки невысокий рост, и всегда упорно боролся с этим: занимался специальной гимнастикой долгое время. А мы, противные дети, дразнили его «Пенек». Отслужив в армии он, вместе со своим приятелем Игорем, много ездил по стране, устраиваясь разнорабочим в геологические экспедиции, а после увлекательно рассказывал. Потом осел, занялся фотографией, мотоциклами и тоже пошел работать на ВОГРЭС.
Помимо четырех сыновей у бабули было еще двое внуков мужского пола, и когда нелегкая заносила меня к ней в гости, она звала меня так: «Володь… Саш… Алеш… Тьфу, ты! Ирочка! Сыночек, поди сюда!»
У бабули в доме пахло стерильными бинтами, «Корвалолом» и солянкой. Пододеяльники были цветистые, а перед сном она читала только сказки. Она никогда не ругалась, если мы убегали плавить из решеток аккумуляторов свинцовые грузики в воронке кирпича на костре. Или гоняли допоздна мяч у здания ОКБА. Или если мы пропадали на целый день – делали тайники возле заводской узкоколейки. Она не ругалась, когда мы подожгли селитру на балконе третьего этажа, Она была очень терпеливой, мужественной. Бабушка маленькая, благодаря которой я познакомилась с заводской столовой (она была общая для ВОГРЭСА, СК и ОКБА, и питались там по талонам) и «Кулинарией» – бабуля всегда давала денежку на коржик и лимонад.
Бабуля не понимала, что такое пенсия. Работала ночным сторожем в СМУ-22, у нее даже там было ружье! Она всегда мчалась по первому зову родной сестры Анны Семеновны – одинокой болезненной женщины – через весь город, отстоять в очереди за дешевыми «потрошками».
А потом еще взяла дачу на станции Синицыно, и на это у нее тоже хватало сил!
Она успела похоронить троих своих сыновей и даже одного внука, и я знаю, что с рыдающим сердцем думала светло о каждом: «Отмучился, сынок». Всегда улыбающаяся, деятельная, с палочкой-выручалочкой в руке – она ведь не дотягивалась, чтобы закрыть форточку. Повернется от плиты, улыбается – значит, рассольник будет, или тушеные кабачки на обед.
«49-76-19» – набираю номер.
«Бабуль, это я!»
«А-а, Ирочка… сыночек!»
Перелёшино.
По над дорогой растет трава. Тонкая и мягкая, она стелется густо по земле, и я вью из нее гнезда. Не для того, чтобы посадить в них пупсиков или птенчиков. Я устилаю дно гнездышка одуванчиками и листочками, и жду: вдруг кто-то поселится здесь? Божья коровка заползет – я ликую! – хоть ненадолго кто-то пожил в моем травяном домике!
Улица Советская совершенно покатая, асфальт выгнут дугой. Она не слишком оживленная в смысле дорожного движения: во времена моего детства мало у кого были машины, в основном мотоциклы, велосипеды, да и те – не для баловства, а для перевозки грузов. Здесь, в рабочем поселке при Перелешинском сахарном заводе, прошло мое детство. Поэтому мои воспоминания о городе относятся к школьному периоду: с шести месяцев и до шести лет я воспитывалась в деревне, у моей крестной матери Марии Алексеевны и ее мужа Семена Павловича. И все, что есть во мне доброго и бескорыстного, заложено в меня этими прекрасными людьми, и всем, что их окружало.
Каменный дом, вернее полдома, по улице Советской в разное время был выкрашен в разные цвета, но чаще всего я помню его небесно-голубым с белым. Окна его выходили на три стороны, и так же с трех сторон окружала его земля – плодовый сад, огород и цветник. Сколько раз я подходила вдоль забора к знакомой калитке, выкрашенной то в синий, то в зеленый. Участок то скрывался за кустарником, а то представал вдруг, как на ладони, если кустарник вырубили. Сразу за калиткой надо было почистить ноги о металлическую штуковину, торчащую из земли, потому что дорожка к дому всегда содержалась в образцовом порядке. Недаром наградная табличка «Дом высокой культуры» висела здесь на уголке здания много-много лет.
Стукнешь калиткой – и взвился до небес, захлебываясь лаем, еще невидимый пока Барсик, Марсик или Мишка (в хронологическом порядке). И выйдет крестная в простеньком платье и галошах, одетых на шерстяные носки, заулыбается – ждала! Она всегда ждала нас – сына Колю, своих племянниц Свету и меня, Сашу, хоть он приезжал редко, потом внучек. Мы были смыслом ее жизни, она – чудо-женщина, беззаветно посвятившая себя воспитанию детей, и неважно, чьи это были дети.
Доброта и бескорыстие сквозили во всех ее делах. Яблони дали богатый урожай – ни одна соседка не уходила с пустою сумкой. К свадьбе, к празднику, к школе она охапками срезала и раздавала свои цветы: астры, георгины, пионы, гладиолусы, розы.
Здесь, подле этой женщины, я научилась ходить и говорить, читать и писать, и наверное, я осталась бы здесь учиться в сельской школе, если бы мои родители не были иного мнения на этот счет. И все равно, каждые школьные каникулы автобус вез меня два с половиной часа по асфальтированной дороге, каждый изгиб которой до сих пор стоит перед глазами, в Перелёшино. Сельская жизнь исцеляла душу. Я с упоением вспоминаю то, что было так важно для меня: покой и уединение. Забраться на дерево, повыше, подальше от всех, и навыдумывать себе целый сказочный мир, глядя, как лучи солнца упорно пробивают броню густой листвы.
Однажды я узнала, что божьи коровки являются погонщиками для тли. Тля – вроде коров, за которыми приглядывают, направляют, как колхозное стадо, эти красные в точечку, важные жуки. Я долго наблюдала за насекомыми на яблоневых побегах, но потом дядя опрыскал яблони хлорофосом: тле не было места в плодовом саду, как нет места моим фантазиям в реальном мире. Семен Павлович, которого я называла «папа Сеня», занимался селекцией, и вывел свой сорт яблок, вкус которых больше нигде не найти.
Я о многом узнала именно здесь. Например, о смерти: умер дядя Валя (это было так странно: дядя с женским именем!), а еще малышка поперхнулась молоком – не откачали – в доме, где папа Сеня крыл крышу. Похороны оставили неизгладимое впечатление приглушенных голосов, запаха свечей и заплаканных лиц. И платки, платки черные!
Мы гуляли на свадьбах. Колюшкину (сына крестной) свадьбу я помню плохо, слишком мала была. Но ухитрилась с утра «побриться» опасной бритвой, вторя дядюшке, и конечно располосовала щеку.
А вот чужие свадьбы помню хорошо – их играли три дня. В первый невеста носила белое свадебное платье, а во второй и третий – нарядное, шитое люрексом, другого цвета. Для застолья натягивали «шатры» и длинные накрывали столы. Готовили сообща – все шло в дело. Ну, и гуляли – ох! Меня переодевали цыганкой, я пела частушки под гармонь. До выкупа жениху норовили подсунуть фальшивую невесту – какой-нибудь толстой тетеньке вырезали кривые зубы из картофеля, одевали в фату, и она встречала молодого «очаровательной» улыбкой. Свадьбы обычно играли в августе или по осени.
Тогда же мы с папой Сеней ездили на мотоцикле воровать навоз на колхозном поле у скотоводческой фермы. Это место внушало мне почти мистический ужас – такой длинный был навозный стог, будто могильный холм великана Святогора. И всегда там гнездились вороны. Шу! Вспорхнут, и полетели на закат с траурным карканием.
А зимы! Батюшки мои, какие у нас в Черноземье были зимы! Снегу наметет так, что я, малая, иду по расчищенной Семеном Павловичем дорожке, а снежные стены выше меня ростом встают по бокам. Барсик, а потом и Марсик, катали меня на санках, а я – Господи, какая смешная была в красном пальтишке с аппликацией-яблочком на кармашке, капюшон с меховой опушкой всегда одет поверх кроличьей круглой шапки на резинке. Обнимаю на фотографии рыжую собаку, а она с меня ростом!
У хозяйственного магазина заливали горку. Папа Сеня сварил на заводе большие саночки, чтобы кататься вместе со мной – хрупкий воз, как бы большие ребята не зашибли!
В сумерках завоет-залает пёс, и понеслось по деревне цепной реакцией. А вот уже и месяц вышел ясный, и звезды все-все видны так близко, что кажется: протяни руку, и дотронешься. В кухне тогда еще работала печь «голландка», в трубе ее завывала, металась буря. Крестная говорила с горечью: «Зови в поддувало: мать-мать, собакам тебя отдать, приходи за мной, забери меня!» Я надувала губы и молчала, как рыба, упорно называя «мамой» крестную.
Ребенком я была тем еще! Нафантазирую невесть каких страхов и создаю сразу кучу проблем.
Какой-то период мама Маруся работала ревизором. Порою, брала меня с собой. В «Промтоварный магазин» – мой детский рай. Там на полках рулонами лежали штуки ткани, а в витринах различные рюши, пуговицы и ажурные воротнички. Я получала конфеты «Гусиные лапки», «Петушиные гребешки», сантиметр для игры, и кто-то из продавщиц обучал меня отмерять ткани. Но взять ребенка с собой можно было не всегда, и крестная, укладывая меня дома спать днем, мчалась в «Дежурный» или «большой», или Хозтовары («скобяной»).
Как-то раз я проснулась, одна-одинешенька в доме. Было мне лет шесть, не меньше, а может и больше. И что там мне привиделось со сна? – а только подняла я ор на всю деревню через узкую форточку в зале: «Караул! – кричу. – Спасите! Помогите, погибаю!!»
Проходящие соседи попытались меня через форточку вытащить, побежали за крестной. И вообще, думали, что пожар или утечка газа. Ну, шутка ли? Ребенок бьется в истерике, а дверь заперта снаружи. Крестная в тот день делала ревизию в «Промтоварном», и купила мне заодно дефицитное белое шелковое платьице с воланами. Ох, и отходила она меня эти платьицем по голым ногам, поставила в угол. Но самым страшным наказанием прогремело: «Не зови меня «мамой»! Я тебе не «мама», а тетя Маша!» Горю моему не было границ. Но просить прощения я никогда не умела, а потому просидев несколько часов носом в угол, снова захлюпала:
– Не могу тебя называть тетей!
– Почему?
– У меня язык не поворачивается!..
В деревне у меня были настоящие игрушки, две куклы – София и Ольга, и еще кукла Алеша и белый медведь с набитой соломой жесткой башкой. А потом появился мой собственный Чебурашка! У куклы Софии (София Ротару) была фарфоровая голова и руки. Темная коса и красивый шелковый красный сарафан, вышитый жемчугом на передней вставке. Куклу эту старинную я получала для игры редко и относилась к ней очень бережно. И все равно со временем фарфоровая головка ее треснула под волосами, уж и не помню, я ли была тому причиной. Кукла Оля с резиновой головой, руками, ногами и пластмассовым туловищем, была кудрявая, в белых ползунках на кнопках и синем трикотажном платьице. Кто-то из предшественников намалевал на руках и щеке куклы ручкой, и чернила въелись навсегда. Но я относилась к своим игрушкам очень трепетно. Была еще кукла Алеша в красном клетчатом комбинезоне и такой же беретке над огненно-рыжими кудрями. Про нее мы с крестной пели песню «Стоит под горою Алеша…»
Тема войны так или иначе присутствовала в доме, поскольку папа Сеня, 1927 года рождения, воевал в финскую матросом на крейсере «Калинин», а в Великую Отечественную дошел до Берлина. У него было много орденов, медалей и орденских планок. Хранились они в шкатулочке, и мне давали ими поиграть. Как-то, будучи подростком, Коля обменял часть отцовских наград на марки, и не все из них удалось восстановить. И все же их оставалось много. Вспоминать о войне папа Сеня не любил. Он только рассказывал, как их в Польше учили танцевать, и начинал танцевать с нами «Под испанец», это было очень весело. В рамке хранилась наградная грамота матросу за подписью Калинина. Даже и не знаю, обычное ли это было дело. С годами грамоту убрали со стены, осталась только рамка с крейсером внизу, собственноручно Семеном Павловичем отлитая, поскольку работать на сахзаводе он начал как раз в литейном цеху.
В «Литейку» папа Сеня меня брал с собой – мне показывали «опоки», и позволяли прыгать на кучу песка – так я сеюе один раз нос расквасила. Обедали литейщики прямо там, в цеху, на газете. И я помню «Кильку в томатном соусе» – после того, как напрыгаешься, упадешь и наревешься, все кажется божественно вкусным!
А завод был такой огромный для меня маленькой, и столько впечатлений! На углу водонапорная башня, деревянная, напоминающая старинный замок. Дальше пролом в кирпичной стене и производственные цеха, здесь же была и «литейка». А потом, если двигаться по улице Рабочей – центральная проходная Перелешинского сахарного завода. Туда меня водили уже школьницей, и все-все показали. Начиная с цеха отжима, где в огромной центрифуге перетиралась сахарная свекла, далее цех очистки: вот в этом барабане крутится желтый сахар, а в следующем уже ослепительно белый, как снег! Тут мне зачерпнули сладкого «снега» в оловянную кружку. И посмотрев, как делают рафинад, я возвращалась домой с кулечком сверкающей сладости и полным карманом фантиков от сахара «К чаю», который подают в самолетах и ресторанах.
А малышкой я думала, что сахар растет у нас на яблоне. Как-то вечером Семен Павлович, вернувшись с работы, сказал: «Марусь! Пора, наверное, сахар собирать…» Крестная с ним вполне согласилась. Мне дали корзиночку, ножницы и мы пошли во двор, где в сумерках я разглядела на яблоневых ветвях подвешенные на нитках длинные бруски колотого рафинада и вагонно-ресторанные пачки с нарисованной на них чайной чашечкой. Меня подсаживали, и я срезала созревший сахар в корзину. И долго, очень долго была уверена, что сахар растет на деревьях. Уверенность моя странным образом подкреплялась услышанным где-то выражением «рубить сахарный тростник», я так и представляла, что делаю что-то в этом роде.
При обработке сахарной свеклы оставались отходы (жом). Они поступали по трубе в жомосушку. Увидев этот цех с огромным барабаном, в котором сушилось, лениво переворачиваясь, сырье, я так впечатлилась, что подготовила в школе подробный доклад с чертежами! В жомосушке я проводила много времени, поскольку Семен Павлович тогда уже был завскладом склада сухого жома. В жомосушке было очень чисто – мы переобувались в маленькой конторке на входе. Потолки высоченные, а на верхнем ярусе поигрывали в домино энергетики. Из цеха сушки жом поступал по деревянной кишке в соседнее здание – склад, и там сыпался из огромного раструба под потолком. Для тех, кто не знаком с сельским хозяйством, скажу, что сухой свекольный жом – это зимний корм для домашней скотины, его запаривают в кашу. Так что местечко у папы Сени было «блатное». Он и крестная вели важные тетради с аккуратными подсчетами, а папа Сеня время от времени рисовал на полях красивые цветочки-васильки.
Иногда по заводской узкоколейке, идущей параллельно зданию склада, подгоняли вагоны под крупную отгрузку. Их надо было сперва почистить, потому что порожняк приходил абы какой, иногда со стеклянными шариками, иногда с проволокой или битым стеклом. Для уборки вагон открывали сбоку, а почистив, закрывали наглухо и подводили отгрузочный раструб к люку в крыше. Этот момент меня очень пугал. Я представляла себя забытой в наглухо запечатанном вагоне, в который насыпается сухого пыльного жома 12-18 тонн – вот ужас!
Вообще-то с детства меня преследовали странные мистические страхи, вылившиеся в лунатизм, который, впрочем, прошел с возрастом. Однажды, я тогда еще спала в детской деревянной кроватке (почти все в таких спали, я полагаю), мне приснились ангелы и демоны. Вот уж не помню сна, но истерику свою среди ночи помню. Крестная после этого повела меня к «бабке», наверное, в каждой деревне есть такая знахарка. «Бабка» жила на Петровке, это еще до въезда в рабочий поселок, в угловой беленой хате напротив Продмага. Помню, сидели мы у печи в полумраке, и «бабка» капала воск в разогретый на сковороде мед, а потом спрашивала, что я вижу. Вердикт был странноватый: знахарка сочла, что мои страхи ногами растут из телевизора, который я в городе смотрю. Это не совсем точный диагноз, поскольку телевизор в нашем доме случался крайне редко, и то брался напрокат. Целительница содрала с мамы Маруси н-ную сумму и вручила пучок травы, которую следовало повесить над моей кроватью. Все равно я с этих пор спала между «мамой» и «папой» очень долгое время, и была абсолютно счастлива, чувствуя себя под надежной защитой. Папа Сеня рассказывал мне сказки про Синдбада-морехода, а мама Маруся научила меня читать «молитву» (в последствии оказавшуюся «заговором»), которой ее научила бабушка.
Иногда в гости наезжали Коля с женой Галей. Всегда неожиданно в сумерках подкатывал его драндулет «Иж-Юпитер». Всех охватывало радостное волнение. Крестная жарила огромную сковороду картошки, папа Сеня шел загонять мотоцикл в гараж, потеснив свой старенький «Восход-2». Коля говорил: «Здорово, мать!» Воцарялся за столом и уплетал картошку, накатив перед этим стопку свойского самогона. Галя всегда вела себя скромно, называла свекровь и свекра на «Вы»: «Вы, мама» или «Вы, папа». После позднего ужина садились забивать в «козла» пара на пару, хвалили «козырей». Помню, что «пики» крестная называла «карлы». Где-нибудь на третьем кону я засыпала, и кто-то уносил меня за шторки в красных ромбиках в бывшую Колину комнату.
По утрам Коля долго спал. Его жена убегала к своим маме и бабушке – они жили домов через десять по той же улице Советской. А я ждала, когда проснется мой великолепный, мой взрослый двоюродный брат. Видя, что он ворочается, я седлала его спину, а он сонно бурчал: «Пощипи!» И я начинала щипать дубленую жесткую шкуру на его спине – делать массаж. Потом Коля говорил: «Почеши!» – и можно было драть его спину хоть массажной щеткой. Я делала: «Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы, ехал поезд запоздалый…» Это самый супер-массаж, который я помню. У Коли на спине был шрам от пули, такой же точно (карма?), как у его матери от осколка времен ВОВ. Эту память в мирные дни он получил на службе в погранвойсках на китайской границе.
Если было время, он сажал меня в люльку «Ижа», и мы мчались на речку, распевая во весь голос: «Вот новый поворот!..» Коля лихачил и «задирал» люльку. А я визжала от страха, смешанного с восторгом.
Сама я ездить ни на чем не научилась, даже на велике не умела поворачивать. Вместо этого ставила ногу на землю и «заносила» велик, описывая дугу вокруг своего корпуса. Выглядело эффектно, скрывая мое неумение. В неспособности освоить движущие средства тоже прослеживалось что-то «кармическое». В детстве Коля катал нашу двоюродную сестру Свету на паписенином велосипеде «Украина», и ее нога попала между спиц. Результатом был перелом. Спустя десяток лет та же трагедия ждала меня, только за рулем была Света! Двойной открытый перелом на правой ноге, шутка ли! – у меня шрамы навсегда остались. А вот боли я не помню. Помню, деревенский хирург дал мне конфету «Мишка косолапый», предопределив мое последующее косолапие из-за этого перелома. Пришлось корректировать походку, только без ужасной ортопедической обуви – одним усилием воли! На трехколесном велике в пластмассовым белым сидением я ездила, а пришла пора двухколесного – пардон! Это я уже 16-ти летним подростком «Украину» оседлала. И то без права поворачивать по-человечески.
Садово-огородное хозяйство меня совершенно не увлекало. Крестная говорила, что я – ленивая. «Вот мама Таня твоя была работящей девочкой! Приду с работы – она уже полы перемыла, все тряпочки вытряхнула, яблоки, что попадали, собрала!» Я, внемля голосу разума, пошла смородину собирать. Всю под чистую собрала: и зеленую, и едва зарозовевшую, и спелую. Крестная руками всплеснула: «Баран бестолковый! Куда это годится теперь? Только на компот…»
Не со зла это я, а по незнанию – не вникала в земледелие, хоть и росла в деревне, а только на яблоне сидела и созерцала мечтательно.
В этой благодатном уголке палку в чернозем воткни – зацветет. А руки у Семена Павловича и Марии Алексеевны были золотые. У него «лунный» календарь. У нее «народный», написанный в общей тетради шариковой ручкой. Что за чтиво, не хуже И. С. Шмелева: народные приметы вперемешку с церковными праздниками. К примеру: «Илья Пророк в воду поссал». Запомнила, потому что грубо контрастировало со всем остальным. И означало это, что после дождя на Ильин День купаться нельзя больше.
Из этого самого календаря я узнала про Ивана Купалу. В совокупности с «Вечерами на хуторе близ Диканьки» повествование сие подвигло меня на отчаянный шаг. Как-то мы собирали грибы в лесопосадке напротив заброшенного кирпичного завода. Там росло великое множество папоротников. И вот в ночь на 7 июля я удрала из дома, ждать когда папоротник зацветет. Полночи просидела в холодных зарослях, мокрых от ночной росы. Сначала мечтала, как распоряжусь кладом, который можно непременно найти при помощи цветка папоротника. Потом носом захлюпала, замерзла и спать захотелось. Так что когда мотоцикл затарахтел – сама в свет фар вышла сдаваться. Это, конечно, папа Сеня был – и как они, взрослые, все узнают, обо всем догадываются? Была еще одна попытка клад искать по той же технологии. В профилактории на станции Дубовка, где мы с мамой и Сашей отдыхали однажды. Тоже ничего не вышло, хоть мне и брат помогал.
Все равно я старалась подсобить в хозяйстве, хоть и была ленивая. Собирала вишни, например. Они росли по над забором, осыпались все, и меня ставили на лестницу, обирать ягоды в ведро. Там же у разделительного штакетника бурно рос ревень. Пирог из него не пекли, зато я грызла его сочные побеги – они были кислые.
Весной крестная варила щавелевый и крапивный суп – все это было мне полезно, поскольку я была болезненная девочка, тощая, как монтировка, не смотря на все усилия меня откормить. За каникулы откармливалась только моя рожица. Выглядело это гротескно: круглолицая голова на тощем тельце.
Весной распахивали выделенный участок под картошку, и сажали оную в определенные дни. Участки эти бывали в разных местах (это для севооборота), но всегда за речкой Горячкой. Иногда мы брали лошадь, иногда тракториста просили, но позднее папа Сеня смастерил соху, и сам впрягался в нее, а я правила. Сажали в основном мелкую, «семенную» картошку, но однажды, помню, втыкали «глазки», выуживая их из консервной банки, в которой раньше сгущенка была. Наверное, год был неурожайный.
Походы на огород с папой Сеней развлекали меня чрезвычайно. Я, конечно, не любила колорадского жука собирать, зато любила купаться на Горячке. Имя свое речка получила от сточных вод, что сливались из огромных труб, проложенных от самого завода.
Маленький мостик и насыпь отделяли Горячку от Вонючки – этот второй водоем был сливом, и запах там стоял соответственный названию. Однако, на Вонючке удили рыбу, купались, и в самые худшие свои времена она была чище Воронежского Водохранилища. За мостиком густо росли кусты сирени, калины и боярышника – высоченные. Пройдешь этот «лес чудес», а там и до поселка Петровского рукой подать.
На Петровке зимой удили рыбу. Крестная и ее муж были заядлыми рыболовами. У них имелась вся оснастка для зимней и летней рыбной ловли. Сначала папа Сеня буром делал лунки. Потом мы усаживались на складные стульчики или ящик, и маленькие удочки для зимней рыбалки замирали над прорубью. Науживали за пол дня с двадцать штук окушков и жарили их потом, обваляв в муке. Крестная называла блюдо «жуй-плюй». Васька – козырной кот, который был найден моим папой на стройке, и через пару лет жития на 8-м этаже в нашем «скворечнике» перевезен в деревню, оченно окушков этих уважал. Васька – городской пижон, гонял не только местных котов, но и Барсика выжил из его будки. А ведь не скажешь! Как в дом придет – милая киса, отирается о кресную. Она поставит перед ним руки колечком, скажет: «Оп-ки!» И он «опки» делает!

