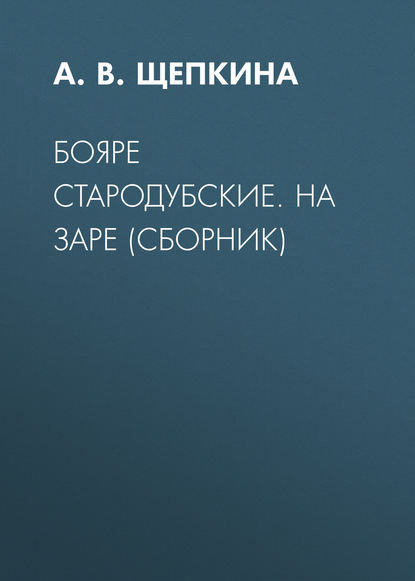 Полная версия
Полная версияБояре Стародубские. На заре (сборник)
– Гм… – откашлялся снова больной, – что же это за купец был?
– Господь его ведает! Около Ярославля, смотрю, сошли с барки и пошли вместе в город, – продолжал старик.
– Тебе следовало узнать, расспросить! – внушительно проговорил ректор. – Человек он молодой, неопытный, могут завести его Бог знает куда!
– Я спросил самого Стефана: «Как вы сюда попали?» – «По делам, – говорит, – матушка послала». Ну я поверил, – закончил Антон с притворным простодушием, хотя кривой глаз его замигал беспокойно, всматриваясь в ректора.
– Ну, ступай, – отпустил ректор рассказчика.
Но тотчас было послано за Сильвестром. Раздраженный и расстроенный больной сообщил ему, что сторож Антон видел Стефана на Волге, и спросил, не может ли Сильвестр объяснить такое странное путешествие?
Сильвестр удивился не меньше ректора и заявил совершенно искренно, что ничего не слышал о Стефане после того, как простился с ним два месяца назад и проводил его в Нижегородскую губернию, к его родным. Но, верно, все объяснится по возвращении Стефана.
Стефан Барановский скоро появился. В полдень он проходил через монастырский двор в знакомом для всех платье и с тем же кожаным мешком за плечами, с которым вышел из академии несколько месяцев тому назад. Он сильно загорел, но лицо смотрело свежо, хотя он, казалось, был озабочен и заявил, что только что выздоровел после тяжелой горячки, которую захватил в Ярославле; волосы его были очень коротко острижены, как он уверял, во время его болезни. С Сильвестром они по-братски обнялись при встрече. Как только они остались одни, Сильвестр передал Стефану, как неблагоприятна оказалась для него встреча с монастырским сторожем на барке, потому что сторож уже выболтал все ректору. Барановский предвидел это, он был недаром озабочен. Его не тотчас позвали к ректору: больной чувствовал себя хуже и отложил объяснение до другого дня. Барановскому оставались целые сутки, чтоб придумать свое оправдание. В общей столовой, ссылаясь на болезнь, отбившую у него вкус к пище, он не дотронулся до кушанья, несмотря на понукание товарищей. По окончании обеда он заявил, что пойдет к знакомому доктору. Доктор, знакомый Стефана, был родом венгерец, смолоду поселившийся на Руси и обрусевший. Его знание медицины было необширно, хоть он и ссылался на открытия древних философов. Сам он прописывал не более того, что называется теперь домашними средствами, любил пускать кровь и уверял, что природа изменила свои свойства со времен Аристотеля, судя по тому, что жаба имела прежде целительные свойства. Преимущественно прописывал он употребление магнезии и составил порошки, носившие его имя, в которые мел входил как основание в большом количестве, а запах мяты и корицы доставлял им большую популярность; с примесью ревеня они совершали чудеса и поддерживали скудные средства доктора Войтаса. Доктор был беден и одинок и очень любил посещения Стефана Барановского, забегавшего к нему побеседовать. Выйдя из столовой, Барановский отправился в самую дальнюю от академии улицу, где находилась давно известная ему еврейская корчма, в которой хозяйка держала обеды, чай и водку. Барановский поел тут и выпил за двоих и, покончив все, пошел к врачу Войтасу. Он застал его за чтением старой латинской книги. Книга тотчас была оставлена, огромные стекла очков вздвинуты на лоб, и Барановский услышал ласковый привет:
– Наконец-то я тебя дождался, повеса! Где изволил пропадать так долго?
– Болел, Вильгельм Федорович, болел на чужой стороне.
– Умру – не поверю! – воскликнул врач.
– Ваша воля! А у меня и сейчас еще жар в желудке: жжет меня вот здесь, – говорил Барановский, указывая под ложечку.
– Поел колбасы с перцем, – объяснил доктор с бесстрастным взглядом и спокойно разглаживая белую бороду и седые волоски, сохранившиеся вокруг большой лысины.
– Ничего не мог есть в рефектории.
– Это могло случиться, – заметил врач спокойно.
– Я болел горячкой, после болезни мало ем, простуживаюсь и страдаю жжением внутри, – жаловался Барановский.
– Это излечимо. Я пропишу тебе своих порошков; тебе я отпущу их даром. А пока выпей моего бальзама!
Стефан Барановский отказался от питья, но после настоятельного требования доктора выпил всего четверть рюмки, глотая быстро, как нелюбимое лекарство. Он пришел к врачу с целью получить от него мелу и знал, что получит его, если пожалуется на жжение. Таким образом Барановский приобрел порошок тонко истолченного мела, какого он не мог бы получить в лавке или приготовить дома, не возбудив подозрения, если бы кто-нибудь заприметил его покупку или работу. Теперь предстояла задача: как уйти скорее от врача, который приготовился поболтать со своим гостем? Барановский отделался после недолгой беседы, сказав, что должен был явиться к ректору. Врач махнул рукой и отпустил его. Барановский вышел от него, осторожно уложив в карман порошок мела, и, вернувшись домой, рано лег в постель. Наутро, когда все еще спали, он подмазал себя мелом так искусно, как приходилось ему не раз подмазывать себя и других в тот месяц, который он провел в Ярославле в труппе Волкова. Он был хорошо принят, как только отрекомендовал его фабрикант, за которым он последовал в город с барки. Волков был замечательной личностью того времени, себе одному обязанный своим развитием и одаренный от природы замечательным талантом артиста, он страстно относился к искусству. Его трудами и на его средства был основан первый публичный театр в России, и он же собрал первую замечательную труппу артистов. Встретив Барановского, Волков сразу понял, что и в нем зародилась такая же страсть к театру, какая была в самом Волкове, а познакомясь ближе, признал в нем большое дарование. Труппа Волкова была очень невелика, и он охотно принял даровитого любителя. Средства его театра были также невелики, и в этом отношении он мог удовлетворить только любителей искусства. Но в этой небольшой труппе Барановский нашел все далеко выше и совершеннее, чем мог себе представить. Он был так мало знаком с какими бы то ни было представлениями, кроме тех несложных церковных мистерий, в которых ему приходилось принимать участие во времена детства и которые скоро потом вышли из обычая и прекратились в церквах. Волков был самый талантливый артист своей труппы, и только любимый им приятель его Нарыков мог померяться с ним в даровитости. Стефану приходилось многому поучиться у них обоих. Но Волков уже настолько им заинтересовался, что жалел, почему он тотчас же не мог совершенно посвятить себя театру. Пока он принял его до осени, на условиях очень скромных; денег у них было немного. Содержание театра не могло окупаться при такой дешевой цене на места, какую они должны были назначать; за места на скамьях в первом ряду платили по пяти копеек меди. Большую часть расходов Волков оплачивал из своих денег, и притом, умея рисовать, сам разрисовывал декорации и занавес. Он трудился, изучая новейшие языки, и первая пьеса, дававшаяся у них при открытии театра, была переведена с итальянского языка самим же Волковым. Он надеялся, что найдет помощь в Барановском, если бы они пожелали перевести одну из греческих трагедий; притом Барановский брался переписывать пьесы и роли, за что ему назначили особую плату. На таких условиях Стефан Барановский поступил в труппу Волкова актером, суфлером и переписчиком на летнее время до конца его под именем Яковлева. Когда назначен был день для пробы его чтения и игры, он ждал его с некоторой тревогой. Он был так молод, что самая новость его положения и обстановки радовала и увлекала его, и пробного дня он ждал, как дети ждут обещанного праздника; но вместе с тем смущал его вопрос об успехе его игры!
Положение начинающего артиста было очень трудно. Взгляд на искусство тогда еще не выработался ни долголетними впечатлениями, ни сравнением сцены с жизнью. Искусство состояло в подражании древним образцам по старым преданиям. Для всего существовали раз принятые правила: как следовало ходить по сцене, какие движения и позы принимать при известном положении и ощущениях лица в пьесе, насколько и с какою силою возвышать голос или греметь им в порыве гнева и других страстей. Такие правила давали возможность выучиться играть и представлять по известным образцам, но они же стесняли каждый естественный порыв, проявление неподдельного чувства и самобытных выражений его. Как ни казались бы они необходимы артисту по его внутреннему пониманию, ему не позволялось отступать от правил. Образовавшаяся таким образом школа существовала тогда во всех европейских государствах и служила авторитетом для русской, только что зародившейся сцены. Публика только что начинала входить во вкус представлений; при всех своих недостатках они будили в публике дремавшую, неосознанную мысль и чувство и зарождали ясные взгляды на жизнь. Под влиянием первого увлечения никто не рассуждал о недостатках принятых правил, никому еще не бросалось в глаза, что они натянуты и ложны.
С живой натурой Барановского трудно было подчиняться этим правилам, он не мог вполне поладить с классическою школой, и часто у него прорывались правдивые, живые движенья и интонации голоса. Необъяснимое впечатление производил он в такие минуты на публику и на артистов. Все чувствовали, что он играл увлекательно, но не совсем еще правильно, по понятиям того времени; в один голос было решено наконец, что актер Яковлев большой талант, но которому надо было еще поучиться для усовершенствования. Стефан покорился и подражал своим уже уверенным в себе и заслуженным учителям; но в душе протестовал против такого стеснения его страстной игры; подавленное чувство артиста прорывалось в дозволенных возвышениях голоса, причем его сильный и особенно приятный орган возбуждал единодушный взрыв общего увлеченья. Так блаженно проходил для Барановского остаток лета. Словно сила чародея внезапно окружила его всем, чего так долго жаждала душа, о чем изнывала в пустоте и бездействии. Он весь погрузился в изучение ролей и забывал свою жизнь, изучая и проникаясь жизнью взятого на себя лица. Правда, нелегко было заучивать тяжелые, шероховатые стихи из пьес Сумарокова, не лучше был и язык в переводных пьесах Мольера. Это составляло мучительную, черновую сторону работы. Часто после долгого зубренья Барановский искал освежения и отдыха, прочитывая несколько строф из Горация и Овидия, насколько он помнил на память. Иногда напевал он старинную русскую песню и находил, что народ как-то складно умел сложить ее строфы. «А вот говорят, русский язык неповоротлив, не разработан и не скоро дойдет до звучности и гармонии древних языков, – думал он. – Уверяют даже, что это не в характере русского языка! А если взять за образец древние русские песни? Почему не берут?» – такие мысли ходили в голове его, как загадка. Но Боже сохрани, бывало, когда случится ему высказывать их вслух! Даже Волков не совсем ему сочувствовал в этом деле, а другие прямо смеялись и нападали на него.
– Помилуйте! – говорил Нарыков. – Народные песни, – да разве это идет, подходит ли это к высокому стилю? Разве тут есть что-нибудь классическое? Годится ли это для высокий трагедии? – внушал он Стефану.
– Вы, батюшка, недоросли еще, чтоб различить, что есть отменного в стихах наших пьес. Сударь мой, тяжело! Да ведь и жизнь наша тяжела и запутанна. Вот оно что! – учил его актер весьма посредственный, умевший только выкрикивать фразы. Он считал себя горячим и страстным и ежедневно бывал пьян к вечеру почти до беспамятства. В труппу Волкова приняли его за богатырский рост и голос, и он вымещал часто на Стефане предпочтение, которое оказывала публика новому актеру, выступившему перед ней под именем Яковлева.
В этих спорах Стефан не умел еще доказать свою мысль, но смутно чувствовал, что все эти доводы были только ложными предубеждениями. Эти столкновения, споры и мелкие неприятности не мешали его блаженному состоянию духа. Страсть его к театру развивалась, для него было решено, что он вступит в актеры, покончив занятия в академии. Выйти преждевременно значило бы наделать шуму, возбудить гонение – и огорчить матушку. Теперь август был на исходе, надо было спешить в Киев, он и так опоздал уже! В Ярославле Волков простился с ним, как с любимым товарищем, и все расстались с ним неохотно. Положено было, что он вернется в конце мая, чтоб окончательно пристроиться к их труппе с будущего года. Стефан пустился в обратный путь со счастливыми думами.
Прибыв в Нижегородскую губернию, он пробыл в родной семье не более двух дней. Передавая матери очень небольшую сумму сбереженных для нее денег, он уверил ее, что работал в Ярославле, в канцелярии воеводы. Уверить ее было не трудно в чем ему было угодно. От Артема он получил вести о Малаше. Один из крестьян, вернувшийся к старому отцу, не сумевшему бежать по дряхлости, скрывался недалеко от их села. От него слышали, что беглецы и с ними Малаша и муж ее поплыли по Волге к Астрахани, желая там приписаться к оренбургским крестьянским общинам, как дозволял это новый указ относительно «русских выходцев», к числу которых не замедлили отнести себя все беглецы.
Стефан Барановский слышал об этом указе. Он слыхал об оренбургском губернаторе Неплюеве, выхлопотавшем такие права для беглых, прибывавших в те края. Опытный и умный правитель, один из вымирающих уже людей, приготовленный для государственной деятельности во времена Петра I, – он понял пользу, которую можно было принести краю, поселяя прибывавшие туда толпы на окраинах России и в крепостях, строившихся по линии к Оренбургу. Он давал этим бродившим толпам новую жизнь на льготных условиях, при которых они становились полезными гражданами. Неплюев являлся благодетелем того края.
Барановский узнал, что муж Малаши оставил ее с другими односельчанами и скрылся в дальних башкирских степях, обещая дать им знать, как только найдет удобное вольготное место для их поселения.
Такие вести о странствиях Малаши ослабили несколько веселое настроение Стефана. Он знал, что в степях были беспрерывные восстания башкир, еще недавно перерезавших всех жителей в близлежащих крепостях. Они были усмирены с особенной ловкостью Неплюевым же, успевшим поселить разногласие между ними. Но надолго ли могли успокоиться эти дикие племена? Стефан обещал себе позаботиться и разыскать Малашу, как только он будет свободен и найдет для этого денежные средства.
Позднее возвращение Стефана в академию ставило его в затруднительное положение, приходилось искать себе какого-нибудь оправдания. Мысль сослаться на горячку пришла ему в доме матери; он попросил кузнеца Артема остричь его покороче, что кузнец выполнил как мастер своего дела. Стефану Барановскому предстояло также «как мастеру» разыграть теперь роль больного и внушить ректору участие к себе. Это была новая проба его таланта.
Спокойно вошел Барановский в комнату больного ректора, куда ему предписано было явиться. Окинув комнату беглым взглядом, он увидал сидевшего в уголке Сильвестра; он заключил из этого уже, что прием не будет очень суров, иначе Сильвестр не остался бы здесь. Сделав несколько шагов вперед, Стефан начал медленно отступать, как будто испуганный слабостью больного, в то же время почтительно кланяясь и медленно приподнимая наклоненную голову, причем лицо его, меловато-бледное, резко отличалось от его черной одежды и темных волос.
– Вы болеете? – проговорил Стефан, первый робко прерывая тягостное молчание.
– Давно уже… – ответил ректор, смягченный заявленным участием.
– Не горячкой ли, ваше преподобие? Повсюду слышно о горячках, и я чуть не скончался от нее в Ярославле.
– За каким делом попал ты в Ярославль, когда тебя давно ждут здесь? – спросил ректор строго.
– Я бы давно был здесь, если бы не болезнь, чуть не сгубившая меня, – говорил Стефан. – Если позволите, я расскажу, почему я был там.
– Объясни. Не пойму, как ты зашел туда. Слышал, тебя видели на Волге?
– Точно. Я ехал водою, потому что иное путешествие обошлось бы дороже, чем я мог издержать. Матушка желала, чтобы я съездил к ее родным и попросил определить к ним меньшого брата: они берут его к себе на будущее лето. Я только и думал переговорить и уехать обратно. Но меня там остановили, предложили мне работу, говоря, что в деревне нет занятий, а в городе я мог заработать рублей тридцать для матери. И я точно мог бы заработать, если бы не заболел.
Ректор слушал молча и начинал доверчивей всматриваться в бледное лицо и серьезную мину Стефана. Сильвестр глядел в сторону, чтобы не выдать, как был смущен необычными приемами и переменой внешности Стефана. Он делал его невольным соучастником своего обмана.
– Какие работы достал ты в городе?
– Я вел счеты в конторе одного купца-фабриканта, – смело сослался Барановский на нового знакомого. – А сверх того, мне давали работы при театре…
– Как при театре?..
– Боюсь, что вы не одобрите… – проговорил робко Стефан.
– Говори все прямо, – ободрил его ректор.
– Я по вечерам ходил переписывать роли актерам, переписывал и целые пьесы.
– Не следует знаться с такого рода людьми! – прервал ректор строго.
– Вот как случился этот грех. Останавливался я у тамошнего протоиерея Николаевской церкви Нарыкова; познакомился с сыном его. Сын этот недавно кончил в семинарии курс, и очень хорошо. Через них познакомился я с Волковым.
– Слыхал я о Волкове… – прервал его больной.
– Волков – купеческий сын, он работал в купеческой конторе по желанию своего отчима. Но с тех пор как удалось ему увидеть актеров итальянской оперы, которые играют при дворе государыни… – Барановский остановился перевести дух и положил руку на грудь с болезненной усталостью.
– Садись! – приказал ректор усталому Стефану, заинтересованный его рассказом.
– С той поры Волков получил такую страсть к театру, что вернулся в Ярославль и завел там на свой счет здание для театра и актеров. Бывает в театре весь город. Играют у него классические трагедии Сумарокова и другие классические пьесы. Волков был хорошим приятелем сына Нарыкова и пригласил его помогать ему в этом предприятии. Нарыкову самому понравилось это занятие, и теперь он поступил в труппу Волкова актером.
– Актером! Сын протоиерея?.. Да чего же смотрел отец его? Как он дозволил ему вмешаться между отверженцами, поступить на такое ничтожное занятие! Что же ты, хвалил его за это?
– Мне вмешиваться не пристало. Говорил я ему, спрашивал: «Как это вы решились принять такое звание, которое на Руси в грош не ценится! Вы ведь всю жизнь проведете в темноте и ничтожестве…»
– А что же отец его? – спрашивал больной, с горячностью приподнимаясь на своей постели.
– Он говорил, что отец был сначала против этого звания, но что его убедили. Ему напоминали, что в древности в развитых государствах уважали звание актера и талант его ставили высоко; сбегались слушать его, плакали, слушая его, исправлялись от своих недостатков. Начали убеждать его, что театр может быть очистительною силой для общества, если место актеров будут занимать люди образованные и с талантом. После всего этого – родитель уступил.
– Уступил! – воскликнул больной. – Легко сказать! Что, если все мы свернем с ума, как твой почтенный протоиерей: ведь эдак мы все уступим! Всякой блажи начнем помыкать и уступать! Что ж? И тебя, может быть, уговаривали поступить в актеры к ним? Ввергнуться в этот омут греха и сует, свернув с дороги труда и самоотреченья ради веры! Так ли? – ядовито спрашивал больной Стефана.
– Мое дело другое. Передо мной лежит другая дорога, потому я спешил вернуться сюда, снова приняться за свои занятия. И будь я человеком свободным…
– И тогда ты должен бы был помнить, как высоко стояла всегда наша Духовная академия, чем ей обязана была вся Русь! Наши ученые перенесли науку свою на север, распространяли ее, жертвуя жизнью. Они первые населяли северные пустыни, и около этих святых отшельников осмеливались селиться робкие поселяне, страшившиеся и бежавшие от вражьей силы татар-язычников! – говорил ректор с одушевлением, забывая болезнь и слабость. – И вот ты ждешь, – продолжал он с изменившимся голосом, с хрипом, – ты ждешь, когда ты сделаешься свободным человеком…
– И пойду своей дорогой… – договорил за него Барановский с притворным простодушием и спокойно.
– Гм! – промычал больной и поднял руку, протянув ее, как будто желая наложить ее на уста Стефана. – Помни, – начал он протяжно, – что, если дорога эта будет путем греха или не на пользу ближних твоих, я всюду нагоню и остановлю тебя! Помни это! Теперь – ступай, – отпустил он Стефана.
– Если позволите, сегодня я опять пойду к доктору…
– Ты, Сильвестр, проводи его и передай мне, что скажет доктор о его болезни, – приказал ректор, не доверявший Барановскому, несмотря на всю его бледность и усталость.
Присутствуя при всей этой сцене, Сильвестр Яницкий понимал смелую, опасную игру своего приятеля; он дрожал, чтобы ректор не понял, о какой дороге говорил Стефан. Яницкому было ясно, что, говоря о Нарыкове, Барановский смело излагал свои собственные мысли и оправдание своим желаньям. Вместе с тем он излагал оправдание своим поступкам в будущем. Яницкий был возмущен смелостью, звучавшей в твердой интонации и в каждой ноте голоса Барановского. В конце этой сцены Сильвестр был так же бледен, как его приятель, только естественною бледностью, от волнения. Он был очень рад, что получил приказание идти за Барановским, и мог выйти из комнаты больного, пока тот не заметил его смущения. Он шел рассерженный на Барановского за его смелые выходки.
– Вы сейчас пойдете к доктору? – спросил он его холодно, проходя по длинным коридорам и переходам, отделявшим комнату ректора от классов и рефектории.
– Я попрошу вас пройти теперь же, если вы свободны, – ласково отвечал Барановский, будто не замечая пренебрежения в голосе Сильвестра.
– Я должен выполнить, что приказано, – отвечал Сильвестр.
Приятели вышли вместе из двора академии, Сильвестр не мог говорить, потому что не мог совладать с негодованием на Барановского; он шел за ним, опустив глаза, и не замечал, какими улицами шел приятель. Рассеянно повернул он за ним в узкую улицу, шедшую немного под гору, и с удивленьем увидел, что оба они стояли у дверей жидовской корчмы, черноглазая пожилая еврейка приветливо отворяла им, приглашая войти.
– Куда вы это?.. – спросил Сильвестр приятеля.
– Я ничего не ел сегодня, – отвечал Барановский с притворною кротостью.
– Что ж вы не сказали этого прежде? – возразил Яницкий.
– Я вижу, вы осерчали? – извинялся Стефан. – Прошу вас, пройдите к доктору без меня, он вам открыто скажет все обо мне, не стесняясь моим отсутствием. А я не могу идти дальше.
Сильвестр согласился поневоле, чтобы не спорить перед еврейкой, и поскорей удалиться от такой обстановки.
– Мы увидимся с вами сегодня в саду академии, – сказал он Барановскому, холодно взглянув на него.
– Хорошо. Я выйду в сад к вечеру, перед всенощной.
Яницкий удалился быстрыми шагами от возмутившей его корчмы, где Барановский собирался подкрепить свои силы. Он был действительно утомлен и голоден. Разговор с ректором очень волновал его; несмотря на отчаянную смелость, на него находил страх, и он ждал иногда, по едкому тону ректора, что конец будет не в его пользу и мог грозить ему исключением из академии. Но, высказываясь так открыто, Барановский руководился расчетом: никакие слухи, дошедшие до начальства, никакие россказни не могли уже повредить ему: сам все слышал от него, мог сказать ректор.
Теперь, когда все окончилось лучше, чем можно было ожидать, Барановский принялся за еду с усиленным аппетитом. Он давно имел привычку ходить в эту корчму. Кроме дешевизны она представляла еще другое удобство: туда стекалось много народа из разных углов города и из пришельцев и прохожих, и можно было подчас услыхать там свежие новости из дальних концов Руси и Украины.
Корчма стояла на валу, подымавшемся вдоль улицы; правильнее будет сказать, что на валу был виден верхний этаж небольшого домика, а нижний помещался в земле, в глубине вала, служа фундаментом для верхнего и едва выглядывая из земли тремя маленькими окнами. Стены и пол корчмы помещались в глубине зеленого холма вала. Помещение это могло быть сыровато, но летом из него веяло прохладой, которая охватывала посетителя, когда он сходил вниз по четырем или пяти ступенькам лестницы, спускавшейся в просторную комнату корчмы. Комната была уставлена небольшими столами со скамьями около них. На столах были поставлены красивые чашки из гончарной глины, грязновато-белые тарелки из фаянса с синими пятнистыми узорами; из чашек пахло борщом с салом. У крайнего окна, налево от лестницы, шел вдоль стены прилавок, заваленный хлебами, бубликами и пирогами. Направо от лестницы, за особым столиком, сидела пожилая еврейка, очень добродушная, и нередко можно было встретить тут же ручного ворона, сидевшего на ее плече; они дружно делили пищу. Стефан часто садился подле нее – расспросить, что у них было нового, иногда толковал с ней о быте евреев, а иногда даже вступал в спор о их религии. Старая еврейка, говорившая на малорусском наречии, хвалила его молодой разум и в то же время доказывала ему, что каждый думает по-своему и что при всем его уме и науке можно и промах дать. «Ну поди себе, кушай!» – говорила она, чтобы кончить спор.



