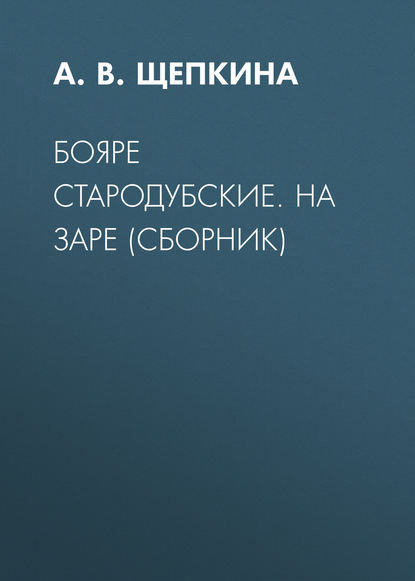 Полная версия
Полная версияБояре Стародубские. На заре (сборник)
– Как же; о нем только и говорят одно хорошее. При нем есть и еще хорошие люди. Афанасий Иванович Нарыков, например, какой человек! Молодой, а как сведущ во всем, ловок! Он ведь сынок нашего протоиерея, сначала только ради приятельства с Волковым согласился представлять у него на театре, а теперь, видно, уже по собственной охоте продолжает. Страсть к этому обуяла, вот грехи какие! Из семинарии вышел, в лицедеи пошел!
– Что ж за грехи? Вам разве не нравятся эти представления?
– Очень нравятся – посмотреть на них; часто хожу смотреть. Ну, а играть – сыну моему я бы не позволил; это только баловство одно, для этого да дела бросать.
– Каждому свое дело. Вот вы теперь видели и знаете такие пьесы, которых бы вы никогда не прочитали.
– Для нас Федор Григорьевич много сделал удовольствия, для всего города, надо ему честь отдать. На свой счет здание выстроил, а мало ли еще расходов? Плата за места недорогая, не оплатит затрат его. По благодушию своему старается, все мы ему благодарны!
– Так и выходит, что дело его благое, – доказывал Барановский, – отчего же вы не дозволили бы сыну заняться им?
– Вы это дело горячо что-то принимаете к сердцу! Вы, надо полагать, сударь, желание имеете пристать к ним…
– Нет, что вы! А правда, хотел бы я найти у них работу на каникулы.
– Из семинарии вы, должно быть?
– Да, – ответил Стефан Барановский, – из семинарии. Я мог бы пьесы им переписывать и перевести бы мог с греческого, с латыни.
– Ученый человек-с? И деньги желаете заработать, это понятное дело.
– Я еще не кончил курс в семинарии и не могу пристать к Волкову. Да и где мне играть, как у него играют, хотя я и знаю много пьес наизусть.
– Неужели? И сейчас, стало, можете эдак прогреметь что-нибудь? Попробуйте!.. Для вас это нетрудно, а уж я как люблю. Время-то и пройдет кой-как, пока до нашего города доберемся. А мне на воде тоска, заняться нечем. Ну, для меня!
Барановский согласился, чтобы задобрить фабриканта, прочесть ему и продекламировать что-нибудь. К тому же из простодушного суда этого любителя он мог узнать, подходит ли его чтение к тому, как играют в труппе Волкова.
– Извольте, для вас рад служить, постараюсь что-нибудь припомнить.
Барановский приблизился к борту барки и простоял несколько минут, собираясь с духом; припомнив один из знакомых ему монологов, он начал сначала тихо и спокойно:
Забавы, счастье проходят так, как тень,И весь наш краткий век минется так, как день;А если в животе мы чем себя прославим,Мы имя сим свое надолго жить оставим.– От-лично! От-лично, батюшка! – восклицал фабрикант расстановочно. – Вот точно как наш Нарыков! Только тот любит погромче и руками эдак взмахивает. Да и вы можете громче, у вас ведь сила голос, да и приятный какой… Прочтите сначала. Как хорошо: «Забавы, счастье проходят!..» – читал сам фабрикант, растроганный голосом Барановского и настроенный чувствительно выпитым вином.
Барановский продолжал:
Не вечно в свете жить родится человек,Но вечно будет тот иль очень долго славен,Кто в злополучии и счастии был равен.– Хорошо, хорошо это высказано, – говорил фабрикант, отирая со лба капли пота и вместе тихонько смахивая набежавшую слезу. – Вам надо прямо к Федору Григорьевичу Волкову поступать; погодите, я сам и свезу вас к нему, он меня знает. А пока у меня в доме поживете, несколько деньков вместе проведем, и прочтете нам еще что-нибудь.
– За предложение благодарю и не откажусь. Один я как в лесу буду в новом городе, не скоро отыщу.
– Ну а теперь за мои будущие услуги прочтите что-нибудь, и вам веселей будет… – просил любитель сильного чтения.
Барановский был теперь в том состоянии духа, когда человек, взволнованный удачей и надеждами, легко соглашается на просьбы. Он начал читать и перечитал почти все, что знал из разных известных в ту пору пьес. Забывая о слушателе, он увлекся наслаждением, которое находил сам в декламации размеренных строф, которые влекли его, как пенье или музыка; наслаждение это удваивалось прекрасным видом на реку, к которой он обернулся лицом, и голос его сливался с гулом волны, шумевшей будто в такт с его чтением, прибоем у берега. Барановский долго бы мог предаваться этому удовольствию, если бы два новых обстоятельства не помешали ему и не прекратили чтения. Во-первых, к барке подплывали две большие, очень длинные лодки вроде старинных расшивов, наполненные народом. На барке началась тревога; рабочие перекликались с береговыми бурлаками, тянувшими барку; побежали будить хозяина. Дело в том, что барки на Волге были далеко не безопасны от разбойников, разъезжавших и живших на ней в те времена, как не безопасны были от них и все пути России. Эти шайки разбойников составлялись из тех же беглых крестьян, скрывающихся от ревизии, на которую смотрели с особенным недоверием, или из крестьян, пробиравшихся на поселение на окраины России. Скрываясь от поисков, не имея возможности что-нибудь зарабатывать, они прибегали к грабежу на больших дорогах, сперва чтобы обеспечить свое существование, а под конец потому, что привыкали к этой дикой и нечеловеческой жизни. Такими толпами бродяг полны были муромские леса, и такие же на все готовые, оторвавшиеся от общества люди разъезжали по Волге и среди белого дня высматривали, нельзя ли пограбить барку, нагнав ее к ночи. Две лодки с такими бродягами показались невдалеке от барки, на которой плыл Барановский. Все переполошились, все бежали к борту барки, стоя у которого Барановский только что прекратил чтение, звучно разносившееся по воде. Он замолк, и в толпе затерялся его слушатель – ярославец. Но, пробираясь за ним сквозь толпу рабочих, Барановский встретил новое лицо, которого не заметил прежде на барке. Это был сторож при Киевской академии и сторож церкви Печерской лавры, старик Антон, хорошо знакомый всем ученикам академии. Это был старик сутуловатый и подслеповатый, но юркий, бодрый и любивший всюду всматриваться.
– Ты как попал сюда, отец Антон? – спросил, кланяясь ему, Барановский.
Хитрый и пронырливый старик засыпал Барановского нескончаемыми приветствиями, прежде чем принялся объяснять, как очутился он здесь; дело было в том, что он отпросился на богомолье и ехал в Соловецкий монастырь.
– Я тебя, Стефан, давно приметил, – говорил он, значительно сжимая губы и хитро прищуривая узкие, полоской прорезанные глазки. – Я тебя видел, когда ты еще бегал за вином на берег. Хотел подойти, да ты занялся с каким-то купцом, кажется, по одеже его судя. Как начал ты ему читать что-то да выкрикивать, ну, думаю, пусть его забавляется! Ведь ты мастер у нас людей морочить! Он-то не подумает теперь, что ты в монахи готовишься, чай, Бог знает за кого принял.
Стефан Барановский примолк, не зная, что сказать этому опасному свидетелю его представлений, притом любившему выслужиться, сплетничая начальству.
– Меня матушка послала по своим торговым делам в Ярославль; а оттуда я скоро поворочу в Киев, прежде тебя там буду, – уверял он сторожа.
Пока шел их разговор, рабочие на барке вооружались дубинками и кольями; они повалили все к борту и увлекли с собой богомольца, подслеповатого Антона-сторожа.
Лодки поравнялись с баркой; на них было множество народу, они катили бойко на шести и на двенадцати веслах; все они были глубоки, а часть людей сидели или лежали на дне их. Виднелись все черные, загорелые лица, обросшие длинными бородами и волосами.
В руках у них виднелись у кого ружья, у кого дубины, кой-где блестели косы и топоры. На дне лодки одни спали, спокойно протянувшись, другие лежали, облокотясь о борт, с кистенем в руках. Тут же виднелись женщины, опрятно одетые, из которых некоторые укачивали, прижимая к себе, малых грудных ребят. Когда они поравнялись с баркой, несколько человек приподнялись со дна лодки на ноги и стоя окликнули хозяина барки:
– Хозяин! Ты чем торгуешь?
– Вам на что знать? Дубинками торгую! – откликнулся хозяин.
– Может, они пополам с хлебом, так поделимся: хлеба дай нам, а дубинки себе оставь! – кричали с лодки.
– Попробуй поди возьми, – кричала толпа рабочих на барке, грозя им дубьем.
– Хозяин! Брось сколько-нибудь мешков хлеба или муки: вот те хрест честной, оставим вас в покое!
Хозяин барки молчал, угрюмо наклоня голову, всматриваясь в лодки.
– Хозяин, дай хлеба малым ребятишкам! – послышался крик с лодки. – Не заставляй грабить, ради Христа!
По распоряжению хозяина рабочие ловко перебросили на лодку несколько мешков сухарей и муки. Всматриваясь, хозяин признал по разным признакам, что то были просто беглые крестьяне, плывшие куда-нибудь скрыться по Волге.
Барановский стоял у борта бледный и не мог отвести глаз от лодки. Между стоявшими молодцами он видел, он ясно видел Бориса, мужа Малаши! Это не представилось ему – он хорошо узнал его, так хорошо, что непременно перекинулся бы с ним знаками или окликнул бы его, если б не боялся обратить внимание опасного свидетеля – сторожа академии: хорошие сведения доставил бы о нем Антон в академию, если б заметил его знакомство с беглыми.
Получив хлеба, лодки быстро повернули на воде и скоро скрылись в одном из заливов Волги. Стефан Барановский остался мрачно на страже на весь остальной день; он уж не мог развеселиться. Раздумье о судьбе Малаши сжимало ему сердце, как бывает при мысли о недавней потере любимого лица. Спустя несколько часов вдали показались на крутом берегу Волги белевшие колокольни и блиставшие на солнце кресты и купола церквей города Ярославля. Внимание всех обратилось в ту сторону, и Барановский позабыл на время о недавней встрече. «Скоро берег», – думал он, не уверенный в том, надолго ли примет его эта пристань. Он знал, что близок к пристани, к которой долго стремился в мыслях и ежедневных желаньях. Он слышал, как сердце у него громко стучало. Подъезжая к берегу, ярославский купец отыскал его и звал с собой на пристань и в город.
– Пойдем, брат! Поведу тебя прямо к себе домой, а завтра же и предоставлю тебя к Федору Григорьевичу. Смотри, каков наш город! Вон там Богоявленский собор, при нем отец Нарыкова, наш протоиерей, служит. Волков-то в соборе образ своей работы поставил: он и в этом мастер, рисует отлично. Он сам и занавес рисовал. Уж пристрою тебя, как сына!
– Тогда буду звать вас крестным! – говорил взволнованно Барановский.
Разговаривая, они сошли с барки, и, расплатившись с хозяином, Барановский пошел, взбираясь вверх, от берега, в незнакомый ему город, полный ожиданий.
Глава IV
На хуторе сержанта, где оставался Сильвестр Яницкий, все было готово для встречи именитой гостьи, графини Разумовской. Сильвестр был далек от мысли, что этот случайный проезд графини через хутор Харитоновых будет поводом к большой перемене в судьбе его и в судьбе всей семьи хозяина хутора. Быть может, что все давно было готово к таким переменам, и достаточно было самого легкого прикосновения или столкновения с новыми лицами для того, чтоб вызвать все наружу.
Когда один из провожавших графиню вестовых прискакал на хутор уведомить, что карета графини тотчас будет вслед за ним, то сержант Харитонов, одетый в лучший свой мундир и застегнутый на все пуговицы, не отходил от ворот своего дома, поглядывая, не покажется ли карета. Старый казак увещевал его уйти в дом; он сообщил им, что графиня любила, чтобы ее встречали попросту. Но вся семья собралась на крыльце дома, где казак пристально уставил глаза на Афимью Тимофеевну и развел руками, словно хотел спросить: это что за диковинка? Честолюбивая карлица нарядилась в штофное платье с фижмами, немного полинялыми от времени, и дева поклонилась казаку; она боялась пропустить первое появление кареты гостьи, желая рассмотреть подробно ее роскошный экипаж и наряд. Анна и Ольга стояли подле отца и приветливо разговаривали с казаком, успевшим стряхнуть пыль с своего дорожного казакина синего сукна, перетянутого алым шерстяным поясом. Он поправлял седые усы, хитро усмехаясь; живые глаза его глядели из-под густых бровей, напоминая глаза какой-нибудь хищной птицы, и перебегали от одной сестры к другой, когда он на вопросы их рассказывал о вкусах и привычках графини.
– Ей, барышни любезные, – говорил он с поклоном, – все у вас понравится; она любит все попросту.
Анна и Ольга были также нарядно одеты; шея Анны была украшена тяжелым ожерельем из камней, обделанных золотом. Ожерелье это было вынуто на случай из хранилища семейных драгоценностей и могло бы составить приятное приобретение нынешних любителей археологических редкостей. Ольга, осматривая тяжелое ожерелье, раздумывала: понравится ли графине, что Анна надела на себя столько драгоценных камней – если она любит все попросту? Но экипаж графини подъезжал к крыльцу, некогда было и раздумывать. Афимья Тимофеевна смотрела и думала, что ее обманывали: так просты были экипаж и наряд графини. Не то была она сама; придворная ливрея лакея, отворившего тяжелую дверцу кареты, могла убедить в том хозяина хутора. Графиня была одета в темный шелковый казакин; она и при дворе в Петербурге не расставалась с своей привычной одеждой, напоминавшей покроем платья малороссийских казачек; при ней было несколько прислуги, также одетой очень просто. Старый сержант, видевший и прежде графиню, представился ей, называя себя по имени, и по очереди подводил ей дочерей; он указал на Сильвестра как на знакомого ученика Киевской академии.
Афимья Тимофеевна готовилась было подойти с объяснением, «что и она когда-то посещала дворец царицы Прасковьи», но сержант обрезал ее на первом слове и сказал за нее: «А это наша старая тетка, вот и вся семья!» С этими словами он заставил всех посторониться, вводя графиню в дом.
Афимья посмотрела со злобою вслед сержанту. «Он нам все дело испортит», – прошептала она Анне.
Графиня была и приветлива «попросту», как выразился казак, ее провожатый. Она оставалась той же простой и умной старушкой, какою знали ее в Малороссии много лет тому назад, когда она жила бедной вдовой с двумя сыновьями в селе Лемешках в Черниговской губернии. Но с тех пор в жизни ее совершилось такое быстрое и чудное превращение, о каких она слыхала только в сказках. Пение ее старшего сына в церкви на клиросе и его привлекательная наружность были причиной такого превращения судьбы ее. Проезжий полковник был так увлечен его мягким и сильным голосом, что увез его с собою в Петербург; таким образом из сельского пастуха в деревне Лемешках, ходившего петь в церкви, Алексей Разумовский поступил в придворные певчие.
Елизавета Петровна была тогда еще далека от престола, на который ей предстояло вступить много времени спустя. Она звалась цесаревною и жила в удалении от двора. При большой набожности, которой она отличалась, часто посещала церкви, так случилось ей услышать голос Разумовского и заметить его прекрасную наружность. Голос и прекрасный малороссийский тип лица его произвели на нее сильное впечатление, и она выразила желание приблизить к себе даровитого молодого человека. По просьбе ее он был причислен к числу служащих при ней в качестве секретаря. Глубокая впечатлительность была в характере цесаревны Елизаветы, она быстро отдавалась возникавшему в ней чувству симпатии и сохраняла его надолго – если не навсегда. Сколько можно судить по бывшим близкими к ней личностям, симпатия эта возникла под впечатлением красоты, таланта или ума и образования.
Она не была изменчива в своих склонностях и была верна им, пока случайности жизни не удаляли от нее лиц, на которых сосредоточилась ее симпатия. В свою очередь ее живая душа вызывала симпатию и безграничную преданность приближенных лиц. Но многие из них увлекались корыстными целями и изменяли свою преданность, оказывались недостойными ее милостей. Но Разумовский, которому открылась блестящая карьера с ее воцарением, до конца сохранил свою преданность к ней и оставался всегда при своем прямодушии честною и светлою личностью среди вельмож, окружавших престол Елизаветы.
Ордена и титулы быстро сыпались на него с первых дней воцарения императрицы Елизаветы; прошел ряд годов, покровительство ее не ослабевало, и он скоро стал именоваться графом Разумовским и русским генералом-фельдмаршалом. Мать пожалованного графа Разумовского была вызвана к двору с меньшим своим сыном Кириллой Григорьевичем, ее окружили роскошью и почестями. Когда меньший сын ее был послан за границу для его образования, она оставалась в Петербурге, стараясь насколько могла приладиться к новой среде, привлекая к себе окружающих умом и добродушием, которые были врожденными дарами в семействе Разумовских. Вместе с счастьем семьи их расцветала и судьба родного края, до сих пор забытой и подавленной Малороссии, мало-помалу освобождавшейся от гнета тяжелого и чуждого ей управления, осмелившейся послать своих депутатов просить императрицу Елизавету об облегчении своей участи, надеясь, конечно, на ходатайство лиц, не чуждых Малороссии.
Просьба была принята милостиво; и когда, по старому обычаю, дозволено было избрать гетмана для особого управления Малороссиею, гетманом, как было упомянуто выше, был избран Кирилла Григорьевич Разумовский. Итак, старая графиня Разумовская возвращалась на родину, к своему гетману!
Она высказала хозяину, сержанту, что рада была отдохнуть у него и взглянуть на его красавиц дочек; но видимо сторонилась от Афимьи Тимофеевны, напрасно расхаживавшей около нее. За обедом, для которого хозяйка постаралась приготовить все, что можно было найти лучшего, а Афимья Тимофеевна пожертвовала лучшими павлинами из своей птичной, Разумовская поместилась рядом со старым сержантом. Она торжественно передала ему, что государыня вспомнила его, послала ему свой милостивый поклон и позволила обратиться к ней с просьбой, если он имел о чем просить ее. Сержант только поклонился, тронутый, и заявил, что ежедневно молился за Елизавету и радовался ее царствованию, продли его, Господь!
– Да, – промолвила Разумовская серьезно. – Я слышала много о вас и о всех ваших прошлых невзгодах. Слышала, что вы и родителя государыни помните и при нем служили.
Сержант беседовал с графиней о старине, она расспрашивала о его старых походах. К сожалению, к концу обеда карлица нашла случай прервать их беседу и обнаружить свое соболезнование о прошлом времени, когда держали в страхе Божием избаловавшийся ныне народ! Седой казак взглянул на нее исподлобья так строго, что она растерялась и не знала, как бы ловчее вставить свою речь; разговор меж тем перешел на древние храмы Киева, о которых расспрашивали Сильвестра. Но после обеда, когда все были весело настроены и сидели на галерее, выходившей в сад, Афимья Тимофеевна была неудержима, как бурный поток, прососавший плотину; напрасно старый сержант неодобрительно кивал ей головой и даже грозил пальцем. С похвалами старому времени она высыпала весь запас своих воспоминаний о шутках и забавах, шутах и карлах при старых дворах. Графиня Разумовская слушала ее не прерывая, но смотрела пытливо и удивленно на ее странности. От забав Афимья Тимофеевна перешла и к старым обычаям, сожалея о пытках и колесовании. Старый казак, издали наблюдавший за ней с усмешкой, заговорил теперь:
– Нам с вами, может быть, тогда все лучше казалось, потому по нас было… А другим зато теперь все больше нравится!
– Чему теперь нравиться и чем теперь забавляются, смею спросить?
– Много веселятся; даже так веселятся, – продолжал он с тонкой усмешкой, – что и дело иной раз застаивается.
– Вот, вот! Так и лучше было, когда шуты да шутихи плясали, самим-то не приходилось утомляться!
– Ныне это никого не забавляет, – толковал ей казак, – люди стали учены очень; им нужны театры, балы, маскарады. С иностранными послами, с учеными людьми разговоры ведут. А мы с вами этого не поймем, люди старые! Вам бы если б поколесовали кого-нибудь, вот бы вам представление было… А нынче императрица этого не терпит и не допускает.
– Нельзя не допускать-то. Ведь приходилось же императрице в начале царствования… Нельзя было оставить без наказания тех, кто удалял ее от престола!.. – спорила карлица.
– Даже и тех государыня помиловала, назначенной казни им не допустила, – говорила Разумовская.
– Точно так, графиня! – с поклоном ответила Афимья Тимофеевна. – Зато другие нашлись, – только покажи милость! Нашлись же такие люди, которым беспременно нужно было языки укоротить! Отыскали честную компанию…
– Перестанешь ли ты? – строго сказал сержант, потеряв всякое терпенье.
– Такими же любителями, как вы, было подстрастно! – горячо заговорил казак. – А сама императрица сердцем чует, что довольно вы терпели на Руси, что к хорошему приучать нужно! Она пытки-то вместе с вашим шутовством уничтожила!
Неизвестно, куда завел бы горячий спор; напрасно племянница силилась увести тетку, она стояла обиженная, не двигаясь с места. Но случай пришел на помощь. Крестник ее переменял в это время воду в многочисленных клетках, в которых сидели запертыми разнообразные птицы Афимьи Тимофеевны. Нечаянно ли, шутя ли, – он выпустил птичек на волю; пестрые певушки порхали одна за другой на галерею и бросались по сторонам в испуге, попав в шумную толпу людей.
– Откуда эти красивые пташки вылетели? – спросила Разумовская.
– Боже мой! Это тетушкины птицы, – живо вскричала Анна и дала новую пищу взбалмошной карлице.
– Семен! Это он! – проговорила она и поспешно выбежала в отворенную дверь дома.
Все были видимо довольны происшествию с птицами, все развеселились. Разумовская весело заговорила с Анной, подошедшей к ней.
– Вот тетушке новое горе! Теперь позабудет свой спор. Старые люди так и хвалят старые годы. Не выучила ли она и вас хвалить старое? – спросила она смело.
– О нет! Мы всегда заодно с батюшкой, не нарадуемся переменам, наступившим с правлением императрицы Елизаветы Петровны! А я считала бы за великое счастье служить при дворе государыни, если бы имела случай просить места при ней… – проговорила Анна и с сильным волнением ждала ответа.
– Если бы вы пожелали, для вас нетрудно было бы испросить место. Батюшку вашего помнит государыня, она прислала поклон ему, – сказала Разумовская.
Растроганный сержант глубоко поклонился.
– Батюшка ваш может подать просьбу императрице, мы замолвим слово за вас, – докончила графиня.
Анне оставалось только глубоко поблагодарить ее.
– Герасимов! – обратилась графиня к казаку, своему провожатому. – Запиши мне на память, что я обещала просить государыню за падчерицу Ивана Ивановича Харитонова, за Анну Ефимовскую, чтобы пожаловали ее во фрейлины.
Грамотный казак, служащий при канцелярии гетмана, вынул из бокового кармана на груди небольшую, но толстую тетрадь и вписал туда все, что приказала Разумовская; Анна преисполнена была радостью: план ее выполнялся так легко, и без ходатайства тети, которого она не желала теперь.
– А вы, может быть, тоже желали бы поступить во фрейлины государыни? – спросила графиня, обращаясь к Ольге.
– Одна из нас должна оставаться при отце, чтобы беречь его; и я охотно уступаю сестре эти почести, – ответила Ольга.
Взгляд ее при этих словах невольно скользнул по лицу Сильвестра; глаза их встретились, и оба они потупились в замешательстве.
– Бог благословит за труд, на себя взятый вами, – покоить отца на старости! – сказала графиня Ольге. – И тут Господь найдет вас и пошлет вам всякое благо.
Ольга поклонилась ей, будто получала благословенье в словах престарелой графини.
– Я сама не оставлена детьми! – докончила старушка.
Глаза Ольги снова искали Сильвестра, по привычке искать у него одобрения своим поступкам. Сержант заявил, что он о себе не заботится и на все готов для счастья дочерей, выросших на его глазах. Вечер кончился провозглашением сержанта, что они выпьют за здоровье дорогой государыни, даровавшей мир и жизнь всей Руси.
Когда Разумовская покидала хутор для дальнейшего пути, поблагодарив хозяина за гостеприимство, она просто и задушевно расцеловала молодых дочерей его. Сильвестра она просила напомнить о ней знакомым лицам Печерской лавры, которую она только что посетила. «Пусть и меня не забудут в своих молитвах», – сказала она. В добром настроении она потрепала по плечу и карлицу, говоря: «Худой мир лучше доброй ссоры. А всех не перелаешь!» – прибавила она на своем родном наречии. Карлица униженно припала к руке ее, благодаря за милость, оказанную племянницам. Афимья Тимофеевна не могла, однако, не послать гневного взгляда старому казаку, сидевшему с некоторой удалью во всей фигуре его на передке экипажа Разумовской.
Проводив гостью, еще долго поминали все умную, ласковую старуху и едкие речи казака, обращенные к тетке. Афимья Тимофеевна долго поминала, сколько она трудилась для приема гостьи, и высчитывала, чего все это ей стоило, потому что она желала задобрить гостью ради Анны!
Анна видимо изменилась после посещения графини. Она уже заранее видела себя фрейлиной и одевалась и говорила иначе, чем прежде. С Сильвестром Яницким обращалась она свысока, перестала интересоваться его книгами и рассказами. «Все это хорошо для тех, кто готовится отречься от мира», – заявила она. По целым дням читала французские книги, оставшиеся у нее от бывшей учительницы, польки; она читала, твердила, делала выписки – словом, училась, потому что французский язык был в употреблении при дворе с тех пор, как немецкий был совершенно оставлен. Все это задевало Сильвестра. Так сильно обнаружились в Анне тщеславие и гордость и, казалось, подавили все добрые свойства души ее! Он проводил все время с Ольгой, больше не к кому было ему обратиться на хуторе; сержант казался угрюм и нездоров; он был сердит на выходки Афимьи Тимофеевны при гостье.

