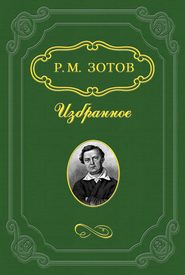 Полная версия
Полная версияДва брата, или Москва в 1812 году
Тут старик сделал тоже маленькую глупость, рассказав ей, как я ее подхватил. Она вспыхнула и замолчала.
Наше гулянье не было продолжительно. По островам нельзя было ехать в моем мокром виде, и мы воротились. Я простился с ними и уехал домой, переоделся и отправился к княгине… Я думал ее насмешить моим рассказом об этом приключении, но она сделалась очень серьезною.
20-го июля.
Что сделалось со всеми этими женщинами! Или я вовсе ничего не понимаю, или они с ума сходят. Верочка скучает и худеет, княгиня сделалась серьезна, а графиня просто сердится. Скрепя сердце я принимаю все это в шутку и кое-как отделываюсь… Чувствую, однако, что скоро потеряю терпение.
21-го июля.
Княгиня предлагает мне отправиться в армию. Что это значит? Я сам хотел, это правда, но теперь… Мне было досадно… Я отвечал, что подумаю.
22-го июля.
Мне кажется, что я в сумасшедшем доме… А всего вернее то, что я прежде всех с ума сойду. Что такое наговорила мне княгиня!.. Я два дня сижу теперь дома и не могу еще опомниться. Боюсь показаться куда-нибудь. Того и смотрю, что меня схватят и отправят в желтый дом… Боже мой! неужели княгиня права! Я являлся к ней третьего дня.
– Вам не хочется отправляться в армию?..
Вместо ответа я что-то пробормотал, как школьник, пойманный на шалости.
– А для чего вы хотите остаться? – продолжала она. – Ужели вы так хорошо научились уже лицемерить? Или вы еще сами себе не умеете дать отчета в тайной причине вашего упорства? Берегитесь, я никогда не прощу вам притворства…
– Послушайте, княгиня! Вы меня когда-нибудь заставите невольно обмануть вас. Вы мне все твердите о каких-то тайнах, о моей скрытности и опасностях. Растолкуйте мне, объясните ваши мысли, и я вам ручаюсь, что ни за что в свете не обману вас.
– Графиня думает, что мы дурно сделаем, если откроем вам глаза… Я привыкла ей верить во всем. Она гораздо лучше меня знает сердце человеческое.
– Но за что же меня почитать таким ребенком, который ничего не понимает. Это почти обидно… Я охотно вверяю вам, княгиня, судьбу мою и знаю, что она в добрых руках; но за мою преданность будьте и вы со мною откровенны… по крайней мере в том, что меня касается… Если я по неопытности моей в делах большого света и кажусь вам ребенком – то, могу уверить вас, что по чувствам моим я совершенный муж… Скажите мне, что вас беспокоит.
Долго молчала она, опустив голову, наконец устремила на меня испытующие взоры.
– Так и быть, – сказала она наконец. – Так и быть! Я вам все скажу… вы любите, вы влюблены и сами этого не знаете… Вас тоже любят с жаром первой любви и со всею искренностию невинности…
– Кто? кого? каким образом?
– Одним словом, вы соперник своего брата, вы любите Веру Турову, и она тоже без памяти в вас влюблена.
– Что за мысль? Вы ошибаетесь, княгиня… Быть не может…
Тут княгиня меня взяла за руку, быстро подвела к зеркалу и, указывая мне самому на лицо мое, сказала: «Смотрите!»
Я затрепетал и не смел отвечать. Мы опять сели, и, когда первое волнение утихло в груди, я стал рассуждать с нею хладнокровно об этом. Я ей твердил о невозможности этой страсти, о любви моей к брату, о чувствах приличия… Но она на все мои доводы качала головою и повторяла: вы все-таки любите друг друга. Наконец она мне хладнокровно перечла неоспоримые признаки любви ко мне Верочки, я согласился, что с ее стороны, может быть, что-нибудь и есть, но с моей…
– И с вашей то же самое, – сказала княгиня. – Только по вашему беспечному характеру вы еще не чувствуете всей силы этой страсти. Скоро и это будет. Змея уже заползла в вашу грудь и будет медленно и мучительно терзать ее. И чем более вы будете противиться своей страсти, тем вернее падете.
Мы замолчали. Потом я опомнился, простился с нею, дал слово испытать себя и уехал.
Вот я уж третий день дома… думаю, думаю и не смею решительно опровергнуть идеи княгини. Это вздор, сумасбродство, клевета, а все-таки есть что-то такое… Нет! я никогда не допущу себя до этого…
30-го июля.
Целую неделю испытывал я себя и Верочку, всякий день был у них и убедился, что она решительно меня любит. И я, глупец, почитал все это холодностью, бесчувственностью! Она вся любовь! Каждая жилка ее трепещет пламенным чувством! Каждый взгляд пылает губительным пожаром. А я упрекал ее в холодности! Что мне теперь делать? Любить ее я не могу; не буду! Что скажет брат мой? Что заговорит свет? Что будет всякий день твердить собственная совесть? Такой поступок был бы низок, постыден. Я бы не пережил его! Остается бежать, уехать! Но тогда что будет с нею? Отъезд мой убьет ее. Боже! спаси, вразуми меня! Я слишком слаб. Человеческих сил тут недостает!
Теперь мне ясно все прошедшее! Теперь я понимаю каждый взгляд, каждое слово, каждое движение! Чтоб испытать ее, я начал при ней говорить отцу, что намерен отправиться в армию. Она вздрогнула, но молчала и не подняла глаз.
– Неужели это может случиться? – спросил отец.
– Вы знаете службу, – отвечал я и взглянул на Веру. Она, не поднимая глаз, тихо встала и медленными шагами пошла к двери.
– Куда ты, Верочка? – спросил старик.
Она не слыхала или не имела сил отвечать и, не сказав ни слова, вышла.
– Понимаю, – сказал старик с горькою улыбкою.
– Что такое? – спросил я.
Он покачал головою и не отвечал.
Зато я слишком хорошо понял все. Она ушла в свою комнату, чтоб на свободе наплакаться, а отец знал все. Буря закипела в груди моей… Я хотел говорить, хотел броситься к ногам старика… но бог спас! Одна минута – и я опомнился.
– Что ж мне делать? посоветуйте мне, граф, – сказал я.
– Что мне вам сказать? – собственное сердце должно лучше всех дать совет… Все прочие судьи пристрастны.
– Напротив, граф! собственному-то сердцу и не надобно верить. Оно может довести до таких поступков…
Я замолчал, а старик внимательно посмотрел на меня, как бы выжидая конца моей фразы.
– Во всяком случае, – сказал граф после тщетного ожидания, – я надеюсь, что вы уведомите заранее, если на что-нибудь решитесь.
– Кого же больше, как не вас? – вскричал я. – Разве у меня, кроме вас, есть кто-нибудь на свете?
Старик был тронут до слез.
– Вы еще не уедете домой, – сказал он после некоторого молчания. – Посидите здесь, а я пойду и постараюсь успокоить Верочку.
Он ушел, а я, как преступник, прислушивался к разговору его с дочерью в ближайшей комнате. Он говорил один, а она все рыдала. Сердце мое разрывалось на части. Вот слова княгини! вот ужасное ее пророчество! вот тот змей, который грызет мою грудь. О! Это ужасное, мучительное чувство!
Вскоре они воротились. Она старалась не смотреть на меня, чтоб скрыть свои слезы, и я с удовольствием помогал ей в этой невинной хитрости. Мы возобновили разговор о незначащих предметах. Но он не клеился. Видно было, что У всякого на сердце есть совсем другое. Я не мог долго выдержать этой борьбы и уехал.
Княгине я все рассказал… Она мне опять советует уехать.
Глава II
Продолжение журнала
9-го августа.
Что будет со мною! Я погиб! Судьба моя решена – и я люблю, и как бы ни хотел скрыть мыслей своих от самого себя, но чувствую, что давно уже любил ее… любил, любил с первого взгляда.
Бедное человечество! Мы ищем средства, как бы вернее обмануть самих себя, и удивляемся, что это не удается.
Решась последовать голосу чести и долга, я отправился сегодня к Турову, чтоб объявить ему об отъезде моем в армию. К несчастию, я не застал его дома. Одна она сидела в задумчивости и пристально посмотрела на меня, когда я вошел, как бы стараясь прочесть на лице моем, с какою вестью я пришел. Верно, она прочла на нем свою участь, потому что побледнела.
Я хотел начать обыкновенный разговор и не имел духа. В самом деле, это была бы самая горькая насмешка. Я молча сел подле нее и взял ее руку. Она опустила голову и не отнимала руки, которой трепет заставил и меня трепетать. Она первая нарушила красноречивое наше молчание.
– Вы, кажется, приехали не с добрыми вестями, – сказала она едва внятным голосом.
– Если б судьба исполняла все наши желания, то, может быть, мы были бы самые несчастные создания на свете…
– Вы говорите загадками… Скажите лучше прямо и откровенно: какую весть принесли вы?
Я колебался, я видел все ее страдание…
– Вы молчите, – продолжала она с горькою улыбкою… – О! это еще ужаснее! Послушайте. Я вам дам дружеский совет… Если вы поедете в армию, то, сражаясь с неприятелями, старайтесь убивать их с одного удара, но никогда не заставляйте страдать продолжительными мучениями. Это бесчеловечно.
Я не в силах был отвечать. Сердце мое разрывалось. Я принужден был схватиться за грудь свою, чтоб вздохнуть свободнее. Что-то тяжелое душило меня.
– Знаете ли, Вера Николаевна, – сказал я наконец, – что ваш совет похож на то самое, о чем вы говорили. Он не убивает, но я бы не желал и злейшим врагам моим того мучения, которое он заставляет испытывать…
– Это почему? – спросила она таким тоном, в котором слышна была насмешка и слезы. – Разве мужчины страдают когда-нибудь? Они – цари создания – сотворены с такою твердою душою и железною волею…
– Вы правы… состав их крепче, но зато если в грудь их заползла однажды змея, то никакие усилия не вырвут ее оттуда… А женщины пострадают и забудут.
– Вы разве испытали это? – с гордостью и насмешкою спросила она.
– Так говорят о них… О мужчинах же я испытал то, что говорю.
Печально посмотрела она на меня и покачала головою.
– Так вы едете? – спросила она после некоторого молчания.
– А если б я предоставил это на ваше решение, если б я потребовал от вас рокового совета, что бы вы сказали?
– Ответ не затруднителен… Если вас ничто не удерживает… с богом!
Она махнула рукой и отвернулась, чтоб скрыть свои слезы.
– Это жестоко! Вы очень хорошо знаете, что я… отдал бы жизнь свою, чтоб остаться… Но есть другие чувства, которые не согласны с волею сердца… Это чувство долга и чести…
– То есть славолюбие… Но разве вы не ощущали этой потребности, когда брат ваш уезжал в армию? Разве честолюбие не звало вас тогда на поле битвы?..
– Я не о том говорю, Вера Николаевна, и вы меня понимаете. Что мне слава и честолюбие?.. Не эти чувства гонят меня отсюда… Другие!.. И если я уеду, то не переживу своего мучения, но если останусь… то сделаюсь самым низким и презренным человеком… Вот ужасный выбор, который предстоит мне… Возьметесь ли вы решить его?
– Для этого мне надо бы было понять вас… А так как я не имею права на ваши тайны…
Она хотела уйти.
– Постойте, – вскричал я. – Положите руку на сердце, посмотрите мне в глаза и повторите, что вы не знаете моей тайны.
– Ради бога, пустите! Чего вы от меня хотите?
– Решения судьбы моей! Теперь не время притворяться. Мы оба стоим у бездны… Если я останусь, то мы оба упадем в нее… Если ж уеду, то, может быть, я один погибну.
– Один? – вскричала она, судорожно схватя мою руку. – Послушайте, если вы смеетесь надо мною, то это слишком жестоко… Если я не умела скрыть от вас своей несчастной тайны… то умертвите меня одним ударом, но не терзайте так бесчеловечно… Что я вам сделала, бедная девушка!..
Она зарыдала и бросилась ко мне на грудь. Крепко обхватил я ее, прижал к сердцу и осмелился напечатлеть поцелуй на щеке ее, орошенной слезами. Она не противилась и рыдала.
– Милый ангел мой! возьми, возьми меня и спаси, – сказал я в беспамятстве… – Пусть я погибну, но любовь твоя заменит мне все.
– Смерть… жизнь – все с тобою! – прошептала она и обвила свои руки около моей шеи.
– Теперь к ногам отца твоего!..
– Я здесь, я плачу от радости!
Мы вскрикнули и упали в объятия графа. Он давно уж вошел и безмолвно глядел на нас.
– Теперь я умру счастлив, – сказал он. – Все мои желания исполнились.
Он опять обнял нас и заплакал.
– Я ведь говорил тебе, Верочка, что он полюбит тебя, – продолжал отец.
Молча склонила она голову на грудь мою, схватила мою руку, и, прежде чем я мог опомниться, она тихо поцеловала ее. Это выражение страсти лишило меня почти рассудка. Я бросился к ногам ее, обнял ее колени и залился слезами.
Мало-помалу мы успокоились. Весь наш восторг, все очарование были только сновидением. Пора было проснуться.
– Злой человек! Вы теперь не уедете, – сказала Верочка.
Эти слова пробудили меня.
– Нет! Я должен ехать, – вскричал я. – Но не беспокойся, милый ангел мой, я не уеду, не соединив нашу участь неразрывною цепью… Я теперь принадлежу тебе, и все силы мира не разлучат нас… Но я должен ехать, чтоб увидеть брата… Против него я сделал проступок самый низкий и ужасный… Если он так же любит, как я… а иначе и нельзя тебя любить… О! как он будет страдать, как будет проклинать меня! Я все вынесу, потому что заслужил его гнев.
И отец одобрил мое намерение видеться с братом. «Лучше перенести его упреки лично, – сказал он, – нежели допустить, чтоб известие о вашей свадьбе дошло до него по городским слухам».
После долгого совещания согласились мы, чтоб граф тотчас же уехал в Москву, чтоб я вслед за ним отправился в армию, и чтоб заехал к нему в подмосковную, обвенчался там самым скромным образом и, пробыв не более трех дней, ехал в армию.
Вот до чего довела меня судьба… Что я сделал? Что будет со мною! Я не в состоянии ни о чем думать…
Я был у княгини и все ей открыл… Она взялась тотчас же выхлопотать отправление мое в армию. Приказала, однако, съездить к графине.
Я явился, и с первого взгляда на лицо мое она угадала мою тайну.
– Вы объяснились с вашей ледяной красавицей… Вы ее любите… Поздравляю! Когда же свадьба?
Я рассказал ей, что решился ехать в армию, чтоб уведомить брата о моем поступке.
– Какая глупая идея, – сказала она. – Что вы этим хотите сделать и доказать! Ваше раскаяние! Кто ж ему поверит? Вы украли у брата своего невесту, любовницу и хотите словами убедить его в своей невинности и в своем раскаянии. Это просто насмешка! Похититель сожалеет о своем поступке, спрятав наперед то, что он украл, и будучи уверен, что никто не может у него отнять этого сокровища!.. Какая тут логика! Это просто шалость школьника.
Я совершенно растерялся от слов графини и в извинение свое пробормотал ей, что и княгиня одобрила мой план.
– Да! потому что у ней такая же романическая голова, как у вас. Вы просто смешны. Пора вам выйти из ребят и при всяком деле думать о последствиях. К чему вас поведет поездка в армию? к преждевременной ссоре с братом и больше ничего. Вы дурно против него поступили, но ведь вы не можете этого поправить. К чему же, следственно, терзаться? Напишите ему просто обо всем. Если у него есть искра здравого рассудка, то он увидит, что если б не вы, то кто-нибудь другой отбил бы у него девушку, которая его не любит. Вы ее не обольщали, не уговаривали… Скорее она сама навязалась к вам на шею… Вы увлеклись молодостию и порывом чувств, взяли ее, женились, вот и все.
Я стоял перед графинею, как школьник. Что мне было отвечать на ее слова! Я не находил в голове моей никаких идей, чтоб опровергнуть их, хотя и чувствовал в глубине сердца совсем противное.
– Впрочем, подумайте, посоветуйтесь, – сказала графиня после некоторого молчания. – Поезжайте в Москву, женитесь, поезжайте в армию… Заезжайте ко мне, я вам дам рекомендательные письма… Попробуйте своего счастия на поле битвы… Я думаю, что эта война скоро кончится… Все европейские дворы хотят нас помирить с Портою; следственно, вы скоро воротитесь. Кампания не мешает молодому человеку… Она даст вам еще лучший ход по службе. Я все это предвидела и говорила княгине… Она дурно сделала, что ускорила развязку. Без нее вы бы не скоро еще догадались, что влюблены в Турову и что она вас без памяти любит…
Я поблагодарил графиню за ее ко мне милости и откланялся.
Через несколько дней.
Несчастия мои начинаются… Люди начинают вооружаться против меня. Это иначе и быть не может! Я до сих пор слишком был счастлив.
Вчера получил я приказание явиться к главнокомандующему в столице. Он объявил, что имеет приказание отправить меня в армию. Я удивился и сказал, что третьего дня подал об этом просьбу и не думал, чтоб резолюция так скоро вышла.
Возражать было нечего. Я отвечал, что через три дня явлюсь, и уехал. Тотчас же бросился к княгине, но ее не было дома. Прибежал потом к Турову и рассказал ему потихоньку, прося передать это Верочке со всевозможною осторожностью. Потом поехал опять к княгине. Опять сказали: нет.
Я поехал тотчас же к графине и ожидал там того же. Вышло напротив… Она приняла меня необыкновенно ласково.
– Я все знаю, – сказала она. – Вы должны повиноваться и ехать… Досадно только, что свадьба ваша отложится до вашего возвращения… А мне бы ужасно хотелось посердить княгиню… Она билась со мною об заклад, что свадьба эта не состоится… что она употребит все возможные средства, чтоб не допустить вас до этого союза… Мы побранились немножко… Я приняла ее пари… (Боже мой! Эти женщины, которым я вверил судьбу мою, бились об заклад: удастся ли одной из них погубить меня!) Нельзя ли вам в эти три дня жениться как-нибудь тайно?..
– И я и Верочка готовы на все… в такое короткое время… Я военный… мне нужно дозволение начальства… Генерала моего здесь нет… а роковые три дня срока пролетят, как одна минута.
Прежде всего я воротился к Турову. Верочка уже все знала и, рыдая, упала без чувств на мои руки. Я старался успокоить, но она ничего не слушала, ничему не верила. Она только твердила, что едет со мною вместе в армию. Ужаснейшее отчаяние овладело Верочкою. Она ни за что не хотела расстаться и требовала, чтоб я ее взял с собою. Я же сам с отцом должен был успокаивать ее и уговаривать. Мы уже были обручены. Перед богом и в сердцах наших мы уже были соединены. Отсутствие мое не могло быть продолжительно. Мы тысячу раз клялись друг другу, что никакие препятствия не разлучат нас и что первая минута нашего свидания все-таки будет посвящена на совершение свадебного обряда… Да и на что нам были клятвы? Любовь наша была выше всего. Человеческая жизнь была для нее слишком коротка, мы клялись сохранить ее по смерти. Вечность и любовь!..
Бедная Верочка в обмороке – и я уехал; по письмам, которые мне дала графиня, я надеюсь, что главнокомандующий армиею отправит меня обратно в Петербург с какими-нибудь депешами. Я увижусь с братом, вымолю его прощение, ворочусь и буду счастливейшим человеком.
21-го августа.
Вот и я в армии! Главнокомандующий прочел сперва мои депеши; потом я подал ему мои рекомендательные письма, он их прочел и покачал головою.
Я рассказал ему, что хотел ехать в армию вместе с братом при начале кампании, но что обстоятельства меня остановили, что теперь я опять подал об этом просьбу.
– Что же бы вы желали теперь? – спросил главнокомандующий.
– Позвольте мне участвовать в первом сражении, которое ваше сиятельство дадите. Пошлите меня в самое опасное место и позвольте заслужить ваше внимание. Когда я ворочусь живой с поля битвы, то удостойте меня отправить обратно в Петербург с донесением о победе.
– Если я еще одержу ее, – с улыбкою прибавил он. – Хорошо, я согласен… Куда же вы хотите, чтоб я прикомандировал вас? Хотите ли при мне остаться?
– Я бы почел это особенною милостью и счастием, но… у меня есть брат… я бы хотел с ним видеться… У меня здесь мой генерал, при котором я состою генеральс-адъютантом.
– Ах да! Вы ведь при генерале Громине… хорошо же! отправьтесь к нему… Я вам дам записку к нему, а ввечеру отдам и в приказе о вашем назначении… Вы очень кстати приехали… У нас скоро будет сражение… и если мы разобьем турок, то явитесь ко мне на другой день… Я вас отправлю с донесением в Петербург.
Я откланялся и уехал.
23-го августа.
Я был у Громина. Он мне очень обрадовался… Но когда я ему рассказал все, что со мною случилось, он немного нахмурился.
– Напрасно я согласился оставить вас в Петербурге, – сказал он. – Здесь бы вы шли прямо по стезе долга и чести… а там женщины как раз собьют с нее хоть кого… Брат ваш теперь при мне. Ступайте, повидайтесь с ним… К обеду будьте у меня. Я постараюсь помирить вас.
От Громина я пошел к брату. Когда преступника ведут к допросу, то у него непременно должны быть те же самые ощущения, какие у меня были в эту минуту. А когда я его увидел, то воображал себя Каином, у которого гремящий голос бога спросит: где твой брат Авель?
Увидя меня, он изумился, по не обрадовался.
– Зачем ты приехал? – спросил он.
– Хотел с тобою видеться…
– Со мною? Что это значит? Не случилось ли чего?
Быстрый и недоверчивый взор его старался прочесть в чертах моих гибельную тайну.
– Можешь ли ты меня выслушать спокойно? – спросил я.
Он молчал несколько мгновений, потом, как бы сделав усилие над собою, сказал:
– Говори!
– Любил ли ты Турову? Любишь ли ты ее еще теперь?
– К чему этот вопрос?.. Ты хочешь мне сказать что-то ужасное… Дай мне собраться с силами… Впрочем, говори! я на все готов. Она умерла?
– Нет, жива, но…
– Боже мой! Так, верно, еще хуже!..
– Для тебя хуже… Она жена другого!
Он пристально посмотрел на меня, побледнел и отвернулся… Мы оба молчали, и это было безмолвие смерти. Оба чувствовали весь ужас своего положения, и слова не могли его выразить. Я наконец решился прервать молчание. Оставалось нанести еще удар, и самый чувствительный.
– Этого еще мало, брат, – сказал я, – ты не знаешь, кто ее муж?
Мрачно посмотрел он на меня и почти шепотом спросил:
– Кто?
– Я!..
Сказав это, я чувствовал, что силы меня оставляют, и почти без чувств опустился я на деревянную скамью.
Что еще рассказывать об этом ужасном дне, об этом печальном свидании? Мы мало говорили, но много сказали друг другу. Я отдал брату письмо от моего тестя, и оно привело его почти в изумление. Я старался представить все в самом простом и естественном виде, – брат видел в этом всю утонченность обмана. Наконец мы расстались, и навсегда. По крайней мере, брат объявил мне, что если я когда-нибудь назову его братом, то он обесчестит меня перед всеми.
– Чтоб никогда я тебя не видел, не знал, чтоб никогда о тебе ни слова не слыхал.
Это были последние его слова, которые будут греметь в ушах моих во всю жизнь, которые будут провожать меня на суд всевышнего. С растерзанным сердцем я ушел и не стыдился плакать целый час.
К обеду я пришел к Громину, но брат не являлся. Он послал за ним, но тот сказался больным и прислал рапорт, чтоб его отправили в госпиталь. Громин велел ему сказать, что мы с часу на час ожидаем сражения и что к этому времени в русском войске не бывает больных.
Я должен был пересказать Громину все наше свидание, и добрый старик, видя мое терзание, меня же старался извинить и успокоить.
Что со мною будет?
28-го августа.
Завтра сражение! Слава богу. Может быть, все мои страдания кончатся.
Я не буду искать смерти. Нет, чувствую, что жизнь мне дорога, потому что с нею сопряжена жизнь моей Веры, которая не переживет меня… Но если меня убьют… тогда… не все ли несчастия прекратятся? Я не буду знать, что после меня случится…
Журнал мой оставлю я моему брату. Он увидит из него весь ход моих несчастий и, может быть, простит меня.
Мне бы надобно было написать завещание на случай смерти… Но к чему это? Брат и без того мой наследник. Пусть он возьмет все. Вера ничего не захочет взять. Помнить же и любить меня она и без того будет во всю свою жизнь. Впрочем, я не связываю ее воли. Она еще молода. Если я погибну, то пусть она сделает чье-либо счастие… Может быть, даже сам брат мой… О! если б это случилось, то я заранее прощаю обоих. Там, в лучшем мире, нет ненависти и земной любви. Там я буду их обоих любить равно. Прощай, моя Вера, мой единственный, бесценный друг. Я люблю тебя выше всего на свете! Ты мое единственное счастие, моя радость, мое утешение! Ты, ты мое все! прощай; завтра или я полечу к тебе на радостное свидание, или с высот буду взирать на тебя и в сновидениях утешать твою печаль. Еще раз прости до завтра!
Глава III
Продолжение журнала
3-го марта 1781
Мог ли я думать, что журнал мой, который я начал таким легкомысленным образом, будет прерван такою грустною катастрофою и потом возобновлен в таком несчастном положении? Где я? Что со мною будет?.. Я в Константинополе, в плену, в неволе, и несчастная жизнь моя протечет далеко от святой родины, от милой моей Веры…
Я едва сам себе верю, читая написанные слова… А все-таки я чувствую сердечную радость, глядя на эти буквы… Я так давно не видал ничего родного, так давно не писал… Мой господин (да! у меня есть господин, который по своей воле и охоте может меня умертвить!)… мой господин долго не позволял мне иметь бумаги и чернил. Наконец, видя мою покорность судьбе, мое безропотное терпение, мой кроткий и печальный нрав, согласился на мою просьбу и позволил мне писать с тем, чтоб я своего писанья никому не передавал…



