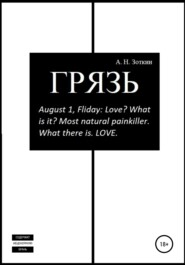скачать книгу бесплатно
В нескольких улицах от кафе творилась история. Ковенский переулок… Когда-то здесь жил сказочник, говорили, что он даже продавал счастье. Не за деньги, естественно. Но я о нём в последние годы не слышал. Мы подошли к католической церкви. С первого взгляда ее стены, облицованные грубо обработанным гранитом, окна, похожие на бойницы с цветастыми витражами, и высокая башня-колокольня с красной черепицей были похожи на средневековую крепость. Это было самое запоминающееся здание в округе.
Перед массивными деревянными дверями прихода, окованными железом, на самодельной трибуне стоял худой человек в круглых очках с тонкой металлической оправой, одетый в черный плащ, застегнутый на все пуговицы, и красный шарф, в несколько оборотов обвивающий его шею. Он громко кричал собравшимся вокруг людям:
– Кто мы для них? Гады! Нахлебники! Паразиты! Мы отвратительные, ненужные для государства. Ведь мы его критикуем. И не просто критикуем, мы видим, как оно прогнило насквозь, видим, как снова в нашей стране появился класс богатых и власть имущих людей, видим, что власть вновь передается между родственниками, видим, что она недоступна для простых людей, и мы говорим об этом!
Толпа дружно закричала в поддержку оратора. Окинул взглядом: примерно две сотни, в основном молодежь. Они полностью перекрыли улочку, кто-то залез на припаркованные рядом автомобили. Я переглянулся с товарищем, и мы молча влились в ряды слушателей. Узнать оратора с красным шарфом было легко – это был тот самый Писатель. Достаточно известный в наших краях, чтобы люди его слушали. Он не причислял себя ни к одной из партий, заявлял, что говорит то, что считает необходимым в сложившейся ситуации. Он был политиком, хотя всячески протестовал против таких слов в свой адрес.
– Знаете, что это? – Писатель показал на приход за своей спиной. – Это католическая церковь. Её строил Леонтий Бенуа, один из известнейших архитекторов нашего города. А вы слышали про русского поэта Николая Гумилева? «Я не трушу, я спокоен, Я – поэт, моряк и воин, Не поддамся палачу. Пусть клеймит клеймом позорным – Знаю, сгустком крови чёрным За свободу я плачу». Знаете, что объединяет Бенуа и Гумилёва? Этих великих людей искусства, чести, духа? Коммунисты посадили их. Они задержали еще восемьсот неугодных человек под видом дела о боевой организации, которое же сами выдумали. Сто человек расстреляли, сто отправили в концлагеря, судьбы еще двухсот неизвестны. Вот что бывает, когда мы сами отдаем власть в руки тех, кто совершенно не собирается думать о своём народе! И это власть? Это власть, которую мы хотим?! А, добрые люди?! Что вы молчите!
Но собравшиеся громко поддерживали Писателя одобрительным свистом и криками.
– Вы, – оратор обвел всех слушателей рукой. – Вы лучшие люди своего времени. Вы настоящие! И я спрашиваю вас: кто вы? Кто вы?! Рабочие? Клерки? Бухгалтеры? Секретари? Студенты? Девственники? Прилежные семьянины? Наркоманы? Белые вороны? Толстяки? Выпускники? Спортсмены? Короли и королевы бала? Никчемные лузеры? Ученые? Стриптизерши? Художники? Хулиганы? Вы те, кто прячет своё лицо или выставляют его всем напоказ? Кто вы?!
Толпа закричала невпопад. У Писателя горели глаза, он размашисто жестикулировал и ещё несколько раз задал свой последний вопрос, подогревая толпу. Мой товарищ не выдержал и закричал:
– Отбросы-мечтатели! – и спустя несколько секунд добавил: – Смерть королям! Виват, Бернадот!
В его глазах сверкали искры будущих пожаров.
– Будьте готовы к бою! – закричал оратор. – Защищайте себя, будьте особенными, и тогда эти ублюдки ничего не смогут с вами сделать! Лишите их права вершить ваши судьбы!
Его проводили громкими криками и аплодисментами. После все сразу же, будто по беззвучной команде, разошлись. Писателя нигде не было видно – слился с толпой.
Мы продолжили путь, вернувшись на улицу Маяковского. Из пекарни в одном из домов вкусно пахло выпечкой. Сколько я себя помню, в ней продавались очень вкусные улитки с ветчиной и сыром. Слоеное тесто, закрученное в форме раковины и горячая начинка, которая была выше всех похвал. Надо будет сюда как-нибудь заскочить.
Мы прошли мимо школы. Барельефы с лицами поэтов были уже давно сбиты с её стен. Стране нужны были диктаторы и патриоты, а не поэты. Поэты мир не захватят. Лишь его спасут. Но кому это нужно? На этой улице до сих пор сохранились зеленые газоны. Удивительно. Мы переходили одну улицу за другой. Каждый раз я смотрел налево и направо и видел длинные узкие улочки, окруженные непрерывной стеной домов. Машины проезжали здесь редко. Мне нравилась эта улица. Но вот мы остановились у нужной двери, набрали правильную комбинацию на домофоне с выжженными кнопками и открыли большую деревянную дверь с жутко запыленными стеклами. Когда я входил, то потрогал внутренний карман – фото было на месте.
Обитель
Наши шаги громко раздавались в просторной парадной с отвратительной плиткой в желто-черную шахматку. Мы медленно поднимались на третий этаж, вдыхая запах вечной сырости. Огромные окна на лестничных площадках выходили на небольшой двор-колодец, заросший мхом по третий этаж. Дождь нещадно бил по переходу между домами. Если бы Гарри Поттера снимали в нашей стране, то это происходило именно здесь. Лампочка на проводе вредно мигала. Он провел рукой по трещине в стене, и на ступеньки звонко посыпалась штукатурка. Он рассмеялся.
Единственная дверь на третьем этаже была выкрашена белой краской, и, наверное, её можно было назвать безупречной. Идеально белый цвет и ровная черная надпись, выведенная по трафарету: «God is Gay». Её в своё время сделал один успешный музыкант. Впоследствии он наложил на себя руки. Видно, не захотел он к своему Богу. Я остановился у этой двери. Идеальная вещь, просто отвратительно. И о чём же она?
Я сразу вспомнил ту песенку, куплеты просто проговаривались, а припевы всегда напевали на какой-то детский мотив:
Записываешь?
Я никогда не учил слова,
Я никогда не заучивал темп,
Я часто фальшивлю в игре,
Мне глубоко наплевать.
Придётся вам потерпеть,
Скоро всё будет в порядке.
Записываешь?
God is Gay, God is Gay,
Я никто, пустое место,
God is Gay, God is Gay,
Потерпите, осталось немного,
God is Gay, God is Gay…
Мы быстро зашли и оказались в царстве подлинного искусства. Непонятно как такая большая квартира попала в руки таких личностей: высокие потолки, Г-образный коридор и около двадцати комнат. Здесь всегда было людно, а над нами не было Бога.
– Островок Свободы в огромном море невежества! – он похлопал меня по плечу. – Добро пожаловать в жилище Молдорфа!
Нет, это не был догмат, мы не посягали на божественный престол, в отличие от всех церковников, что нас окружали и были в нашем печальном опыте, это была констатация факта: над нами не было Бога. Конечно, речь шла не о мифологических персонажах, неизбежно-неотвратимо составляющих наш культурный фон, а о смыслах, ценностях, убеждениях. Они в нас умерли после встречи с людьми снаружи, после наших многочисленных неудач, унижений, злостной нелюбви, причинённой нам и спасительной мысли: я просто не как они. Вот так и живём, каждый раз содрогаясь в судорогах глубинного хохота, слыша что-нибудь о заповедях. Не укради, не убий, не прелюбодействуй… Что такое это не прелюбодействуй в нашем современном мире? Как же так? А чем же я еще буду заниматься, как не курить и не прелюбодействовать, в надежде, что этот круговорот не прекратится в ближайшие годы? Стоит выглянуть в окно и понять: больше заниматься в этом абсурде решительно нечем. А ведь хотелось бы, хотелось бы стать человеком, но… Голые стены человечности вновь холодели, и по ним беспрерывно лилась талая вода из обреченных сердец, ошпаривая руки каждого, кто посмеет прикоснуться. Великое испытание огнем и холодом – но ради кого стоило его проходить?
Я слабо улыбнулся, оценив его шутку. Он подмигнул мне и через пару секунд скрылся за ближайшей дверью с торжественной табличкой, помещенной в позолоченную рамку: «Ставка Наполеона». Он закуривал на ходу, чуть ссутулившись над огоньком. Сейчас он чувствовал себя посланником Судьбы. Рядом с дверью висел простреленный портрет Бонапарта. Пуля точно легла между глаз. Последняя пуля для императора.
Я проводил его взглядом. Мой товарищ был горем своей семьи, горем настолько большим, что два рода прервались на нем: по матери и отцу в целом мире не осталось родного ему человека. Всё, будто, было для него предопределено свыше задолго до его рождения: над всем, к чему такой человек прикасался, начинало тяготеть бремя разрушения и несбыточности надежд; он отравлял мир вокруг себя и понимал это. Так он и стал оборванцем, не найдя никого, кто мог бы и хотел бы ему помочь. А оборванец – это великий артист. Надо было чем-то заняться.
Я заглянул в самую первую комнату, она была прямо напротив входа. Дверей нет, помещение узкое и длинное, больше напоминает коридор, ведущий к большому окну. Оконная рама занимает треть высокой стены. У неё стоит знакомый Писатель в красном шарфе и немолодой мужчина маленького роста в забавной шляпе. Они пристально смотрят в окно, явно за чем-то наблюдая. С улицы разносятся громкие крики: молодежь, проходящая мимо, скандирует лозунги. Наверное, очередная колонна очередной группировки.
Писатель тяжело вздохнул:
– Ну, ведь глупые, глупые… Ничем не лучше тех же жандармов. Вот зачем люди идут служить в префектуру полиции? Потому что другое делать не могут, в контроле нуждаются. Не знают, что делать, когда приказа нет. Ты им дай приказ, и они счастливые побегут его исполнять, чувствуют себя нужными. Конечно, за идею ещё идут. А они, – он ткнул пальцем в стекло. – Молодые, ничего не знают, не умеют. Мозгов для самостоятельности не хватает. Услышат, что правительство их плохое, и сразу в мятежные отряды записываются, и также приказов ждут. Ладно, хоть жандармы порядок более-менее держат, хоть какой-то толк, а они?
Писатель замолчал, продолжая грустно смотреть на улицу. Коротышка тихо сказал, повернувшись к нему:
– Они нашли своё место и людей, которые их принимают. Не вы ли делаете это же каждый день?
Человек в красном шарфе ничего не ответил. Коротышка добавил:
– И за жандармов обидно. Они хоть и приказы выполняют, но тоже люди. С семьями, моральными принципами и собственными мечтами, – он перевёл взгляд на улицу. – Слишком резко вы высказываетесь, не стоит так.
Судя по звукам с улицы, молодежь уже прошла, но они вдвоем продолжали смотреть в окно. Серый свет наполнял белую комнату. Я повернулся и, скрипя половицами, продолжил путешествие по этой коммуне.
В каждой комнате творилось своё собственное безумие. Некоторые двери наглухо заперты, другие широко распахнуты, третьи отсутствуют. Шум начала коридора переходил в звенящую тишину, царящую в последних помещениях. В следующей для меня комнате дружным кружком сидели люди в разноцветных одеждах. Они слушали, взявшись за руки, лучший альбом сержанта Пеппера. Я из коридора чувствовал их мощную кислотную ауру и решил не приближаться. Заметив алтарь из свечей и цветов в углу комнаты, я перевел взгляд на разноцветные простыни, которыми были занавешены все стены, и подумал: когда же всё это загорится? Поймут ли тогда они, что вообще происходит? Взгляд упал на миску с заваренной лапшой и я понял, куда собираюсь идти.
В соседней комнате дверь была закрыта, и, судя по звукам, там пытались воскресить Летова. Или уже воскресили. Ор стоял дикий, звук был отвратительным. Вечная весна в одиночной камере только набирала обороты. Следующая дверь – к ней топором прибит листок с надписью: «Ассоциация вольного боя на топорах». Я усмехнулся, и как бы в ответ на это что-то большое резко врезалось в дверь со стороны комнаты. Я отпрянул и побрел по коридору дальше. Небольшой кусочек штукатурки размером с яблоко упал передо мной. Я поднял голову и увидел стальные перекрытия, на которых держался потолок.
Маленькая комната под номером 15 была приоткрыта, и в ней маячила женская фигура в короткой маечке, еле-еле прикрывающей ее грудь. На этом одежда заканчивалась.
– О, я нашла, мальчики, нашла, – пискляво сказала она и остановилась, посмотрев на меня. – Славика видел?
Её загорелое лицо с маленьким округлым носиком и пухлыми губами блестело, на щеках лежал легкий румянец, каштановые волосы забраны в косу, и фигуристое тело с татуировкой-драконом на левой ноге гордо стояло посреди комнаты. Конечно, никакого Славика я не знал, о чем и сообщил.
– Капец… Ладно, найдешь – скажи ему, чтобы наконец пришел, у нас, блин, трансляция, работать надо, охренел совсем кобель этот сраный.. – Изрыгал изящный ротик грубость за грубостью, добавив в конце хамоватое: «Ага?»
Она села на ковер на полу, потрясывая бутылкой перед веб-камерой. Открыв ее, девушка подняла ее над собой, и терпкая клюква полилась по ее губам, подбородку, шее, груди… Приоткрытая дверь ее никак не смущала.
Далее шло несколько гостевых, в которых валялись матрасы с храпящими людьми, «комната кайфа», коридор делал поворот, туалет с ванной и… тяжелый металл. Музыка шла из-за приоткрытой двери с номером 86. В комнате был всего один человек. Молодой парень в джинсовой одежде с длинными растрепанными волосами нещадно бил пальцами с тяжелыми перстнями по струнам своей черной, как улыбка смерти, бас-гитаре. Свет тусклого дня освещал комнату, отбрасывая огромную тень от его комбоусилителя. На полу разбросаны пустые стеклянные бутылки. И здесь история оживала. Лицо гитариста не было видно, волосы закрывали всё, но я был готов поспорить, что сейчас по его щекам катятся слезы. Возможно, девчонка – что ещё может так ранить каждого из нас.
В коридоре я обратил внимание на зеркало, закрашенное густым слоем черной краски. Это сделал он. Даже у моего товарища были страхи. Он всегда боялся зеркал. Когда он смотрел в них, то видел себя. Поэтому он ненавидел зеркала. Я постучал пальцем по краске и пошел дальше.
В следующей комнате с открытой дверью находился знаменитый художник Вильнёв, что недавно бежал с оккупированных территорий Прибалтики. Опять набрал учеников и передавал им секреты мастерства. Видимо, у него дела идут совсем плохо, раз он пришел сюда. Десять человек с мольбертами и гордо поднятыми волевыми лицами сидели вокруг двух обнаженных натур: высокой худой женщины с волосами до талии, без единого намёка на несовершенство в лице и теле, и мужчины – на голову ниже женщины, видимо, когда-то бывшего атлетом, но дни его славы явно прошли: кожа стала дряблой, мышцы потеряли упругость, местами уже появился жирок, но глаза горели задором молодости. Мэтр ходил вокруг этого в черных брюках и рубашке, рассказывая о том, как надо писать настоящие шедевры, активно размахивая руками: при каждом взмахе его длинная, но жиденькая седая шевелюра подпрыгивала; он был поглощен самим собой.
– … – вот что в основе искусства! Художник должен быть возбужден! Идеями, перспективами и физически! Недаром Оноре де Бальзак считал, что соитие с женщинами отнимает его творческие силы. Как-то раз после бурной ночи, он вышел из своей спальни и закричал слуге: «Анри! – художник в этот момент перешел на крик. – Сегодня я потерял целый роман!» Боже! Боже мой, какой удар для культуры! Так что, если у вас не стоит, то выметайтесь отсюда! Ставьте на себе крест, вы никогда не сможете сотворить ничего великого!
В этот момент по коридору проходил какой-то парень, заглянул в эту комнату, посмотрел по углам и сказал:
– Интересненько.
И пошёл дальше по коридору.
Пока я смотрел на этого кадра, одетого в большую футболку до колен (хотя, футболка ли это?), Вильнёв взял валик для строительных работ, опустил его в ведро с красной краской и начал возить им по бедру девушки. Её лицо перёдернулось, но сразу же вновь разгладилось, она не стала протестовать против этого.
– То, что вы делаете, должно вас возбуждать, в этом смысл современности, заложенный в XX веке – погоня за наивысшим удовольствием. А что сейчас? А что сейчас? А что сейчас? Наша жизнь вновь становится бесчеловечной. А такое не может стать предметом искусства!
Он макнул валик ещё раз и резко провёл по её животу и небольшой груди.
– Это протест! Это абсурд! Это бессмыслица!
Капли краски разлетались по сторонам, падая на внешние стороны мольбертов и мужчину-натурщика. Сам мэтр оставался чист. Его ученики молча отложили карандаши для графики и взялись за кисти, добавляя в рисунки красный цвет. Лицо натурщицы скривилось, Вильнёв продолжал махать валиком и театрально кричать. Я перекрестил дверной проём и пошёл дальше по коридору.
– Это Грязь! Ничего святого! Ангелы курят и трахаются стоя! – доносилось мне вслед.
Я прошёл мимо кухни – зайду в нее в последнюю очередь. Хочется чая и отдохнуть. Но надо было заглянуть в самую дальнюю часть квартиры.
Предпоследняя комната была как всегда открыта. И её постоянный обитатель был на месте. Эта девушка в белом платье всегда танцевала под звуки дождя. Её босые ноги ловили такт мироздания и сами собой выписывали прекрасные пируэты. Комната была полностью пустой. Только барабан в углу. И всё. Для прекрасного больше и не надо. Это была единственная комната, в которой было открыто окно. Ветер вяло дотрагивался до прозрачных занавесок. Всё равно холодновато.
В последней комнате местный фотограф-самоучка с черными растрёпанными волосами, под которыми он с легкостью мог спрятать своё лицо, обустраивал всё для новой фотосессии: на стенах висят белые легкие занавески, в центре – кожаный диван, разукрашенный в серебряный цвет из баллончика, новый журнальный столик из Ikea, напольная лампа с длинной ножкой и черным абажуром, несколько стопок журналов и куча рулонов обоев, которые фотограф переносил из угла в угол. Зачем? – Искусство.
– Эй, кинь мне ту коробку! – увидев меня, сказал фотограф.
Я вопросительно кивнул головой.
– Вон ту, ту, – он нетерпеливо ткнул пальцем мне под ноги.
Я опустил взгляд и поднял лёгкую квадратную коробку из-под чайника. Она бесшумно перелетела через всю комнату и легка в руку фотографа. Поправив солнцезащитные очки на переносице, он достал из нее гирлянду с огоньками и поднял голову на меня:
– Это хорошие декорации?
– Смотря для кого.
Он расправил плечи и самодовольно поднял подбородок:
– Я Энди Уорхолл нашего поколения.
– Ну, тогда всё довольно неплохо.
Внезапно он улыбнулся и с какой-то нежной мечтательностью в голосе сказал:
– А я знал, что понравится.
Фотограф наклонился и начал обматывать «сноп» обоев гирляндой.
– А ты случаем не ту девушку из пятнадцатой фотографировать будешь?
– А? – оторвался он от обоев и как страус поднял голову. – Девушку?
– Ну, да, ту, что… С каштановыми волосами, блестящим личиком, с татуировкой в виде дракона, такая вот…
– А-а… – вяло протянул фотограф. – Нет, не её. В ней нет никакой красоты, вот скажи, – он бросил сноп и подошел ко мне. – Энди бы стал её фотографировать?
Он был на голову ниже меня и походкой напоминал неуклюжего комика.
– Думаю, нет.
– Вот-вот.
Он молча посмотрел на меня, сжав губы и подергивая левой кистью. Он был похож на Боба Дилана в его лучшие годы – такая параллель, проведенная в моей голове, помогла мне не растеряться во время этой непонятной немой сцены.
– Слушай, а что скажешь про это? – невозмутимо сказал я, достав из кармана фото с рукой.
Он медленно взял её в руки:
– Хо-хо-хо, вот это вещь! – оживился он. – Кто фотографировал?
– Я.
– Эге-гей! Так мы коллеги! – хлопнул он меня по плечу и вернул фото. – Продолжайте, продолжайте.
Он развернулся и снова взял свои обои. Я же пошел к кухне, но обернулся:
– А тебе не кажется, что мы их эксплуатируем?
– А они не делают то же самое с нами? – раздался ответ, уходящий под своды высокого потолка.
На кухню вела широкая арка без дверей. Семь столиков, отдельная комната с большим столом и небольшая кухня. Здесь было на удивление чисто, в прошлый раз здесь всё было в жутком упадке. Но это меня это сейчас не волновало: здесь была Она.
Она сидела у высоченного окна и смотрела на льющиеся с неба слезы ангелов. Я знал, что Она думала именно об этом. Все было в серых тонах. Это была серая история с начала и до конца.
– Привет, – сказал я, садясь за столик к Ней. – Я чувствовал, что ты где-то близко.
Она плавно повернула голову и нежно ответила:
– Привет. А я верила в нашу встречу. У нас есть привычка всегда находиться после разлук.