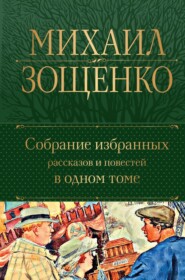
Полная версия:
Собрание избранных рассказов и повестей в одном томе
Конечно, автор понимал его грустноватое положение и даже одним словом не заикнулся о краже, но Мишель, чувствуя свою вину, попросту отворачивался от автора и не хотел вступать с ним ни в какие разговоры.
Об этом автору приходится говорить с чрезвычайно, так сказать, стесненным чувством и даже с сознанием какой-то своей вины, в то время как никакой вины, в сущности, не было.
Жизнь начинается завтра. Выручка за день.
Ночлежный дом. Сорок лет.
Неожиданные мысли. Новое решение
Автор считает нужным предупредить читателя о том, что наше повествование окончится благополучно и в конце концов счастье вновь коснется крыльями нашего друга Мишеля Синягина.
Но пока что нам придется еще немного коснуться кое-каких неприятных переживаний.
Так проходили месяцы и годы. Мишель Синягин побирался и почти всякий день отправлялся на эту свою работу либо к Гостиному Двору, либо к Пассажу.
Он становился к стенке и стоял, прямой и неподвижный, не протягивая руки, но кланяясь по мере того, как проходили подходящие для него люди. Он собирал около трех рублей за день, а иногда и больше, и вел сносную и даже сытную жизнь, кушая иной раз колбасу, студень и другие товары. Однако он задолжал за квартиру, не платя за нее почти два года, и этот долг висел теперь над ним как дамоклов меч.
Уже к нему в комнату заходили люди и откровенно спрашивали об его отъезде.
Мишель говорил какие-то неопределенные вещи и давал какие-то неясные обещания и сроки.
Но однажды вечером, не желая новых объяснений и новых натисков, он не вернулся домой, а пошел ночевать в ночлежку, или, как еще иначе говорят, на гопу, на Литейный проспект. В ту пору на Литейном, недалеко от Кирочной, был ночлежный дом, где за двадцать пять копеек давали отдельную койку, кружку чаю и мыло для умывания. Мишель несколько раз оставался здесь ночевать и в конце концов вовсе сюда перебрался со своим небольшим скарбом.
И тогда началась совсем размеренная и спокойная жизнь, без ожидания каких-то чудес и возможностей.
Конечно, собирать деньги не было занятием слишком легким. Надо было стоять на улице и в любую погоду поминутно снимать шапку, застуживая этим свою голову и простужаясь.
Но другого ничего пока не было, и другого выхода Мишель не искал.
Ночлежка с ее грубоватыми обитателями и резкими нравами, однако, значительно изменила скромный характер Мишеля.
Здесь тихий характер и робость не представляли никакой ценности и были даже, как бы сказать, ни к чему.
Грубые и крикливые голоса, ругань, кражи и мордобой выживали тихих людей или заставляли их соответственным образом менять свое поведение. И Мишель стал говорить грубоватые фразы своим сиплым голосом и, защищаясь от ругани и насмешек, нападал в свою очередь сам, безобразно ругаясь и даже участвуя в драках.
Утром Мишель убирал свою койку, пил чай и, часто не мывшись, торопливо шел на работу, иногда беря с собой замызганный парусиновый портфель, который, как бы сказать, придавал ему особенно четкий интеллигентный вид и указывал на его происхождение и возможности.
Дурная привычка последних лет – грызть свои ногти – стала совершенно неотвязчивой, и Мишель обкусывал свои ногти до крови, не замечая этого и не стараясь от этого отвыкнуть.
Так прошел еще год, итого почти девять лет со дня приезда в Ленинград. Мишелю было 42 года, но длинные и седоватые волосы придавали ему еще более старый и опустившийся вид. В мае тысяча девятьсот двадцать девятого года, сидя на скамейке Летнего сада и греясь на весеннем солнце, Мишель незаметно и неожиданно для себя, с каким-то даже страхом и торопливостью, стал думать о своей прошлой жизни: о Пскове, о жене Симочке и о тех прошлых днях, которые казались ему теперь удивительными и даже сказочными.
Он стал думать об этом в первый раз за несколько лет. И, думая об этом, почувствовал тот старый нервный озноб и волнение, которое давно оставило его и которое бывало, когда он сочинял стихи или думал о возвышенных предметах.
И та жизнь, которая ему казалась унизительной для его достоинства, теперь сияла своей небесной чистотой. Та жизнь, от которой он ушел, казалась ему теперь наилучшей жизнью за все время его существования.
Страшно взволнованный, Мишель стал мотаться по саду, махая руками и бегая по дорожкам.
И вдруг ясная и понятная мысль заставила его задрожать всем телом.
Да, вот сейчас и сию минуту он поедет в Псков, там встретит свою бывшую жену, свою любящую Симочку, с ее миленькими веснушками. Он встретит свою жену и проведет с ней остаток своей жизни в полном согласии, любви и нежной дружбе.
И, думая об этом, он вдруг заплакал от всевозможных чувств и восторга, охватившего его.
И, вспоминая те жалкие и счастливые слова, которые она ему говорила девять лет назад, Мишель поражался теперь, как он мог ею пренебречь и как он мог учинить такое явное сукинсынство – бросить такую исключительную и достойную даму.
Он вспоминал теперь каждое слово, сказанное ею. Да, это она ему сказала, и она молила судьбу, чтоб он был больной, старый и хромой, предполагая, что тогда он вернется к ней.
И, еще более взволновавшись от этих мыслей, Мишель побежал сам не зная куда.
Быстрая ходьба несколько утихомирила его волнение, и тогда, торопясь и не желая терять ни одной минуты, Мишель отправился на вокзал и там начал расспрашивать, когда и с какой платформы отправляется поезд.
Но, вспомнив, что у него было не больше одного рубля денег, Мишель снова задрожал и стал спрашивать о цене билета.
Проезд до Пскова стоил дороже, и Мишель, взяв билет до Луги, решил оттуда как-нибудь добраться до своего сказочного города.
Он приехал в Лугу ночью и крепко заснул на сложенных возле полотна шпалах.
А чуть свет, дрожа всем телом от утренней прохлады и волнения, Мишель вскочил на ноги и, покушав хлеба, пошел в сторону Пскова.
Возвращение. Родные места. Свидание с женой.
Обед. Новые друзья. Служба. Новые мечты.
Неожиданная болезнь
Мишель пошел по тропинке вдоль полотна железной дороги, шагая сначала в какой-то нерешительности и неуверенности. Потом он прибавил шагу и несколько часов подряд шел, не останавливаясь и ни о чем не думая.
Вчерашнее его волнение и радость сменились тупым безразличием и даже апатией. И он шел теперь, двигаясь по инерции, не имея на это ни воли, ни особой охоты.
Было прелестное майское утро. Птички чирикали, с шумом вылетая из кустов, около которых проходил Мишель.
Солнце все больше и больше пекло ему плечи, и ноги, обутые в галоши, стерлись и устали от непривычной ходьбы.
В полдень Мишель, утомившись, присел на край канавы и, обняв свои колени, долго сидел, не двигаясь и не меняя позы.
Белые неподвижные облака на горизонте, молодые листочки деревьев, первые желтые цветы одуванчика напомнили Мишелю его лучшие дни и снова заставили его на минуту взволноваться о тех возможностях, которым он шел навстречу.
Мишель растянулся на траве и, глядя в синеву неба, снова почувствовал какую-то радость успокоения.
Но эта радость была умеренная. Это не была та радость и тот восторг, которые охватывали Мишеля в дни его молодости.
Нет, он был другим человеком, с другим сердцем и с другими мыслями.
Неизвестно, правда ли это, но автору одна девушка, окончившая в прошлом году стенографические курсы, рассказала, что будто в Африке есть какие-то животные, вроде ящериц, которые при нападении более крупного существа выбрасывают часть своих внутренностей и убегают, с тем чтобы в безопасном месте свалиться в бессознательном состоянии и лежать на солнце, покуда не нарастут новые органы. А нападающий зверек прекращает погоню, довольствуясь тем, что ему дали.
Если это так, то восхищение автора перед явлением природы наполняет его новым трепетом и жаждой жить.
Мишель не был похож на такую ящерицу: он сам нападал и сам хватал своих врагов за загривок, но в схватке он, видимо, тоже растерял часть своего добра и сейчас лежал пустой и почти безразличный, не зная, собственно, зачем он пошел и хорошо ли это он сделал.
Через два дня, отдыхая почти каждый час и ночуя в кустах, Мишель пришел в Псков, вид которого заставил забиться его сердце.
Мишель прошел по знакомым улицам и вдруг очутился у своего дома, с тоской заглядывая в его окна и до боли сжимая свои руки.
И, открыв плечом калитку ворот, он вошел в сад, в тот небольшой, тенистый сад, в котором когда-то писались стихи и в котором когда-то сидели тетка Марья, мамаша и Симочка.
Все было так же, как и девять лет назад, только дорожки сада были запущенны и заросли травой.
Те же две высокие ели росли у заднего крыльца, и та же собачья будка без собаки стояла возле сарайчика.
Несколько минут стоял Мишель неподвижно как изваяние, созерцая эти старые и милые вещи. Но вдруг чей-то голос вернул его к действительности. Старая, завернутая в белую косынку, старуха, беспокойно глядя на него, спросила, зачем он сюда пришел и что ему нужно.
Путаясь в словах и со страхом называя фамилии, Мишель стал расспрашивать о бывших жильцах, об арендаторе дома и о Серафиме Павловне, его бывшей жене.
Старуха, приехавшая сюда недавно, не могла удовлетворить его любопытство, однако указала адрес, где теперь проживала Симочка.
Через полчаса Мишель, унимая сердцебиение, стоял у дома на Басманной улице.
Он постучал и, не дожидаясь ответа, открыл дверь и шагнул на порог кухни.
Молодая женщина в переднике стояла у плиты, держа в одной руке тарелку, другой рукой, вооруженной вилкой, она доставала вареное мясо из кипящей кастрюльки.
Женщина сердито посмотрела и, нахмурившись, приготовилась закричать на вошедшего, но вдруг слова замерли на ее губах.
Это была Серафима Павловна, это была Симочка, сильно изменившаяся и постаревшая.
Ах, она очень похудела. Когда-то полненький ее стан и круглое личико были неузнаваемые и чужие.
У нее было желтоватое, увядшее лицо и короткие, обстриженные волосы.
– Серафима Павловна, – тихо сказал Мишель и шагнул к ней.
Она страшно закричала, металлическая тарелка выпала из ее рук и со звоном и грохотом покатилась по полу. И вареное мясо упало в кастрюлю, разбрызгивая кипящий суп.
– Боже мой, – сказала она, не зная что сделать и что сказать.
Она подняла тарелку и, пробормотав: «сейчас», – скрылась за дверью.
Через минуту она снова вернулась в кухню и, робко протянув руку, попросила Мишеля сесть. Не смея к ней подойти и страшась своего вида, Мишель сел на табурет и сказал, что вот он, наконец, пришел и что вот у него какое печальное положение.
Он говорил тихим голосом и, разводя руками, вздыхал и конфузился.
– Боже мой, боже мой, – бормотала молодая женщина, с тоской ломая свои руки.
Она смотрела на его одутловатое лицо и на грязное тряпье его костюма и беззвучно плакала, не соображая, что делать.
Но вдруг из комнаты вышел муж Серафимы Павловны и, видимо уже зная в чем дело, молча пожал Мишелю руку и, отойдя в сторону, присел на другую табуретку возле окна.
Это был гр. Н., заведывающий кооперативом, немолодой уже – и скорей пожилой – человек, толстоватый и бледный.
Сразу поняв, в чем дело, и сразу оценив положение и своего неожиданного соперника, он стал говорить веским и вразумительным тоном, советуя Серафиме Павловне позаботиться о Мишеле и принять в нем участие.
Он предложил Мишелю временно поселиться у них в доме, в верхней летней комнатке, поскольку уже в достаточной мере тепло.
Они обедали втроем за столом и, кушая вареное мясо с хреном, изредка перекидывались словами относительно дальнейших шагов.
Муж Серафимы Павловны сказал, что службу сейчас найти крайне легко и что безработных сейчас все меньше и меньше на бирже труда, так что в этом он не видит никакого затруднения. И это обстоятельство позволит, вероятно, Мишелю даже выбирать себе службу из нескольких предложений. Во всяком случае, об этом тревожиться не надо. Временно он будет проживать у них, а там, в дальнейшем, будет видно. Мишель, не смея поднять глаз на Симочку, благодарил и жадно пожирал мясо и хлеб, запихивая в рот большие куски.
Симочка также не смела на него смотреть и только изредка бросала взгляды, по временам бормоча: «боже мой, боже мой».
Мишелю устроили верхнюю комнату, поставив туда парусиновую кушетку и небольшой туалетный стол.
Мишель получил кое-какое белье и старый люстриновый пиджак и, умывшись и побрив свои щеки, с какой-то радостью облачился во все свежее и с радостью долго разглядывал себя в зеркало, поминутно благодаря своего благодетеля.
Сильные треволнения и ходьба страшно его утомили, и он, как камень, заснул у себя наверху.
Ночью, часов в одиннадцать, ничего не понимая и не соображая, где он находится, Мишель проснулся и вскочил со своего ложа.
Потом, вспомнив о случившемся, он присел у окна и стал вспоминать о всех словах, сказанных за день.
И, просидев около часу, он вдруг почувствовал голод.
Вспоминая сытный, питательный обед, который он жадно и без разбора проглотил, Мишель тихой и вороватой походкой спустился вниз, в кухню, с тем, чтобы пошарить там и снова подкрепить свои силы.
Он осторожно по скрипучим половицам вошел в кухню и, не зажигая света, стал шарить рукой по плите, отыскивая какую-нибудь еду.
Серафима Павловна вышла на кухню, дрожа всем телом и думая, что Мишель пришел с ней поговорить, объясниться и сказать то, чего не было сказано, подошла к нему, взяла его за руку и начала что-то лепетать взволнованным шепотом.
Сначала страшно испугавшись, Мишель понял, в чем дело и, держа в руке кусок хлеба, безмолвно слушал слова своей бывшей возлюбленной.
Она говорила ему, что все изменилось и все прошло, что, вспоминая о нем, она, правда, продолжала его любить, но что сейчас ей кажутся ненужными и лишними какие-либо новые шаги и перемены. Она нашла свою тихую пристань и больше ничего не ищет.
Мишель, по простоте душевной, тотчас ответил, что этих перемен он и не ожидает, но что он будет рад и счастлив, если она позволит ему временно проживать в ихнем доме.
И, жуя хлеб, Мишель благодарно пожимал ее ручки, прося не очень за него беспокоиться и не очень волноваться.
Через несколько дней, отъевшись и приведя себя в порядок, Мишель получил работу в управлении кооперативов.
Угасавшая жизнь снова вернулась к Мишелю, и, сидя за обедом, он делился своими впечатлениями за день и строил разные планы о будущих возможностях, говоря, что теперь он начал новую жизнь, и что теперь он понял все свои ошибки и все свои наивные фантазии, и что он хочет работать, бороться и делать новую жизнь.
Серафима Павловна с мужем дружески беседовали с ним, сердечно радуясь его успехам и возрождению.
Так проходили дни и месяцы, и ничто не омрачало жизнь Мишеля.
Но в феврале тысяча девятьсот тридцатого года Мишель, неожиданно заболев гриппом, который осложнился воспалением легких, умер почти на руках у своих друзей и благодетелей.
Симочка страшно плакала и долго не находила себе места, проклиная себя за то, что она не сказала Мишелю всего, что хотела и что думала.
Мишель был похоронен на б. монастырском кладбище. Могила его и посейчас убирается живыми цветами.
Рассказы
Рассказы Назара Ильича господина Синебрюхова
Предисловие[2]
Я такой человек, что все могу… Хочешь – могу землишку обработать по слову последней техники, хочешь – каким ни на есть рукомеслом займусь, – все у меня в руках кипит и вертится.
А что до отвлеченных предметов – там, может быть, рассказ рассказать или какое-нибудь тоненькое дельце выяснить, – пожалуйста: это для меня очень даже просто и великолепно.
Я даже, запомнил, людей лечил.
Мельник такой жил-был. Болезнь у него, можете себе представить, – жаба болезнь. Мельника того я лечил. А как лечил? Я, может быть, на него только и глянул. Глянул и говорю: да, – говорю, – болезнь у тебя жаба, но ты не горюй и не пугайся – болезнь эта неопасная, и даже прямо тебе скажу – детская болезнь.
И что же? Стал мой мельник с тех пор круглеть и розоветь, да только в дальнейшей жизни вышел ему перетык и прискорбный случай…
А на меня многие очень удивлялись. Инструктор Рыло, это еще в городской милиции, тоже очень даже удивлялся.
Бывало, придет ко мне, ну, как к своему задушевному приятелю.
– Ну что, – скажет, – Назар Ильич товарищ Синебрюхов, не богат ли будешь печеным хлебцем?
Хлебца, например, я ему дам, а он сядет, запомнил, к столу, пожует-покушает, ручками этак вот раскинет.
– Да, – скажет, – погляжу я на тебя, господин Синебрюхов, и слов у меня нет. Дрожь прямо берет, какой ты есть человек. Ты, – говорит, – наверное, даже державой управлять можешь.
Хе-хе, хороший был человек инструктор Рыло, мягкий.
А то начнет, знаете ли, просить: расскажи ему что-нибудь такое из жизни. Ну я и рассказываю.
Только, безусловно, насчет державы я никогда и не задавался: образование у меня, прямо скажу, не какое, а домашнее. Ну а в мужицкой жизни я вполне драгоценный человек. В мужицкой жизни я очень полезный и развитой.
Крестьянские эти дела-делишки я ух как понимаю. Мне только и нужно раз взглянуть как и что.
Да только ход развития моей жизни не такой.
Вот теперь, где бы мне пожить в полное свое удовольствие, я крохобором хожу по разным гиблым местам, будто преподобная Мария Египетская.
Да только я не очень горюю. Я вот теперь дома побывал и – нет, не увлекаюсь больше мужицкой жизнью.
Что ж там? Бедность, блекота и слабое развитие техники.
Скажем вот про сапоги.
Были у меня сапоги, не отпираюсь, и штаны, очень даже великолепные были штаны. И, можете себе представить, сгинули они – аминь – во веки веков в собственном своем домишке.
А сапоги эти я двенадцать лет носил, прямо скажу, в руках. Чуть какая мокрень или непогода – разуюсь и хлюпаю по грязи… Берегу.
И вот сгинули…
А мне теперь что? Мне теперь в смысле сапог – труба.
В германскую кампанию выдали мне сапоги штиблетами – блекота. Смотреть на них грустно. А теперь, скажем, жди. Ну, спасибо, война, может, произойдет – выдадут. Да только нет, годы мои вышли, и дело мое на этот счет гиблое.
А все, безусловно, бедность и слабое развитие техники.
Ну а рассказы мои, безусловно, из жизни, и все воистинная есть правда.
Великосветская историяФамилия у меня малоинтересная – это верно: Синебрюхов, Назар Ильич.
Ну да обо мне речь никакая – очень я даже посторонний человек в жизни. Но только случилось со мной великосветское приключение, и пошла оттого моя жизнь в разные стороны, все равно как вода, скажем, в руке – через пальцы, да и нет ее.
Принял я и тюрьму, и ужас смертный, и всякую гнусь… И все через эту великосветскую историю.
А был у меня задушевный приятель. Ужасно образованный человек, прямо скажу – одаренный качествами. Ездил он по разным иностранным державам в чине камендинера, понимал он даже, может, по-французскому и виски иностранные пил, а был такой же, как и не я, все равно, – рядовой гвардеец пехотного полка.
На германском фронте в землянках, бывало, удивительные даже рассказывал происшествия и исторические всякие там вещички.
Принял я от него немало. Спасибо! Многое через него узнал и дошел до такой точки, что случилась со мной гнусь всякая, а сердцем я и посейчас бодрюсь.
Знаю: Пипин Короткий… Встречу, скажем, человека и спрошу: а кто есть такой Пипин Короткий?
И тут-то и вижу всю человеческую образованность, все равно как на ладони.
Да только не в этом штука.
Было тому… сколько?.. четыре года взад. Призывает меня ротный командир, в чине – гвардейский поручик и князь ваше сиятельство. Ничего себе. Хороший человек.
Призывает. Так, мол, и так, – говорит, – очень я тебя, Назар, уважаю, и вполне ты прелестный человек… Сослужи, – говорит, – мне еще одну службишку.
Произошла, – говорит, – Февральская революция. Отец староватенький, и очень я даже беспокоюсь по поводу недвижимого имущества. Поезжай, – говорит, – к старому князю в родное имение, передай вот это самое письмишко в самые, то есть, его ручки и жди, что скажет. А супруге, – говорит, – моей, прекрасной полячке Виктории Казимировне, низенько поклонись в ножки и ободри каким ни на есть словом. Исполни, – говорит, – это для ради бога, а я, – говорит, – осчастливлю тебя суммой и пущу в несрочный отпуск.
– Ладно, – отвечаю, – князь ваше сиятельство, спасибо за ваше обещание, что возможно – совершу.
А у самого сердце огнем играет: эх, – думаю, – как бы это исполнить. Охота, – думаю, – получить отпуск и богатство.
А был князь ваше сиятельство со мной все равно как на одной точке. Уважал меня по поводу незначительной даже истории. Конешно, я поступил геройски. Это верно.
Стою раз преспокойно на часах у княжей земляночки на германском фронте, а князь ваше сиятельство пирует с приятелями. Тут же между ними, запомнил, сестричка милосердия.
Ну, конешно: игра страстей и разнузданная вакханалия… А князь ваше сиятельство из себя пьяненький, песни играет.
Стою. Только слышу вдруг шум в передних окопчиках. Шибко так шумят, а немец, безусловно, тихий, и будто вдруг атмосферой на меня пахнуло.
Ах ты, – думаю, – так твою так – газы!
А поветрие легонькое этакое в нашу, в русскую сторону.
Беру преспокойно зелинскую маску (с резиной), взбегаю в земляночку…
– Так, мол, и так, – кричу, – князь ваше сиятельство, дыши через маску – газы.
Очень тут произошел ужас в земляночке.
Сестричка милосердия – бяк, с катушек долой, – мертвая падаль.
А я сволок князеньку вашего сиятельства на волю, кострик разложил по уставу.
Зажег… Лежим, не трепыхнемся… Что будет… Дышим.
А газы… Немец – хитрая каналья, да и мы, безусловно, тонкость понимаем: газы не имеют права осесть на огонь.
Газы туды и сюды крутятся, выискивают нас-то… Сбоку да с верхов так и лезут, так и лезут клубом, вынюхивают…
А мы знай полеживаем да дышим в маску…
Только прошел газ, видим – живые.
Князь ваше сиятельство лишь малехонько поблевал, вскочил на ножки, ручку мне жмет, восторгается.
– Теперь, – говорит, – ты, Назар, мне все равно как первый человек в свете. Иди ко мне вестовым, осчастливь. Буду о тебе пекчись.
Хорошо-с. Прожили мы с ним цельный год прямо-таки замечательно.
И вот тут-то и случилось: засылает меня ваше сиятельство в родные места.
Собрал я свое барахлишко. Исполню, – думаю, – показанное, а там – к себе. Все-таки дома, безусловно, супруга не старая и мальчичек. Интересуюсь, – думаю, – их увидеть.
И вот, конечно, выезжаю.
Хорошо-с. В город Смоленск прибыл, а оттуда славным образом на пароходе на пассажирском в родные места старого князя.
Иду – любуюсь. Прелестный княжеский уголок и чудное, запомнил, заглавие – вилла «Забава».
Вспрашиваю: здесь ли, – говорю, – проживает старый князь ваше сиятельство? Я, – говорю, – очень по самонужнейшему делу с собственноручным письмом из действующей армии. Это бабенку-то я вспрашиваю. А бабенка:
– Вон, – говорит, – старый князь ходит грустный из себя по дорожкам.
Безусловно: ходит по садовым дорожкам ваше сиятельство.
Вид, – смотрю, – замечательный – сановник, светлейший князь и барон. Бородища баками пребелая-белая. Сам хоть и староватенький, а видно, что крепкий.
Подхожу. Рапортую по-военному. Так, мол, и так, совершилась, дескать, Февральская революция, вы, мол, староватенький, и молодой князь ваше сиятельство в совершенном расстройстве чувств по поводу недвижимого имущества. Сам же, – говорю, – жив и невредимый и интересуется, каково проживает молодая супруга, прекрасная полячка Виктория Казимировна.
Тут и передаю секретное письмишко.
Прочел это он письмишко.
– Пойдем, – говорит, – милый Назар, в комнаты. Я, – говорит, – очень сейчас волнуюсь… А пока – на, возьми, от чистого сердца рубль.
Тут вышла и представилась мне молодая супруга Виктория Казимировна с дитей.
Мальчик у ней – сосун млекопитающийся.
Поклонился я низенько, вспрашиваю, каково живет ребеночек, а она будто нахмурилась.
– Очень, – говорит, – он нездоровый: ножками крутит, брюшком пухнет – краше в гроб кладут.
– Ах, ты, – говорю, – и у вас, ваше сиятельство, горе такое же обыкновенное человеческое.
Поклонился я в другой раз и прошусь вон из комнаты, потому понимаю, конечно, свое звание и пост.
Собрались к вечеру княжие люди на паужин. И я с ними.
Харчим, разговор поддерживаем. А я вдруг и вспрашиваю:
– А что, – говорю, – хорош ли будет старый князь ваше сиятельство?
– Ничего себе, – говорят, – хороший, только не иначе как убьют его скоро.
– Ай, – говорю, – что сделал?
– Нет, – говорят, – ничего не сделал, вполне прелестный князь, но мужички по поводу Февральской революции беспокоятся и хитрят, поскольку проявляют свое недовольство. Поскольку они в этом не видят перемены своей участи.



