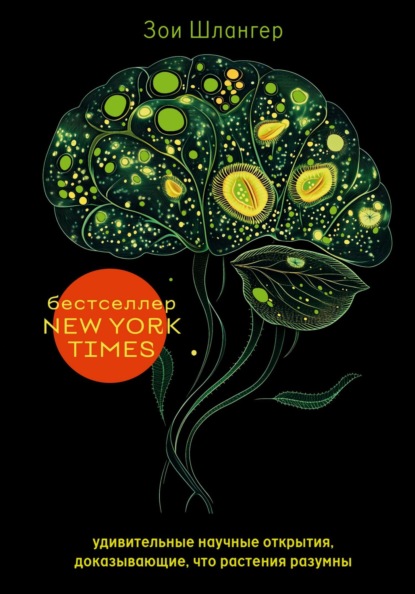
Полная версия:
Интеллект растений. Удивительные научные открытия, доказывающие, что растения разумны

Зои Шлангер
Интеллект растений
Удивительные научные открытия, доказывающие, что растения разумны
Zoё Schlanger
The Light Eaters
* * *Copyright © 2025 by Zoë Schlanger
© Яконюк А.В., перевод на русский язык, 2025
© Оформление. ООО «Издательство „Эксмо“», 2025
* * *Посвящается Энн и Джеффу, которые умеют видеть огромный смысл в мелочах
Они питаются светом. Разве этого недостаточно?
Тимоти Плауман, этноботаник
Предисловие

Я иду по едва различимой тропинке. Вокруг возвышаются лишь поросшие густым мхом кочки. Поднимаю голову, и меня обступают стволы влажных склизких деревьев. Слякоть под ногами отдает сыростью. На тропе замечаю явные признаки того, что где-то поблизости может бродить недружелюбный лось, – надо быть начеку. Но лосей нигде не видно, и я иду дальше. Появляются перышки нефролеписа, свернутые молодые улиткообразные головки листьев размером с детский кулачок, покрытые красно-коричневыми бархатистыми ворсинками, еще только намекают на то, что уже скоро они выплеснутся фонтаном изогнутых сводчатых стеблей словно павлиний хвост. С ветвей над головой будто тянутся вниз поросшие мхом пальцы. Растущие на поваленном дереве грибы дугой взмывают ввысь. Кажется, что все вокруг устремлено сразу и вниз, и вверх, и за пределы этого леса.
Я вторгаюсь в этот мир, но никто и не замечает. Все здесь настолько сосредоточено на своем существовании, что я кажусь себе муравьем, осторожно пробирающимся сквозь губку. Лишайники карабкаются от основания деревьев вверх, закручивая края своих дискообразных тел, чтобы улавливать капли влаги и получить еще один день жизни и еще одну возможность расти.
Я в тропическом лесу Хох на территории Тихоокеанского Северо-Запада США, и повсюду здесь меня не покидает ощущение таинственности. И неудивительно, ведь если наука знает о том, что здесь происходит с биологической точки зрения, то объяснить многое другое она пока не может. Меня окружают сложные адаптивные системы. Каждое существо вовлечено в многослойную сеть взаимосвязей с другими организмами – от самых больших до крошечных. Растения – с почвой, почва – с микробами, микробы – с растениями, растения – с грибами, а грибы – с почвой. Растения – с животными, которые поедают и опыляют их. Растения – друг с другом. Весь этот прекрасный беспорядок невозможно уложить в логичную стройную систему.
Размышления об этом напомнили мне про концепцию инь и ян, философскую систему противоположностей. Мы знаем, что силы, формирующие жизнь, находятся в постоянном движении. Мотылек, опыляющий цветок растения, – это гусеница, что прежде пожирала его листву. Таким образом, растения не заинтересованы в полном уничтожении прожорливых гусениц, которые позднее превратятся в союзников, переносящих пыльцу. И все же растение не может смириться с полной потерей листьев: лишившись их, оно не сможет питаться светом и погибнет. Поэтому, находясь на осадном положении и утратив несколько зеленых конечностей, оно собирается с силами и начинает благоразумно впрыскивать в листья неаппетитные химикаты. Тем не менее большинству гусениц хватит съеденной порции для того, чтобы выжить, стать бабочками и приняться за опыление цветов. Обе стороны, оказавшиеся на краю гибели, в итоге ждет успех. В этом и заключается сила взаимосвязи и конкуренции. Глобально в этом противостоянии пока никто не выиграл. Все участники по-прежнему на местах: и животные, и растения, и грибы, и бактерии. В конечном счете в меняющемся мире все сводится к удержанию баланса. Все эти противоборства, притяжения и слияния свидетельствуют о необычайном творческом потенциале биологических систем.
Как разобраться в этих хитросплетениях, в этом бурлящем потоке жизни, который невозможно остановить, чтобы хорошенько рассмотреть, – вопрос, который волнует не только ученых и философов, но и обычных людей. Поначалу разумным кажется заняться лишь изучением растений, ведь сосредоточиться на чем-то одном проще. Однако быстро выясняется, что такой подход наивен. Сложность проявляется на всех уровнях.
Журналисты моего профиля часто пишут о том, что ведет к смерти. Или о ее предвестниках: болезнях, катастрофах, упадке. Так, журналисты, освещающие тему климата, отмечают мрачные рубежи, которые наша планета один за другим преодолевает на пути к неизбежному кризису. Вот только вынести все это в таком масштабе одному человеку не под силу. Или, возможно, запасы моего терпения за годы наблюдений за засухами и наводнениями истощились и иссякли. В какой-то момент я начала чувствовать себя опустошенной и оцепеневшей. Мне хотелось чего-то совершенно другого. Что же является противоположностью смерти? Возможно, созидание, когда что-то зарождается, а не умирает. Именно это есть в растениях, которые не останавливаются в своем развитии. Еще задолго до того, как появились исследования, подтверждавшие известные нам факты о том, что проведенное среди растений время может успокоить разум лучше, чем продолжительный сон, они действовали на меня успокаивающе, и так было всегда. Я жила в большом городе и, когда нужно было проветрить голову, выходила прогуляться в парке среди тисов и вязов, или, когда нервы оказывались на пределе, подолгу разглядывала свежие листочки комнатного филодендрона. Растения – пример созидающего творчества: они находятся в постоянном движении, хоть и замедленном, исследуя воздух и почву в неустанном стремлении построить подходящее для жизни будущее.
Казалось, что в городе растения селятся в наименее подходящих местах. Они пробивались сквозь трещины в асфальте, карабкались на сетчатые заборы по периметру заваленных мусором участков. Наблюдая, как айлант, который считают агрессивным растением и нежеланным гостем на северо-востоке США, пробился через трещину в ступени моего крыльца и буквально за один сезон вымахал до высоты двухэтажного дома, я втайне восхищалась им. Втайне – ведь мне было хорошо известно, что в Нью-Йорке этот вид считается дьявольским, отчасти потому, что он, чтобы не дать всему живому расти поблизости, впрыскивает в землю вокруг своих корней яд, обеспечивая себе место под солнцем. Ну а восхищалась я потому, что эта уловка кажется дьявольски гениальной. Когда в конце сезона мой сосед с помощью мачете срубил дерево, я и слова не сказала. И все же, проходя каждое утро мимо торчащего пня, я продолжала внутренне восхищаться. Ведь на нем уже появились новые зеленые бугорки. Как не восторгаться таким ловким трюком?
Таким образом, я посчитала, что мне необходимо переключить свой затуманенный взгляд, до сих пор устремленный в апокалиптическое будущее, на растения. Они наверняка дадут мне энергию. Однако вскоре я поняла, что они способны на большее. Растения за годы моей одержимости их изучением изменили мое представление о смысле жизни и ее возможностях. Сейчас, оглядываясь по сторонам в тропическом лесу Хох, я вижу не просто успокаивающую взгляд зелень. Я нахожусь на уроке, где рассказывают, как жить, используя свой удивительный потенциал находчиво и в полной мере.
Начнем с того, что жизнь в условиях постоянного роста и невозможности сдвинуться с исходной точки сопряжена с невероятными трудностями. Чтобы справляться с ними, растения выработали удивительно изобретательные способы выживания, позавидовать которым могут все живые существа, включая человека. Многие из этих способов настолько хитроумные, что кажутся невозможными для того вида живых организмов, которому мы в театре нашей жизни отвели место декорации. И все же эти необыкновенные способности растений существуют и бросают вызов нашим скромным ожиданиям. Как мне еще предстоит узнать, их образ жизни настолько невероятен, что пределов возможностей растений никто не знает. Более того, кажется, никто вообще не знает, что представляют собой растения на самом деле.
Разумеется, это проблема из области ботаники или же самое удивительное событие, которое случилось за жизнь последнего поколения, тут все зависит от того, насколько вас беспокоит тектонический сдвиг в монолитах привычных истин. Так я оказалась безнадежно заинтригована. Споры в любой научной области, как правило, являются предвестниками чего-то нового, шагом к новому пониманию предмета исследования. В данном случае предметом исследования выступала жизнь всех растений. Я стала интересоваться свежими идеями в прикладной ботанике. Чем больше ученые получали сведений о сложности форм и поведения растений, тем слабее становилась уверенность в том, что необходимо держаться за традиционные представления о жизни растений. Научное сообщество раздирали внутренние разногласия, а число камней преткновения множилось вместе с количеством загадок. Но меня привлекало именно отсутствие однозначных ответов, впрочем, как и многих из нас. Кого же не привлекает и не пугает неизвестность?
Эта книга расскажет о новых открытиях в науке о растениях и о настоящей борьбе, в которой рождаются научные знания.
Редко кому удается заглянуть в сферу, где царит полная неразбериха, кипят споры вокруг привычных истин и рождается новый взгляд на предмет исследования. Мы также попробуем ответить на вопрос, который горячо обсуждается в лабораториях и на страницах научных журналов: обладают ли растения интеллектом. Насколько нам известно, мозга у растений нет. Но некоторые утверждают, что, несмотря на это, растения следует считать разумными существами, принимая во внимание удивительные вещи, на которые они способны. У себя и некоторых других видов мы выявляем интеллект путем умозаключений, анализируя поведение и не отслеживая физиологические сигналы. Одна группа ученых утверждает, что если растения могут делать то, что мы считаем признаками интеллекта у животных, то логично применять одни и те же термины и не следует необоснованно отводить животным роль более разумных существ. Другие идут дальше, предполагая, что у растений есть сознание. Пожалуй, именно оно остается наименее изученным у человека, не говоря уже о других организмах. Сторонники этого лагеря утверждают, что наличие мозга лишь один из способов формирования сознания.
Некоторые же ботаники в своих умозаключениях более осторожны и не склонны проецировать понятия, относящиеся к миру животных, на жизнь растений. В конце концов, растения являются отдельной филогенетической ветвью с эволюционной историей, которая давно развивается отдельно от человеческой. Применяя к ним наши представления об интеллекте и сознании, мы наносим урон их «растительной сущности». Сторонникам подобных идей мы тоже дадим слово в этой книге. Однако никто из ботаников, с кем мне приходилось общаться, не был удивлен тому, на что способны растения. Благодаря новым технологиям за последние два десятилетия ученые получили уникальные возможности для проведения наблюдений. Их открытия меняют значение слова «растение» буквально на наших глазах.
Что бы мы ни думали о растениях, они продолжают тянуться вверх, к солнцу. И в момент, когда ощущение глобального кризиса становится особенно острым, именно они распахивают перед нами окно в новое «зеленое» мышление. Чтобы по-настоящему стать частью этого мира, ясно сознавать происходящие процессы, мы должны научиться понимать растения. Они насыщают атмосферу кислородом, позволяя нам дышать, они в прямом смысле формируют нашу телесную оболочку из сахаров, которые добывают из солнечного света. Именно растения создали компоненты, которые однажды позволили жизни зародиться. Однако их нельзя считать просто утилитарными механизмами для обеспечения нашей жизнедеятельности. Растения ведут сложную динамичную жизнь, в том числе социальную и сексуальную, обладая при этом набором тонких чувственных реакций, которые, как мы полагаем, присущи только животным. Более того, они ощущают то, что мы не можем себе представить, и живут в мире информации, который для нас остается невидимым. С пониманием растений откроются новые горизонты осознания: с нами на планете соседствует хитроумная форма жизни, чуждая и в то же время хорошо знакомая.
В тропическом лесу Хох над моей головой раскинул ветви крупнолистный клен. Его ствол густо зарос лакричником, медуницей и плаунком, и кажется, будто дерево примерило мохнатый костюм Гринча. Через зеленый пушистый слой, как горные хребты, возвышающиеся над покровом густого леса, как пики Олимпик-Маунтинз, устремившиеся к небесам через вечнозеленые чащи к востоку от здешних мест, пробиваются фрагменты коры дерева. Я наклоняюсь, чтобы рассмотреть все в деталях. Зеленый костюм – это отдельная вселенная во вселенной: маленькие пучки и листья повторяют структуру леса в уменьшенном масштабе. Трехлистная кислица и перистый гилокомиум стелются плотным ковром. Я погружаюсь в их мир и теряюсь. Но мы уже давно потерялись в нем, даже не представляя, какие невообразимые вещи там происходят. Не слишком ли неосмотрительно такое невежество? А потому мне захотелось найти выход и разобраться.
Глава 1
Есть ли у растений сознательность?

Что такое растение? Скорее всего, у вас есть свой ответ. Возможно, вы представляете себе мясистый подсолнух с круглым, словно блюдо, соцветием и ворсистым стеблем или вьющуюся по шпалере фасоль у бабушки в огороде. А может быть, вы, как и я, разглядываете висящий за кухонным окном золотистый эпипремнум, который, наверное, ждет полива. Привычная данность – зеленый фон каждого дня.
Вы правы, таким же образом люди на протяжении долгого времени относились, скажем, и к осьминогу и называли его просто «осьминог», ведь до недавних пор мы не знали, что они могут с помощью щупальцев различать вкусы[1], запоминать человеческие лица[2] и воспринимать окружающий мир более чутко[3], чем это удается людям. И что по всему их телу распределены нейроны, напоминающие множество миниатюрных мозгов. Тогда что же такое осьминог? Нечто гораздо большее, чем мы могли себе представить.
Мы находимся еще только в начале пути к пониманию этого, но наше восприятие интеллекта существ, не принадлежащих к миру людей, существенно изменилось в одном важнейшем аспекте: наши с осьминогом эволюционные ветви разошлись на заре истории видов. Нашим последним общим предком, скорее всего, был плоский червь, обитавший на дне океана более пятисот миллионов лет назад[4]. До сих пор мы обнаруживали интеллект у животных, эволюционно к нам более близких, таких как дельфины, собаки и приматы – наши более древние родственники. Однако теперь мы знаем, что особенно хитроумные организмы могут развиваться независимо от нас. Именно это и происходит с растениями, только пока незаметно, в лабораториях и в местах проведения полевых исследований в одном из наименее ярких разделов наук о природе. Но вес этих новых знаний грозит проломить стенки «контейнера», в который мы помещаем растения в своем сознании. В конечном итоге это может изменить наше представление о жизни.
Так что же такое растение? Я не сомневалась, что знаю ответ. А потом я начала общаться с учеными.
Несколько лет назад я работала журналистом-экологом, и кое-что не давало мне покоя. Основная часть моей работы была посвящена двум темам: постепенно набирающим обороты изменениям климата и тому, как загрязнение воды и воздуха влияет на здоровье человека. Другими словами, я писала о том, как человечество неумолимо движется к гибели. После пяти-шести лет такой работы настал момент, когда ощущение ползучего страха грозило свести меня с ума. Я начала вести себя странно. Например, пересказывала коллегам последний доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата – о том, что у нас осталось совсем немного лет, чтобы предотвратить катастрофу, – с каким-то неуместным восторгом и читала ужас на их побледневших лица. Потратив утренние часы на жадное поглощение новостей о рекордных по площади лесных пожарах и ураганах, к обеду я как ни в чем не бывало переходила к офисным сплетням. Это раздвоение личности стало настолько очевидным, что я больше не могла эмоционально реагировать на экологические катаклизмы. К таянию ледяных щитов в Гренландии я относилась так же просто, как к очередной занятной истории.
Примерно тогда я еще не вполне осознанно начала искать в естественных науках что-то прекрасное и жизнеутверждающее.
Мне нравились растения; я любила наблюдать за тем, как ночной цеструм взбирается по моей оконной раме, а лировидный фикус внезапно после трех месяцев простоя выпускает три новых листа. Моя квартира была пристанищем, где сюжет растительной жизни оказывался гораздо более захватывающим, чем тот, что разворачивался на экране моего компьютера. И я подумала, почему бы не обратить свое репортерское внимание именно на этот сюжет? В обеденные перерывы я принялась искать сборники по ботанике, используя те же онлайн-порталы, что и для поиска статей о климате, – систему, позволяющую журналистам знакомиться с новейшими исследованиями до их появления в открытом доступе при условии, что они не будут публиковать материалы до оговоренной даты. Журналы пестрели фундаментальными открытиями в области изучения растений: раскрыта причина эволюции бананов, наконец-то стало понятно, почему некоторые цветы скользкие (чтобы отпугивать муравьев, которые едят нектар). Мне казалось, что я случайно подглядываю за тем, что происходит во вчерашнем дне науки: неужели столько фундаментальных открытий еще не сделано? Через две недели я узнала, что ученым удалось впервые полностью расшифровать геном папоротника[5], и скоро об этом выйдет статья.
Я еще не осознавала, насколько это поразительно: папоротники, будучи чрезвычайно древними растениями, могут иметь до 720 пар хромосом[6], в то время как у человека их всего 23, что объясняет, почему геномная революция так долго до них добиралась.
Меня сразу же привлекло изображение папоротника в научной статье, которую еще нельзя было публиковать. Это была фотография крошечного свернутого спиралью растения, умещавшегося на ногте большого пальца исследователя – азоллы. Она словно светилась изнутри зеленым светом. Я влюбилась.
Azolla fliculoides, или просто азолла, – один из самых маленьких папоротников в мире, который тысячелетиями растет во влажных местах. Как и в других случаях с растениями, не стоит думать, будто сложность зависит от размера. Примерно пятьдесят миллионов лет назад, когда на Земле было гораздо теплее, азолла покрывала Северный Ледовитый океан гигантским ковром. В течение последующих миллионов лет она поглощала столько углекислого газа, что, по мнению палеоботаников, сыграла решающую роль в охлаждении планеты, а некоторые исследователи и сегодня всерьез размышляют, могут ли папоротники сделать это снова.
Азолла проделывает еще один чудесный трюк: около ста миллионов лет назад в ее теле появился особый карман, в котором живет цианобактерия, фиксирующая азот. Воздух вокруг нас состоит из азота почти на 80 %, и он необходим всем формам жизни, включая нашу, для производства нуклеиновых кислот – строительных блоков всего живого. Но в атмосферном виде для нас он совершенно недоступен. Азот, азот, азот – он повсюду, но нет ни одной молекулы, которую мы могли бы использовать. По иронии судьбы растения полностью зависят от бактерий, знающих, как преобразовать азот в формы, чтобы их могли использовать растения, а значит, и мы, получающие это вещество из растений. И вот азолла превратилась для этой бактерии в гостиницу. Крошечный папоротник кормит цианобактерии необходимыми сахарами, а они занимаются преобразованием азота. Фермеры Китая и Вьетнама[7] взяли это на заметку и уже несколько столетий добавляют измельченную азоллу на рисовые поля.
Я выискивала справочники по папоротникам и крупицы информации о них. Я удивлялась себе и тому, с какой жадностью набросилась на эту работу, что случалось со мной лишь несколько раз в жизни. Я была так очарована, что набила на левой руке татуировку в виде крошечной азоллы. У журналистов, которые считаются людьми с широким кругозором и эрудицией, чаще всего всплеск интереса к одной теме так же быстро угасает. Но в моем случае страстная увлеченность захватила меня целиком. У меня вдруг возникли вопросы об этой самой распространенной группе растений, которые просто росли, казалось бы, без всякой шумихи. И они изменили мир. Чего еще я не знала?
Продолжая свои изыскания, я купила и проглотила «Дневник Оахаки», тоненький сборник наблюдений Оливера Сакса во время экспедиции за папоротниками в юго-западную Мексику, куда он отправился с автобусом, полным преданных птеридологов-любителей, членами нью-йоркского отделения Американского общества папоротников. Экспедицию возглавлял в том числе Роббин К. Моран, сорокачетырехлетний смотритель папоротников Нью-Йоркского ботанического сада, который провез энтузиастов по всему штату Оахака. В какой-то момент, после того как они несколько дней колесят по деревням и весям, восхищаются продуктами на рынках, чанами с красной кошенилью и, конечно же, всевозможными печеночниками и папоротниками, у Сакса наступает состояние, которое можно описать только как экстаз. Полуденное солнце печет, его косые лучи падают на высокие стебли кукурузы. Пожилой джентльмен, ботаник и специалист по сельскому хозяйству Оахаки, стоит рядом с кукурузой. Сакс описывает этот сверхъестественный момент – кратчайший миг – всего лишь в половине предложения, но это описание сразу же поразило меня своей правдивостью.
…высокая кукуруза, жаркое солнце, старик – все сливается в единое целое. Это один из тех моментов, который невозможно описать, когда возникает почти сверхъестественное ощущение глубоко прочувствованной реальности. Затем мы спускаемся по тропе к воротам и садимся в автобус – все в каком-то трансе или оцепенении, как будто нам внезапно привиделось священное, но теперь мы вернулись в суету привычных будней.
Ощущение сверхъестественности момента, возвращение в реальность, целостность формы – эти темы пронизывают всю натуралистическую литературу. Не я одна переживала что-то подобное. В романе «Пилигрим в Тинкер-Крик» писательница Энни Диллард испытывает похожие чувства, стоя перед деревом и наблюдая, как свет льется сквозь его ветви. Острое ощущение реальности. Едва она осознает, что произошло, видение исчезает, но остается впечатление от осознания собственной безграничной чуткости, которая проявляется лишь такими вспышками, и моменты такого познания в отличие от тех, что мы переживаем каждый день, можно назвать непосредственным наблюдением за внешним миром.
Читая после работы и ранним утром книги о растениях и увлеченных натуралистах, я стала находить такие моменты повсюду. Из книги Андреи Вульф «Открытие природы», биографии знаменитого натуралиста XIX века Александра фон Гумбольдта, я узнала, что он тоже испытывал такие ощущения. Фон Гумбольдт вслух размышлял о том, почему пребывание на природе порождает в человеке нечто подлинное и истинное. Он писал: «Природа повсюду говорит с человеком голосом, который знаком его душе», «все взаимодействует и влияет друг на друга», и поэтому природа «создает ощущение целостности». В дальнейшем Гумбольдт познакомил европейский интеллектуальный мир с концепцией планеты как живого целого, с климатическими системами и взаимодействующими биологическими и геологическими моделями, образующими «сложную сетчатую ткань». В западной науке это был наиболее ранний проблеск экологического мышления, когда мир природы представлялся как ряд биотических сообществ, каждое из которых воздействует на другое.
Читая работы по ботанике, я испытывала отголоски этого чувства, улавливала проблески некоего целого, которое еще не могла до конца сформулировать. У меня было ощущение, что я вскрываю огромные пробелы в своих знаниях. Сколько времени я провела рядом с растениями, почти ничего о них не зная? Я чувствовала, как постепенно открывается занавес в параллельную вселенную. Я уже знала, что она есть, но еще не понимала, что в ней скрывается.
Я записалась на курс по изучению папоротников в Нью-Йоркском ботаническом саду. Занятия вел не кто иной, как Моран из экспедиции Сакса – мужчина в возрасте старше сорока четырех лет, но все такой же энергичный. (Мне предстояло узнать, что в мире ботаники множество постоянных персонажей, одни дружелюбные, другие не очень, связаны сюжетными линиями.) Мы научились распознавать папоротники, узнали об их базовом строении и о наиболее неординарных видах: воскрешающий папоротник растет на ветвях дубов, а во время засухи может почти полностью обезвоживаться, скукоживаясь до мертвенного хруста. Он способен оставаться в засушенном состоянии более ста лет, а потом полностью восстановиться. Одни древовидные папоротники могут достигать в высоту более шестидесяти пяти футов[8], а другие, как, например, крошечная азолла, представляют собой миниатюрные фабрики по производству удобрений. А еще есть орляк, который вызывает у коров, осмелившихся его съесть, смертельное внутреннее кровотечение. «Невероятно жестокий папоротник», – как сказал Моран.



