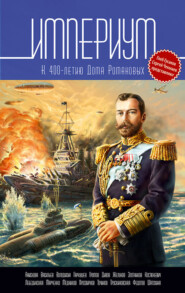скачать книгу бесплатно
Майк Гелприн. Кабацкая лира
Я не вор, не тать, только им под стать
Иван Осипов (Каинов)
1. 1731–1740
Хорош у гостиной сотни купца Петрушки Филатьева дом, что на Ильинке стоит, в Китай-городе. В два этажа, каменный, убранство богатое, одной серебряной посуды три сундука. И двор большой, крепким забором обнесен, а при воротах сторож с колотушкой, в кафтане ситцевом, с нашивками. Во дворе на цепи медведь сидит, лютый, прожорливый, девка Авдотья того медведя сырым мясом кормит.
Под утро, петухи еще не пропели, дверь купеческого дома скрипнула, и на крыльцо малец выбрался. Огляделся и мимо сторожа, мимо медведя шасть неслышно к забору. Поднатужился да и перемахнул его. Постоял, ночную тишину послушал. Шмыгнул к воротам, уголек из-за пазухи достал и на воротах тех вывел:
Пей воду, как гусь,
Ешь хлеб, как свинья,
А работай черт, а не я.
Звали мальца Ванькой Осиповым, и был он из самых что ни на есть неимущих крестьян, в услужение к барину за долги отданных. Шел Ваньке от роду четырнадцатый год, но ловок и смекалист был малец изрядно, за что и лупил его барин безжалостно. За нерадивость подзатыльниками угощал, за леность розгами охаживал, а за воровство, бывало, батогами берёзовыми, а то и кнутом.
Вдоль забора господского, в темноте хоронясь, пробрался Ванька к Ильинским воротам. К Посольскому подворью зайцем пуганым проскочил. Между мануфактурными цехами, что граф Апраксин да граф Толстой на том подворье устроили, ужом прополз. И выбрался на Никольскую.
Здесь Ваньку ждали. И не кто-нибудь, а Петрушка Смирной, сын солдата и сам беглый солдат прозвищем Петр Камчатка. Был Камчатка вором, нетрусливым, удачливым, и людей, каких надо, знал.
– Принес? – Ваньку за плечо ухватив, шепнул он.
Ни слова Ванька не сказал, а пояс крученый снял и вору подал. Были в поясе том четыре рубля запрятаны, которые, пока Петрушка Филатьев спал, в ларце лежали.
– Богато, – похвалил Камчатка. – Ну, пойдем, что ли.
У Всехсвятских ворот переждали вдвоем ночную стражу и вниз нырнули, на набережную, к Берсеневскому мосту, который на Москве называли Новым Каменным, а то и просто Каменным, как у кого язык повернется. Построил мост два десятка лет тому ученый старец Филарет, по приказу князя Васьки Голицына, что у царевны Софьи Алексеевны в фаворе был. Хорошо строил Филарет, старательно, особенно девятую арку, последнюю – место, которое знающие люди «девятой клеткой» звали. Под «девятой клеткой» ночи ночевали, питие пили да беседы беседовали добры молодцы, лихие, удалые, в воровском и разбойничьем ремеслах искусные.
– Этот малец со мной будет, – сказал сидящим вокруг костра людям Камчатка. – Под свою руку его беру. Наш малец, свойский. А это Волк, Жузла, – стал он называть прозвища друзей-приятелей, – Замчалка, Лебедь, Медведь, Бухтей, Баран, Шинкарка, Журка…
Начало как раз светать, и Ванька вгляделся в новых знакомцев. Были они большей частью молоды, кто его лет, кто постарше на год-другой. Лишь рябой Бухтей да сам Камчатка выглядели людьми опытными, пожившими. И еще сидел поодаль, насупившись и сгорбившись, совсем уж дряхлый старик, морщинистый, с волосами цвета прогоревшей золы, носом как у коршуна клюв, и с глазами черными, чернее ночи.
– Откуда будешь? – спросил у Ваньки долговязый, с подбитым глазом Жузла.
– У барина в услужении со усердием должность отправлял, только вместо награждения несносные побои получал, – прибауткой ответил Ванька.
– На офеньском говоришь ли?
Был офеньский языком особым, тайным, от офеней-коробейников произошедшим, лихим людям понятным и для нужд их сподручным.
– На офене мало-мальски ботаю, – ответил Ванька.
– А товар с безумного ряду на офене чего будет? – не отставал Жузла.
– Водка это.
– А немшоная баня?
– То изба пытошная.
– Ладно. А умеешь чего?
Ванька переступил с ноги на ногу, очи долу опустил.
– Петь могу.
– Да ну? Давай, спой!
Ухмыльнулся Ванька, подбоченился, плечи расправил и затянул:
– Не ходи, мой сын, во царев кабак,
Ты не пей, мой сын, зелена вина,
Не водись, мой сын, со бурлаками,
Со бурлаками с понизовыми,
Со ярыгами со кабацкими,
Потерять тебе, сын, буйну голову.
– Хорошая песня, душевная, – похвалил Жузла, когда Ванька закончил. – Ты ее откуда слыхал?
– Ниоткуда, сам сочинил, – сказал Ванька, и морозом посреди лета его пробрало – от того, как сверкнул на него глазищами старик.
– Кто таков? – спросил он Камчатку, когда добры молодцы один за другим разошлись на работу, воровскую работу, черную.
– Юродивый это, – Камчатка нос опростал и на землю сплюнул. – Родом он с дальних земель: не то немец, не то француз, не то еще какой турок. По-нашенски говорит странно, не всегда поймешь, и себя не помнит. Лет ему, дескать, под триста, а с чего живет – неведомо. Прибился к нам и не уходит, а мы и не гоним.
– А ну, подойди ко мне, – позвал Ваньку старик, когда остались вдвоем. Голос у него был, словно ворон каркал.
Подошел Ванька, стал глядеть в сторону, не в глаза же такому смотреть – боязно.
– Ты песню по правде сам сочинил? – каркнул старик. – Или, поди, наврал?
– Сам.
– А ну, попой мне еще.
Смутился Ванька, не хотел петь, страшный был старик, с глазами черными, как воровская работа. Но отказать не смог почему-то, почему – сам не ведал.
– Бес проклятый дело нам затеял, мысль картёжну в сердца наши всеял, – запел Ванька с опаской.
– Хорошо, – похвалил старик. – А вот я тебе тоже кое-чего спою:
От жажды умираю над ручьем.
Смеюсь сквозь слезы и тружусь, играя.
Куда бы ни пошел, везде мой дом,
Чужбина мне – страна моя родная.
Я знаю всё, я ничего не знаю.
Мне из людей всего понятней тот,
Кто лебедицу вороном зовет.
Я сомневаюсь в явном, верю чуду.
Нагой, как червь, пышней я всех господ.
Я всеми принят, изгнан отовсюду.
– Это чья же песня? – подивился Ванька.
– Моя, – сказал старик и засмеялся, словно филин заухал.
– А звать тебя как, старче?
Старик насупился.
– Я – Франсуа, – просипел он.
И добавил, помедлив:
– Я – Франсуа, чему не рад: увы, ждет смерть злодея, и сколько весит этот зад, узнает скоро шея.
Старик с заморским именем закряхтел, закашлялся. Сунул руку в карман ветхого, латаного сюртука, долго шарил там и вытащил на свет божий вещь диковинную, цвета медного, на крендель похожую, только мелкую, с полпальца.
– Знаешь, что это? – спросил.
Ванька замотал нечесаной и патлатой русой головой.
– Это лира, – каркнул старик. – Но не простая – кабацкая, она такая на свете одна всего. Заберешь ее у меня?
– Зачем? – изумился Ванька.
Старик хмыкнул.
– Жить вечно будешь. Если руки на себя не наложишь, сколько захочешь проживешь, без счета.
– Руки на себя накладывать – грех, – разозлился Ванька. – Брешешь сам не знаешь чего.
– А ты послушай. С кабацкой лирой бить тебя смертным боем будут – и не забьют. В каменном мешке гноить будут – и не сгноят. Казнить пожелают – не смогут. Слава о тебе будет, как ни о ком другом. Так возьмешь?
Повел Ванька плечами, поежился. Точно ведь брехал старый черт, а не поверить нельзя было. Словно строка из песни, что тот спел, в душу вошла – «я сомневаюсь в явном, верю чуду».
– Ну, возьму, – сдвинув брови, сказал Ванька. – И чего с ней делать?
– Чего хочешь, – зашептал старик. – Любые дела делай, с тебя всё будет как с гуся вода. Воруй, режь, казни – всё нипочем. И песни слагай, у тебя хорошие песни будут. За них и девки станут любить, а дела твои прощать. На, забирай. Только знай: когда устанешь, притомишься так, что сил никаких нет, что всё невмоготу, другого ищи.
– Какого другого? – не сообразил Ванька.
– Такого же, как ты да я. Нашего сукна епанчу. Там сам поймешь.
Забрал Ванька у старика вещь медную, диковинную, пощупал, в карман упрятал и спать завалился. А вечером Камчатка его растолкал. С богатой добычей Камчатка вернулся, полный кошель у купца на гостином дворе срезал.
– Выпей, малец, – сказал и чарку поднес. – За упокой души.
– Чьей души? – спросонья переспросил Ванька и чарку принял.
– Старик юродивый, пока ты спал, помре.
Наутро пошел Ванька в Китай-город, к гостиным дворам присмотреться да к господским домам. Только не дошел: попали ему навстречу люди с дома Петрушки Филатьева, сей же момент скрутили и обратно в Петрушкин двор привели. Обрадовался купец, велел платье всё с Ваньки скинуть и сечь его нещадно. А как досекли до того, что и ходить Ванька боле не мог, приказал рядом с медведем на цепь посадить и ни того, ни другого не кормить вовсе. А сам гостей позвал, чтоб подивились, как медведь Ваньку порвет.
До ночи Ванька к цепи прикованный просидел, а как гости купеческие угомонились да по спаленкам разбрелись, выскочила из дома Авдотья, девка дворовая, и медведю плошку с объедками с господского стола поднесла.
На другой день собрались гости во дворе дивное зрелище смотреть, но медведь Ваньку не тронул, рычал только да пасть скалил. Так вновь ни с чем спать улеглись, а ночью Авдотья опять во двор – с подношением.
– С месяц назад, – скороговоркой забормотала, – повздорил купец с заезжим ландмилицким солдатом.
– И чего? – спросил Ванька, сытому медведю завидуя.
– Цепами солдата угостили, а он возьми да помре. В сухой колодезь его сбросили, куда сор высыпают, там и лежит.
Наутро снова гости во двор выбрались на медвежью камедь глядеть. И закричал тогда Ванька, заблажил истово:
– Слово и дело за мной государево!
Взяли Ваньку в «Стуколов монастырь». Так люди знающие канцелярию тайных и розыскных дел называли, что в Преображенской слободе царь Петр Алексеевич основал. Вздернули Ваньку на дыбу, и что купец недосёк, то плетьми исправили. А донос получив, к Филатьеву наведались и из сухого колодезя ландмилицкого солдата вынули. К вечеру поменяли уже Ваньку с Петрушкой местами на дыбе, а наутро доносчика и отпустили, в награду пашпорт ему выправив и десятью копейками одарив.
Путь от Преображенской слободы до Китай-города неблизкий, особенно когда с драной задницей и ноги не держат. Нанял на дареные деньги Ванька извозчика, с ветерком доехал. И с того дня загулял.
Не ходи ночью, прохожий, по Москве по каменной. И днем остерегись. Бродит по улицам московским Ванька-вор со товарищи. Всё, что видят перед собой, себе забирают, а кто отдать не согласный, того палками уговаривают, а то и гостинцем – билом на подвесе, что на кистенище ясеневом.
– Все воруют, – учил Ваньку, в царевом кабаке сидючи, Петр Камчатка. – Наш брат – это еще что. Купцы крадут, бояре воруют, князья грабят и разбойничают, не чета нам. Раньше светлейший князь Алексашка Меншиков обозами воровал, теперь курляндский граф Эрнстишка Бирон старается. Одна только царица-матушка Анна Иоанновна не ворует, да и то потому, что ей без надобности.
Воровское дело – кабацкое. Удалому добру молодцу дом иметь постыдно, богатства наживать зазорно. Добычу воровскую не в ларец кладут, ее в кабаке прогуливают. Здесь пристало и в карты играть, и совет держать, и с девками любиться, и от полиции прятаться, благо кабаков на Москве множество великое.
Выдумщиком оказался Ванька, да еще каким. Такие дела затеивал, которые друзьям его доселе и во снах не снились. К придворному доктору Ерлиху, что у самого Кремля жил в доме каменном, императрицей ему пожалованном, ночью впятером в окно залезли. Пока сундукам да ларцам раструску делали, Ванька в спальню к доктору сунулся, где тот в срамном виде с непотребной девкой лежал. Расстроился Ванька сильно от зрелища такого и одеялом доктору срам прикрыл.
В дом боярина Татищева на Варварке добрым молодцам никак не возможно попасть было. Великим забором тот дом обнесен был. Где во дворе сторожей поставил, боярин от досужего люда таил. Тогда купил Ванька на рынке курицу, в щель забора того протиснул, и когда от кудахтанья переполох поднялся, в ворота заколотил.
– Пустите, – взмолился, – люди добрые, курица сбежала от меня, окаянная, словить надобно.
Той же ночью в гости к боярину вся Ванькина артель явилась. Сторожей связали и сундуки обухами потрогали.
К попу Елистрату, соседу купца Петрушки Филатьева, Ванька один залез. Но нашел лишь попадьи сарафан да долгополый кафтан. Сарафаном Ванька побрезговал, а кафтан впору ему пришелся. Стал с того дня Ванька попом рядиться. По московским улицам, рогатинами по ночам заставленным, простому люду хода нет, а батюшке – с дорогой душой.
Год прошел, другой минул, выбился Ванька из обыкновенных крадунцов в коноводы. На Москве о новом атамане поговаривать стали. Дескать, крикнет кто по ночному времени: «Когда мас на хаз, так и дульяс погас» – лучше сразу добро отдать, по-хорошему. «В дом ваш войду, фонарь враз потухнет» крик тот означает. То Ваньки-вора присловица, а что за фонарь такой, то неведомо. Может, и жизнь хозяйская потухнет, с Ваньки станется.
Кабацкую лиру Ванька пуще глаза берёг. На себе носил, а как собирался в ночной «заход», в землю прикапывал. Старик, под мостом померший, из головы у него не шел, но кого ни спрашивал Ванька, никто о старике толком не знал. Зато песни хорошие складывались. Бывало, соберутся добры молодцы, добычу ночную поделят и давай Ваньку уламывать, чтобы спел. Тогда подбоченивался он, шапку ломал и говорил людям так:
– Писано в кабаке, сидя на сундуке.
А когда притихали все, заводил:
– Не былинушка в чистом поле зашаталася,