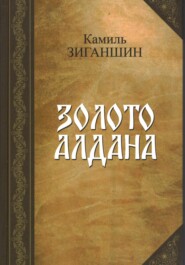
Полная версия:
Золото Алдана
Оживление в голове колонны отвлекло Лосева от воспоминаний: обоз вышел к реке Юдома. Два дня ушло на то, чтобы напилить сухостоин, связать из них плоты. Низкое, серое небо, видимо, жалея путников, так и не распахнуло свои затворы для дождя. Даже, напротив, – снопы солнечных лучей временами пробивались в редкие разрывы и подбадривали живительным светом.
До Усть-Юдомы, откуда начинался сухопутный переход на Аянский тракт, сплавились с единственной потерей – на мощном прижиме один из плотов вздыбило и в воду съехало два ящика с патронами.
Когда отряд подполковника Лосева добрался до села Усть-Миле, стоящего прямо на тракте, из Аяна прискакали братья Сивцовы – хозяева самых крупных табунов в округе. Они были в приподнятом настроении: дружина Пепеляева уже десантировалась с двух пароходов в Аяне и Охотске и готовилась выступить на Якутск. Им помогают обиженные купцы, кулаки, тойоны7, оленеводы, недовольные принудительной кооперацией. Активизировались и почуявшие возможность прийти к власти эсеры.
Перед братьями была поставлена задача: до подхода Пепеляева собрать в Усть-Миле табун из двухсот верховых лошадей с упряжью для кавалерийских эскадронов (транспортных оленей в дружине было достаточно – тунгусы дали) и развезти по трактовым станциям фураж, попутно скупая зимнюю одежду: полушубки, малицы8, унты.
«И в самом деле, всё удачно складывается, – воспрял духом подполковник. – Хозяйка в тесто кладет немного дрожжей, а оно вздымается. Так и дружина генерала по дороге еще обрастет сторонниками и, как уже на Руси не раз бывало, превратится в непобедимое народное ополчение. С Пепеляевым мы всех одолеем!..»
У эвенков
У Корнея с Дарьей подрастало двое справных, работящих сыновей: Изосим и Паша. Старшему, Изосиму, шел четырнадцатый год, а младшему минуло восемь.
Когда дед Елисей с бабкой Ольгой ударялись в воспоминания о жизни в стойбище, в котором она выросла, а чуть живой от обморожения дед, тогда молодой парень, впервые увидел ее, Изосим замирал: слушал, затаив дыхание, боясь пропустить хоть одно слово. Он давно мечтал попасть в те места и окунуться в кочевой быт оленных эвенков. Его волновало все новое, неизвестное. Таким уж уродился по Божьему замыслу. (Паша же к этим рассказам был равнодушен.)
Изосим исподволь стал подговаривать родителя сходить проведать кочевую родню. Корней, и сам истосковавшийся по простодушным, гостеприимным родственникам, обещал, но всякий раз возникали неожиданные препятствия: то ветром у кого крышу завалит, то кому баню надо помочь обновить, то дрова заготовить. Да мало ли в хозяйстве дел.
Разрешилось все зимой и самым неожиданным образом.
В скиту, буквально потонувшем после многодневной вьюги в снегу, – зАмять доходила до верха заплота, – вовсю праздновали святки9. Парни и девушки после обеда собирались на берегу Глухоманки на игрища, во время которых молодняк присматривал себе пару. Играли в снежки, барахтались в сугробах, съезжали с ледяных покатушек. Ребята нарочно опрокидывали санки на спуске и как бы нечаянно прижимались к приглянувшейся девице.
А вечерами на утоптанной полянке у ворот, под приглядом старших, водили хороводы, сопровождавшиеся кружковыми песнями. Большинство из них имело поцелуйную концовку. По кругу двигались неторопливо, чтоб не нарушать запрет на плясания.
В это самое время к скиту подъехал дядя Корнея – Бюэн, крепкий, несмотря на свои шестьдесят лет, эвенк со смуглым, прокаленным морозом лицом. На нем чем-то инородным смотрелись опушенные белым инеем густые брови и ресницы. За спиной болталась старенькая бердана 28‑го калибра. Сильно поношенная меховая парка и потертые штаны из сыромятной кожи говорили не о бедности, а о том, что этот человек не придает значения своей одежде.
Приехал Бюэн со связанными друг с другом ременными поводками быках. Три из которых были комолыми – уже сбросили рога до весны. На первом – сам, второй с вьюками, в которых палатка, меховой спальный мешок, продукты, котелок, чайник. И два оленя с тяжелыми сумами.
Молодежь как ветром сдуло: умчались в скит известить о чужаке. Бюэн, не обращая внимания на яростный лай собак, спешился, потянулся, разминая суставы. Калитка отворилась, и к нему вышли бородатые мужики.
– Дорова, Елисей! Узнавал? Это я, Бюэн. Ты не ехал, сам ехал. Гостинцы привез, соль привез. Бери, видишь – много готовил, – с трудом двигая замерзшими губами, проговорил эвенк, указывая на навьюченных оленей.
Елисей, признав шуряка, с радостными возгласами обнял его. Отправив Корнея за матерью, сам побежал к наставнику испросить дозволения принять гостя. Григорий помялся немного, но не отказал. Когда вернулся, счастливая Ольга уже висела на шее брата:
– Рассказываё, как в стойбище дела?
– Плохие вести. Отец ушёл к верхним люди.
Ольга перекрестилась:
– Господи, когда же?
– Скоро два года. Хорошо ушёл. Не болел. Сразу ушёл.
– Вечером помолимся за упокой его души.
Корней тем временем освободил уставших животных от вьюков и увел их на малоснежную сторону заплота в ельник. Олени тут же обступили деревья и стали жадно отрывать сильными губами свисающие с ветвей космы лишайника.
Кочевника провели в дом, усадили за стол. Изосим, много слышавший о бабанином брате, с интересом разглядывал его. Темные, как безлунная ночь, волосы, слегка побеленные изморозью седины, спадали на широкие плечи, отчего голова напоминала чум.
Хотя Бюэн не очень хорошо изъяснялся на русском – подзабыл, с помощью Ольги узнали, что эвенкийской родне срочно требуется помощь: оленей в их стаде косила таинственная болезнь – каждый день умирало два-три орона.
– Шаман камланил – олень все равно умирай. Корней – сильный шаман, хорошо лечил.
Елисей с Ольгой понимали, что значит роду остаться без стада. Олень – главный кормилец эвенка. Неприхотливый к пище (мхи, трава, лишайники), он, к тому же, непревзойденный ходок по бездорожью. Для него не страшны ни снег, ни болотистые мари – выручают необычайно широкие копыта. Шея, из-за густой гривы, кажется непропорционально толстой, ноги довольно короткие. Это придает северным оленям немного неуклюжий вид. Однако, эти животные способны и на стремительный галоп.
– Спасать надо оленей! – произнес Елисей. – Агирча говорил: «Жив олень – жив эвенк». Пойду к Григорию просить. Ты, сынок, пока собирайся.
– Верно понимай. Твоё слово сладко. Олень умирай – мы все умирай. Олень кормит, греет, возит, – радостно закивал Бюэн.
– Тятя, испроси дозволение и на Изосима, – крикнул вдогонку Корней.
Выезжать следовало как можно быстрее. Для спешки была еще одна причина: Бюэн сговорился с топографами, работавшими прошлым летом в их районе, пригнать к устью реки Быстрой к 15 марта шестьдесят оленей и девять нарт. Из них четыре грузовые. И оттуда вести отряд со снаряжением и продуктами на север, к Пикам – месту полевых работ. Бюэн обещал работать с партией весь полевой сезон (управляться с оленями, кашеварить и смотреть за лагерем, когда топографы будут на съемке местности).
Через час все было готово к отъезду, но по настоянию самого же Корнея задержались, чтобы в полночь, на Крещение, набрать из проруби святой воды.
Груз разложили в кожаные сумы. То что предназначалось для лечения оленей: мешочки с травами и корешками, мази, дедовы лечебники, в которых расписаны составы зелий от всяких недугов, упаковали отдельно. Подпругами из сыромятной кожи крепко притянули поклажу к шерстистым бокам оленей. У ездовых на спинах лежали по две подушечки – маленькие седла без стремян. Эвенк, не дожидаясь пока усядутся Корней с сыном, ловко запрыгнув на своего быка и повел караван, оглашая округу криками «От! От!». Изосим, впервые ехавший верхом на олене, пока приноравливался, несколько раз падал: шкура оленя «ходила», как рубашка на теле, и парнишка скатывался с гладкой шерсти.
* * *
Разлохмаченные хвосты дыма, тянущиеся вдоль подножья гор, указывали на местоположение стойбища. Переехав покрытую торосами речку, увидели сквозь деревья и сам стан, раскинувшийся на ровной, как стол, поляне. Низкое, но яркое солнце хорошо освещало чумы, из острых верхушек которых торчали прокопченные концы жердей. Между жилищами стояли где пустые, а где груженые нарты. У самого входа в чум, в меховом мешке, посапывал малыш. Он завозился и подал требовательный голос. Краснощекая мать, чумазая от копоти очага, в шароварах, заправленных в лосевые унты, расшитые цветистым орнаментом, выбежала и сменила под малышом подстилку: мох пополам с оленьей шерстью. Ребенок успокоился и вновь сладко засопел. С дальнего края стойбища неслись смех, веселые крики и визги одетой в кухлянки детворы. Здесь, в глухой тайге, изолированные от внешнего мира обширными малолюдными пространствами, люди сохранили самобытность своей культуры и чистоту эвенкийского типа. Лица круглые, чуточку плоские, с узким разрезом глаз.
Еще дальше густилось стадо. Над ним колыхались ветвистые рога оленух – они сбрасывают их позже быков, когда оленята немного подрастут.
Эвенки заселяют огромную территорию от Оби до берегов Охотского моря с незапамятных времен. Постоянная борьба за жизнь, лишения, суровый климат сделали этот народ необычайно приспособленным к жизни в непроходимой тайге.
Сейчас на поляне, искрящейся от крупных кристаллов снега, в круг стояло пять чумов, покрытых двумя слоями оленьих шкур: внутренний слой – мехом в чум, внешний – мехом наружу. (Летом чумы покрывают сшитыми полосами бересты.)
Ветерок донес возбуждающий аппетит аромат – в каком-то чуме варили оленину. Небольшие, остромордые псы, увидев, что Бюэн не один, выскочили из общих, на три-четыре собаки, «гнезд», устланных для тепла сухой травой, и с заливистым лаем помчались навстречу – знакомиться. Услышав щум, из чумов стали выходить мужчины: не часто появляются здесь гости.
Корнея обрадовало то, что хозяйство деда увеличилось с двух до пяти чумов. Когда дочери Агирчи выходили замуж, а их у него, кроме Ольги, было еще три, они с мужьями из рода Сапкара вопреки традиции, после свадьбы перебирались в стойбище отца. В результате Агирча оказался главой большого рода и имел самое многочисленное стадо в округе. Он даже не знал, сколько в нем оленей, а когда спрашивали, отвечал: «Сколько на небе звёзд».
Сапкар долго дулся на соседа, но когда умерла жена, сам приехал к Агирче и сказал: «Детей потерял – костёр ослаб, жену потерял – совсем потух. Пришёл к вам жить».
«Огонь не имеет конца, если рядом друг», – согласился Агирча.
После смерти стариков, оба рода так и продолжали кочевать одной большой семьёй.
– Отец перед уходом к верхним людям нас собирал и сказал: «Род силен, когда все вместе, – от одной ветки нет огня, от двух мало-мало теплится. Положи несколько – жаркий костер будет. Всех согреет».
***
В чуме Бюэна всем хозяйством управляла его жена Ирбэдэ – худая, суровая эвенкийка. Когда она наклонялась, в ее иссиня-черных косах звенели серебряные подвески. Ирбэдэ готовила пищу, колола дрова, поддерживала огонь, приносила воду, шила, выбивала и сушила на высоких кольях возле чума меховую одежду, доила оленух. Бюэн же с братьями, сыновьями и племянниками разбирали и ставили при перекочевках чум, пасли стадо, охраняли его день и ночь, в дождь и метель от волчьих стай и занимались охотой.
Корнея в стойбище помнили. Изосиму было приятно видеть, с каким почтением относятся к его отцу. Один из сыновей Сапкара, обнимая дорогого гостя, сказал:
– Ухо далеко про тебя слышало, потому глаз так хочет видеть.
– А где мой друг Хэгды?
– Хэгды навсегда ушёл – провалился в полынью.
Гостей усадили за низенькие столики, на подушки, накрытые пестрыми круглыми ковриками —кумланами, сшитыми из разноцветных обрезков ткани. (Женщины перед этим аккуратно скрутили покрывавшие «пол» шкуры).
Как хорошо и приятно после мороза и колючего ветра оказаться в тепле, под защитой оленьих шкур. В чуме Бюэна, самом большом в стойбище, можно было одновременно ставить три спальни-полога! Сейчас два из них вымораживались на улице.
Изосим впервые видел такую «спальню» и с интересом разглядывал ее устройство. Сшитая из оленьих шкур, она была натянута на деревянный каркас мехом внутрь. Этот довольно объемный меховой ящик прекрасно держит тепло, и в нем можно спать в одной рубашке даже в сильные морозы.
Высота полога невелика – стоять можно лишь на коленях. Пол тоже устлан шкурами. У изголовья примитивный жировик – каменная чаша, в которую налит топленый жир, с прядкой мха у края – фитиль. Он горит слабым, уютным, не мешающим спать светом. Днем полог выносят из чума. Выворачивают и что есть мочи стучат по нему колотушками из оленьих рогов до тех пор, пока не выбьют из шкур все кристаллы замёрзшей влаги.
Прежде чем подавать угощение, хозяйка помыла лицо и руки, прыская воду изо рта. Первым подала прокопченную на ольховом дыму оленью колбасу из мяса и кедровых орешков. Пока лакомилисьэтим деликатесом, в котле доварилось мясо молодого оленя. Мелко нарезав, хозяйка посыпала его сушеной черемшой и подали на деревянной доске.
Во время трапезы в чум время от времени просовывали головы собаки – клянчили подачки со стола. Хозяйка молча собрала и высыпала на снег груду костей. Растащив их по стойбищу, псы принялись за любимое дело – глодать мосолыжки. Но один пес так и остался сидеть у входа, чуть склонив голову набок. Он жадно вдыхал восхитительные ароматы, сочащиеся сквозь щелку. Иногда от наслаждения закрывал глаза. Тонкие струйки слюны тянулись и падали на снег из уголков его полураскрытой пасти. Когда из котла достали очередные дымящиеся куски мяса, и волна запаха достигла его носа, пес аж придвинулся поближе. Глаза хмельно загорелись, хвост от возбуждения забил по земле. Опьяненный чарующим ароматом, он поднял морду и заскулил.
– Всегда так. От запаха ум теряет, – прокомментировал Бюэн.
Доев мясо, вытерли жирные пальцы о чистые кусочки шкур и принялись за дуктэми —подсушенные над костром полоски рыбы, посыпанные костной мукой и политые рыбьим жиром.
Это угощение подают самым дорогим гостям. Изосим, впервые оказавшийся среди эвенков, не столько ел, сколько во все глаза смотрел на происходящее. С интересом наблюдал, как соловеют от сытости эвенки. Как на губах, блестящих от жира, появляются блаженные улыбки. Вслушивался в их неторопливый, пока малопонятный, гортанный говор. Ему, правда, не очень нравилось, что в чуме дымно, душно и кисло пахнет прелыми шкурами.
С обжигающим чаем подали лепешки и колобки масла, взбитого из жирного оленьего молока.
Пили долго, не торопясь, шумно втягивая горячий напиток, смакуя каждый глоток.
Залив мясо чаем, эвенки раскурили трубки. Вскоре табачный дым заполнил чум сизым туманом. Корней с Изосимом морщились, но из деликатности терпели.
– У вас все такое вкусное! – похвалил Корней. – Однако лишка уже. От обильной трапезы живот пухнет, а дух слабнет.
– Много ешь – дух добрый! – несогласно покачал головой Бюэн. – Еда надо люби, как жену. Языком гладь, тихо глотай. Не будешь люби – Бог еду забирай.
– Еда силу даёт, – подражая взрослым, важно добавил Васкэ, средний сын Бюэна.
– Всё же много есть вредно, – стоял на своем Корней.
Бюэн с сомнением покачал головой, но спорить не стал.
За стенкой чума заскрипел снег, занялись собаки. Это на широких, оклеенных камусом лыжах, подъехал старший сын Бюэна – Орон, живший с женой и двумя детьми-погодками, четырех и пяти лет, в одном чуме с родителями. Радушно всех поприветствовав, он снял меховую куртку, и, подойдя к Корнею, крепко обнял его:
– Дорова! Что долго ехал?
– Семья, забот много. Это мой старший – Изосим. Привёз знакомить.
– Хорошо делал. Друг друга знать надо.
Быстро перекусив, Орон, рассказал, что в стойбище приезжал человек из исполкома. Уговаривал перейти на жительство в деревянную избу возле какой-то культбазы. Говорил, что в избе тепло, детей будут учить писать буквы и из бумаги про все узнавать.
– Что ты ответил исполкому? – насторожился Бюэн.
– Сказал: «Эвенк не может жить избе. Эвенку с оленями кочевать надо. Не поедем! В чуме жить будем».
– Хорошо сказал. Избу за стадом не повёзёшь. Олень без кочёвки умирай.
– Эвенка учить исполком не может, исполком не знай, как тундра жить, как олень пасти, как чум ставить. Чему исполком учи? Как он ходи, как он живи? Эвенк нельзя живи так. Эвенк умирай такой жизнь, – не вытерпела, вмешалась в разговор жена Бюэна – Ирбэдэ.
– Когда уезжал, шибко злой был. Сказал: «Ты не эвенк, ты кулак. На тебя упряжку найду». Отец, он что, из нас оленей хочет делать?
Бюэн расстроился.
– Эвенк не будет оленем. Такой позор наш род не надо. Уходить будем. Далеко уходить. Пусть исполком сам оленем будет.
– Еще шаман Оргуней приезжал. Ругал, что ты ехал лучу* звать. Сказал, что больсевики всех шаманов убьют. Тогда жизнь кончится.
– Жадная ворона много каркает. Десять оленей дали – не лечил. Корней хорошо лечит, олень не просит.
* * *
Запущенные болезни поддавались лечению с трудом. Ослабевшие животные, особенно быки, продолжали умирать.
Корней нервничал, а Изосим, напротив, втайне даже радовался, что задерживаются. Жизнь в стойбище ему всё больше нравилось. Он легко освоил язык, перезнакомился и подружился со сверстниками. Играл вместе с ними, смотрел за стадом, ходил на охоту. Особенно привязался к Васкэ. Несмотря на разницу в возрасте (Васкэ 17, а Изосиму только 14), они сразу подружились.
Бабушка Ирбэдэ не могла есть оленину, и ребята специально для неё ходили за тетеревами. Молодой эвенк охотился не с ружьем, а с луком Хэгды, подаренным дедом после смерти дяди. Большой, почти в рост, лук для упругости был оклеен оленьими сухожилиями. Натяжение тетивы было столь велико, что она звенела от малейшего прикосновения. Оттянуть такую тугую тетиву непросто, зато и стрелу она посылает на высоту парящего орла.
Колчан для стрел был красиво вышит. Наконечники у них выкованы из гвоздя. Хвостовое оперение устроено так, что в полете стрела начинает вращаться, как пуля, вылетевшая из ствола нарезного оружия. Это придавало ей устойчивость и точность стрельбы.
Неслышно ступая мягкими ичигами – легкими кожаными сапогами, перехваченными сыромятными ремешками по голенищу, Васкэ мог подойти на расстояние выстрела к любой дичи.
Изосим в первый же выход понял, почему его двоюродный брат предпочитает промышлять луком, – от ружья много шума. А с луком тетеревов сколько надо, столько и настреляешь: птицы шею вытянут, посмотрят, куда сосед упал, и продолжают кормиться дальше.
Изосиму тоже нашли лук, правда поменьше. У него бой был слабее, и мальчику приходилось подкрадываться к тетеревам поближе. Те нередко пугались и отлетали вглубь леса.
Ребята не только охотились. Они помогали и по хозяйству. Много времени занимало изготовление деталей для нарт. Делали стойки, обтесывали, загибали березовые жерди для полозьев, резали тальник для каркаса. Упряжь мастерили женщины.
Запрягают оленей предельно просто: широкая ременная петля надевается животному на шею, пропускается под ногой и, через баран, возвращается к другому орону. Если один из оленей тянет не в полную силу, второй, добросовестный, сейчас же оттягивает ремень вперед, и лентяй попадает ногами под наезжающие нарты. Поэтому оба вынуждены тянуть на равных. У северных оленей очень ветвистые рога и, чтобы они не цеплялись за напарника и ветки деревьев, их укорачивают ножовкой.
Готовя Бюэна к предстоящей экспедиции, обитатели стойбища работали, не покладая рук. Они понимали, что если выполнят все условия договора с топографической партией, то род хорошо заработает.
* * *
Перед сном, когда бабушка Ирбэдэ закуривала длинную трубку, вырезанную из мамонтовой кости, внуки начинали крутиться вокруг и просить:
– Расскажи, бабушка, сказку. Расскажи!
– Кыш, кыш, комары, налетели на старуху. Вот я вас прутом!
Дети смеялись и опять просили: «Расскажи, хоть одну». Они знали, что у бабушки в памяти их такое множество, что до утра хватит.
– Ну, ладно. Сегодня расскажу про умного охотника и глупого медведя.
Малыши придвинулись к бабушке поближе. Изосим и Васкэ, хоть и были уже почти взрослыми, тоже подсели.
Ирбэдэ глубоко затянулась и, выпустив струю дыма, начала говорить:
«Шел по тайге старый охотник. Смотрит, лежит медведь и стонет: деревом его придавило. Обрадовался охотник – большая добыча! А медведь говорит ему:
– Лежачего не бьют!
Подумал охотник и согласился – дерево убрал, медведя спас. А медведь бросился на охотника и давай его душить.
– Ты что же, за добро злом платишь?
– За добро всегда платят злом! Ты что, не знал?
– Погоди, медведь, давай спросим встречного. Каждый скажет: за добро платят добром.
Пошли они по тайге, а навстречу им идет старуха. Платье в заплатках, ичиги рваные.
– Скажи, бабушка, чем платить надо за добро – добром или злом?
– Злом, злом,– закричала сердито старуха. – Вот я работала у богача, старалась, а когда ослабла, состарилась, он выгнал меня – хожу теперь побираюсь!
– Слышал?! – обрадовался медведь и еще сильней стал душить охотника.
– Постой, давай спросим у высоко сидящего, – простонал охотник.
– Скажи, дятел, чем за добро надо платить – добром или злом?
А дятел не обращает внимания. По-прежнему сидит на дереве и долбит, только щепки летят. Охотник и говорит медведю:
– Дятел плохо слышит, надо нам показать ему, как дело было.
Лег медведь, и охотник тут же придавил его толстым стволом. Медведь заохал:
– Что так стараешься? И так видно, как было.
– Пусть так и дальше будет, – засмеялся охотник.
Хотел медведь подняться, а дерево тяжелое – не пускает.
– Нехорошо ты поступаешь, человек, убери дерево, хватит – отпусти!
– Нет, – ответил охотник, – полежи, подумай хорошенько, чем надо за добро платить – добром или злом? – и ушел домой».
– Так ему и надо, – сказала младшая внучка Инэка. С ней все согласились и радовались, что охотник так умно наказал неблагодарного хомоты.
Бабушка уже хотела лечь спать, а дети принялись её уговаривать:
– Ну, бабушка, ну еще хоть одну, самую короткую.
– Устала я.
– Ну, пожалуйста, расскажи, – хором заканючили дети.
– Ладно, расскажу про песца и зайца. Только больше не просите…
«Песец и заяц, оба белые и пушистые, как братья, дружно жили в одной норе, а на охоту ходили в разные стороны. Песец как-то спросил зайца:
– Скажи, что ты ешь?
– Ем траву, тальник, кору осины, – ответил заяц. – А ты что ешь?
– Я ловлю мышей и птиц. Пойдем со мной на охоту, будешь есть мою пищу.
– Нет, у меня чистые зубы, не буду пачкать кровью.
Осерчал песец на зайца.
– Трусишка ты, а я-то думал – настоящий охотник. Уходи от меня, больше не попадайся – съем!
Испугался заяц, убежал.
Собрал песец свою родню, хвалится:
– Зайчишку-трусишку я выгнал из своего дома – плохим он оказался охотником!
– Хорошо ли ты поступил? Не прогневать бы хозяина тайги. Надо его спросить.
Пошли песцы к медведю, а заяц уже там, жалуется.
Медведь спрашивает:
– Почему ссоритесь? Оба одинаково белые, живите дружно, как братья!
Песец ответил:
– Он плохой охотник. Посмотри на его зубы.
Косолапый поднял зайца одной лапой за уши, а второй верхнюю губу старается задрать, чтобы зубы посмотреть – разорвал ее. Кинулся бедный заяц убегать, да медведь лапой за хвост поймал. Дернулся заяц – хвост и оторвался. Прячется теперь перепуганный заяц по тальникам. С тех пор уши у него длинные, верхняя губа раздвоенная, хвост совсем короткий».
Ребята посмеялись и довольные легли спать.
* * *
Наконец наступил день, когда Корней вздохнул облегченно – перестал хромать, спотыкаться последний олень. На стадо теперь приятно было смотреть: упитанные, с лоснящимися боками, красавцы. Над широко раскинувшемся по заснеженному пастбищу шерстистым ковром стоял перестук ветвистых рогов оленух (быки сбросили рога еще в конце осени, после гона).
Исполняя команду Бюэна, стадо окружили собаки и с лаем погнали их на свежую, с нетронутым ягелем, марь. Живая лавина хлынула, пощелкивая копытами, вдоль края леса на новый выпас. Передние летели, словно ветер, вытянув длинные шеи. Только снег разлетался во все стороны, да выдуваемый из ноздрей пар легким облаком тянулся за стадом. Нет в этом суровом крае более быстрого и более приспособленного к местным условиям животного, нежели северный олень.
Убедившись, что болезнь побеждена, Корней сказал сыну:
– Собирайся, сынок. Завтра едем домой.
Заметив, как скуксился Изосим, отец невольно вспомнил то время, когда сам прожил в стойбище почти год:
– Что пригорюнился? Неужто по дому не скучаешь?
– Тута, тятя, некогда скучать.
– Остаться хочешь?
Изосим встрепенулся:
– А можно?
– Ладно уж, погости еще. Только не своенравничай, слушайся старших, – пряча улыбку, ответил отец, собиравшийся осенью опять приехать в стойбище.

